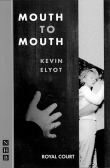Текст книги "Кладовка"
Автор книги: Владимир Домогацкий
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 11 страниц)
В действительности жить с ними мне было трудно и становилось все трудней. В любом разговоре, естественно, можно задеть случайно неизвестные собеседнику темы, это бывает буквально со всеми, и нормальные люди едва ли обращают на это внимание. Случалось и мне в разговорах со сверстниками задевать нечаянно подобные темы, но мои пролетарские сотоварищи воспринимали мои слова в подобных случаях как мое желание похвастать своими познаниями. Сначала я ничего не понимал, такая подоночность была мне непостижима, когда же я стал понимать, получилось еще хуже, так как в разговорах я стал осторожничать и вообще изворачиваться, а это не могло не влиять на искренность отношений.
Я был мальчиком из культурной среды, и потому те или иные интересы у меня смогли проявиться и легче и раньше, а те или иные сведения доходили до меня не только из книг, но и понаслышке от окружавших меня людей. Во всем этом моей заслуги почти не было, исключая, может быть, присущее мне любопытство, хорошую память и мою впечатлительность. Я очень хорошо понимаю, что сведения, которыми я обладал, совсем чепуховые, что в действительности я малообразован, – так понимал это все я, так или еще суровее оценивали это мои родители и так оно и было в действительности. Но мои пролетарские сотоварищи относились к этому иначе. В этих слоях в те годы было даже преувеличенное почтение к культуре при полном непонимании, что это за зверь и как с ним обращаться.
Мою же культурность, мои познания и даже мои способности они до смешного преувеличивали, создавая образ, мало похожий на действительный. Созданный ими образ, по-видимому, был весьма малосимпатичен, обладал, надо думать, разными сомнительными качествами, но главное было в том, что я в их представлении был неким почти патологическим существом, обладающим исключительными возможностями в таинственном царстве культуры.
Разобрался я в этой бредовой нелепости с большим трудом и, понятно, не сразу. Возможно, что по дороге, не понимая, сделал даже какие-то ляпсусы, но корень зла был отнюдь не во мне, а в них; молчал я или говорил, они все равно любое мое проявление воспринимали по-своему.
Я не думаю, что все они относились ко мне плохо, едва ли это было так, просто я их чем-то смущал, а некоторым из них, может быть, было трудно примириться с таким положением вещей.
Вероятно, со временем все это как-то сгладилось бы, утряслось, тем более что благодаря своей общительности я даже подружился с некоторыми из них, но, к сожалению, педагоги сильно испортили и усложнили мое положение.
Педагогический состав в этой школе по гуманитарным дисциплинам был новый, только что испеченный, весьма элементарный, а по настроениям своим глубоко советский, благодаря чему публика эта не понимала, что происходит в реальной действительности того времени. Эти полуобразованные, наивные до глупости, идеально умонастроенные люди умилялись на мою культурность, на мои познания, то и другое приписывали моим способностям и излишне болтали на эту тему.
В результате надо мной разразилась совсем неожиданная катастрофа.
Аттестацию успехов за предпоследнюю четверть Резчик провел способом, необычным даже для тех времен: вынес этот вопрос на всешкольный референдум. Называлась фамилия очередного ученика, затем педагоги давали оценку его познаний и способностей. Далее старосты классов, члены учкома и, если это оказывалось нужным, члены бюро комсомола давали характеристику политической и гражданской сознательности подсудимого. Далее начинались прения, и любой из присутствующих в зале имел право высказать свою точку зрения или добавить известные ему подробности из частной или школьной жизни разбираемого персонажа. К чести этой публики следует сказать, что добровольцев из зала находилось не так уж много. Однако мы кое-что все-таки узнали. Например, что одна девочка написала свое сочинение не самостоятельно, а в ходе прений мы обогатились сведениями, что списывание есть часть того наследия, которое нам досталось от прошлого и которое будет в дальнейшем искоренено.
Далее директор резюмировал все, что было сказано, и предлагал резолюцию, которая и ставилась на голосование всего зала. Словом, все преимущества демократии при гегемонии рабочего класса здесь были налицо.
Зал был набит до отказа. Там были ученики всех классов, начиная от нашего шестого и до выпускного. Все сидели на длинных скамьях, поставленных, как в любительском театре. На эстраде за длинным столом сидели активисты, учкомовцы и директор. Там же находились и учителя. Весь этот римский цирк начался с утра и затянулся до позднего вечера.
Опять с этой эстрады пытались любой вопрос поднять до должной политической высоты, заострить и профильтровать в свете мировой революции. Опять ораторы вскакивали, кричали, возмущались, угрожали и резали, как положено, ладонями воздух.
Чувствовалось, что будничная обыденность разбираемых прегрешений и подвигов, а главное, однообразие характеров подсудимых было совсем никудышным сырьем. Все это связывало ораторов, не давало проявить себя в полном блеске. Но здесь приходил на помощь более опытный Резчик. Ожидавшие очереди предстать пред всенародным разбирательством, естественно, волновались, волнение передавалось от человека к человеку. Выкрики ораторов наполняли зал, воздух ощутимо густел, и туг очередь дошла до моей персоны. Я оказался не только подходящей для них пищей, но и лакомым блюдом.
Преподаватели сносно оценили мои успехи, а учительница по литературе, похвалив мою учебу, не придумала ничего лучшего как сказать, что по развитию я на голову возвышаюсь над классом.
Это было как раз то, что нужно, то, чего как раз не хватало, это был уже настоящий товар, и на него набросились.
Последней была опрошена преподавательница обществоведения, дисциплины, которая тогда представляла из себя изуродованную историю. Это была рыхлая немолодая особа с низким голосом, с ухватками нигилистки, почти непрерывно курившая. Она в общих чертах, но более сдержанно подтвердила оценку литераторши. С ней как с партийной, как со своим братом церемониться уже не стали, на нее прямо набросились.
Что именно говорилось на эстраде, за общим шумом разобрать было невозможно. Я видел, что ее обступили, что все говорят одновременно, что в воздухе мелькают руки и что она сама кричит истошным голосом и тычет в физиономии оппонентов горящей цигаркой. Потом в наступившей паузе я увидел, что она окончательно струсила и уже только оправдывается и ссылается на меня же, говоря, что не раз-де указывала мне, что я «недооцениваю роль классовой борьбы в истории крестовых походов». Потом взял слово один из вождей – высокий юноша с открытым лбом и светлыми волосами. Одернув гимнастерку и кашлянув, он сказал, что комсомол и общественность считают, что я стремлюсь занять некое внеклассовое положение, что это есть буржуазный анархизм, что я самый настоящий представитель буржуазии, разбитой, но не добитой, что я и есть тот самый внутренний классовый враг, с которым надо не только бороться, но которого надо уничтожать.
Потом возник другой оратор, чернявый, плотный и темпераментный, он оказался ко мне еще более строгим, но не соглашался с предыдущим по вопросу буржуазного анархизма, и все опять пришли в такой азарт, что руки с растопыренными пальцами лезли им прямо в морды. Между прочим, этот оратор клятвенно заверил собрание, что рабочий класс не потерпит, чтобы кто-то вообще выделялся.
И пошло, и пошло. Ораторы-старшеклассники сменяли друг друга, и ни один из них не сказал обо мне ни единого доброго слова. Потом вдруг все неожиданно оборвалось, выдохлось, и в наступившей паузе мне предложили что-либо сказать.
Положение было трудное, в накаленной атмосфере этого собрания говорить по существу было бессмысленно, да и что я мог сказать этой публике, но молчать тоже было нельзя, и я решил парировать самое мне противное и сказал: «В определении моей классовой принадлежности допущена ошибка, к буржуазии я не принадлежу и не принадлежал, отец мой всю жизнь работал, по профессии он художник-скульптор».
Боже, какой свист, хохот и улюлюканье покрыли мои слова. До сих пор Резчик только дирижировал этим побоищем, но тут уже вышел на авансцену и, запустив пятерню в копну своих черных волос, поправил прическу, расставил широко ноги и, глядя сосредоточенно в пол, обдуманно и веско резюмировал: «Все ясно, товарищи, чья голова выше, ту мы и будем сечь» – и так свистнул ладонью по воздуху, что я ощутил, как моя голова оказалась «в ящике, скользком на самом дне».
Он сказал, что, учитывая мою неподходящую идеологию, ставит на голосование предложение о моем исключении из школы без права поступления куда бы то ни было в дальнейшем. «Мы не хотим, чтобы такие учились в наших школах, мы не можем себе позволить роскошь оснащать познаниями чуждую нам, враждебную буржуазную идеологию, с которой нам предстоит в недалеком будущем последняя и решительная схватка».
За это предложение поднялось море рук, их и считать-то было бессмысленно. Мне было очень неловко, я старался не смотреть по сторонам, боясь встретиться взглядом с кем-либо из знакомых, но это была совсем излишняя щепетильность. Сидевший со мной рядом сердобольный Володя К. не только изо всех сил тянул вверх свою ручонку, но еще и опирался на мое плечо. Он хотел, чтобы все видели, что он со всеми, что вопросы дружбы ничто по сравнению с интересами класса.
Даже сидящая на эстраде учительница литературы, заварившая отчасти эту кашу, теперь покрасневшая пятнами, затюканная и перепуганная, вытирая платочком слезы, отвернувшись, подняла руку за мое уничтожение.
На улице лежал мартовский снег, мои шаги оставляли черные следы на тротуаре Калошина переулка. Я знал, что дома отнесутся ко мне с большим сочувствием, что все случившееся как-то уладится, но все-таки на душе у меня было неважно.
Весь путь по Калошину, а затем по Арбату мимо лавок и магазинов, людей и трамваев был мне тяжел, давило воспоминание об этом зале. Его густой воздух соткался из чего-то поначалу вполне пустякового, вроде игры, и лишь потом перерос в накаленную одержимость. В нем кишели бациллы возведенной на трон злобы, в нем было какое-то исступленное умопомешательство, бездомное, серое, липкое, душащее. Воздух этот, густея, превратился в тело огромной амебы. Ее слизь заполнила все пространство, она уперлась в наши глаза, залезла в ноздри, в уши, облепила все наше тело, мы задыхались в ее испарениях. Амеба эта была невидимым, но реальным чудовищем, пожалуй, в смысле реальности с ней ничто не могло конкурировать, в жизни она ощущалась постоянно где-то здесь, рядом с тобой, но именно тогда, на этом собрании, в этом зале, я впервые был так весь целиком в ее власти, и это было страшно.
Сам же казус с моим исключением ликвидировался довольно легко – папа, сообразив всю эту историю, переждал день и пошел объясниться. Для этого он оделся демонстративно по-старорежимному. Надел крахмальный стоячий воротничок, не забыл и изумруда на пальце.
За день обстоятельства сильно изменились, случилось что-то, что испугало Резчика. Он, видимо, понял, что несколько поспешил, что общество еще не вполне созрело для римского цирка, в особенности если в роли жертвы фигурирует четырнадцатилетний мальчик.
Разговор был совсем коротким. Резчик просил папу не настаивать, чтобы я продолжал обучаться в этой школе, откровенно сознавшись, что это «поставит его в неудобное положение». Постановление же общего собрания как мираж растворилось в пространстве, и я формально по собственному желанию ушел из этой школы и перешел после каникул в другую.
Через день или два после этого собрания я встретил на улице священника, которого помнил столь же давно, как себя самого. Если я чего-то не путаю, именно он и крестил меня. При встречах со мной он всегда задавал мне несколько стереотипных вопросов, а выслушав равнодушно мои ответы, сурово от меня отворачивался.
На улице он казался чем-то совсем независимым и ни с чем окружающим не связанным, он казался таким абсолютно одиноким, словно был единственным гражданином неведомого гражданства. Был он высок ростом, болезненно худ, стар, сед и сердито, неприязненно мрачен. Морщины на лице у него были глубокие, резкие, нос клювом и маленькие колючие глаза.
Столь же равнодушно встретились мы и на этот раз на углу Трубниковского, батюшка, как всегда, спросил:
«Ну, как живешь?»
И я сам не знаю, что на меня нашло, хорошо понимая, что случившееся со мной никак рекламировать не следует, вдруг бухнул этому столь мало располагавшему к себе человеку:
«Из школы меня исключили».
Батюшкины брови нахмурились.
«За какие же это художества, позвольте узнать?»
Я, поперхнувшись, ответил:
«За неподходящую идеологию».
Батюшка еще помрачнел.
«Это как же понимать, ляпнул что-нибудь лишнее?»
«Да нет, я молчал».
Наступила пауза, и батюшка, смотря на меня сверху вниз, сверля колючими глазами, сказал:
«Что же, так и сказали, что идеология не такая, как нужно по ихним правилам?»
«Да, так и сказали».
«По-русски они говорить не умеют. Обрадовались непонятному слову и суют его куда ни попадя». А после паузы, вздохнув, добавил: «Что же выходит: молчишь – худо, говоришь – и того хуже. Что же такое у нас с тобой получается? Видимо, брат, как на нас ни смотри, не подходим мы к ним, и баста».
Я взглянул на него и увидел, что никакой неприязненности в нем нет, был он сурово, мужественно прост, и мрачность его обычную сейчас как бы рассек, как бы свел на нет острый, сверкающий и просветленный взгляд.
«Только ты вот что – не унывай, не расстраивайся. Это им надо расстраиваться, что звероподобие свое идеологией называют. Да и у зверей, пожалуй, не так подло, как у них, получается. Мне уже это все ни к чему. Я, видишь ли, совсем умирать собрался, а тебе жить и жить еще, и унывать не нужно. Радоваться нужно, что на них не похож. Плюнь, брат, проживешь и без них». И, приподняв за подбородок мою голову ледяными тонкими пальцами, батюшка перекрестил меня и добавил: «Не вечно же муть эта будет. Доживешь еще до других времен, тогда и меня вспомнишь. Ну, Христос с тобой».
Глава III
Жизнью в подлинном смысле для моего отца была лишь его жизнь в мастерской, все остальное было подспорьем, аккомпанементом. Он говорил:
«Надо, чтобы в мастерской было все в порядке, остальное рано или поздно приложится».
Порядком в мастерской для него была удачно двигающаяся работа.
Мастерская была не только помещением для работы, но и соучастницей в ней. Соучастие принимал тот особый и неповторимый творческий воздух, та рабочая красота, которая делает мастерские некоторых художников столь незабываемо прекрасными.
В подлинном творчестве всегда есть элемент чуда, и потому места, где столь определенно свершается чудотворство, есть всегда места особые, места заповедные.
Папина мастерская была для всех нас центром нашей жизни.
Для мамы так было потому, что она любила отца и, несмотря на ее нескрываемое безразличие к изобразительному искусству, понимала, какое значение искусство, а следовательно, и мастерская имели для него. Она с большим вниманием и любовью относилась к жизни мастерской, была в курсе всего, что там происходило, всегда готова была в чем могла оказать посильную помощь, но «творчество и чудотворство» затрагивали ее не непосредственно, а лишь в той форме, в какой это отражалось на состоянии папы.
Для меня мастерская была центром потому, что то, что там происходило, было мне важнее всего в жизни. При папиной жизни я бывал в мастерской лишь в качестве гостя, и, несмотря на это, она была для меня тем родным домом, о котором говорилось ранее. Ее воздух, ее запахи были атмосферой моего детства, моей юности, моей молодости. Любая другая атмосфера казалась мне менее благоприятствующей.
Мастерская была хороша всегда, в разные времена года и в разные часы дня и ночи, и всегда она была хороша по-разному.
Зимой в теплом, нагретом калориферами воздухе сильней ощущались ее запахи, такие умиротворяющие, такие родные, так сросшиеся с представлением о жизни и счастии. Собственно, это была мудренейшая смесь запахов скипидарных лаков, мокрой глины, масляных красок, разогретого воска, мастики и парафина. Запахи эти наполняли мирную рабочую тишину мастерской. За восьмиметровыми по длине окнами лежали навалы снега, а за ними – серо-лиловые облака с затерявшимся в них багровым угольком заходящего солнца.
Летом закатное солнце полыхало по огромной этой комнате тлеющими квадратными лоскутами. Квадраты вытягивались, становились ромбами, ромбы превращались в ни на что не похожие пятна, они заляпывали подставки, скульптуру, переползали по полкам и стенам, забирались на потолок. В этот час хорошо было, забравшись на высокое окно, выйти за его растворенную воротину на метровый по ширине карниз и сидеть там на опрокинутом ящике вместе с папой, глядя на замирающий над приарбатьем день. День, в котором было много хорошего и плохого, день, который, как всякий день в жизни человека, должен быть благословенным. Из этого дня, как бы там ни было, но уже прожитого, уходило солнце, и взамен ему земля начинала нас завораживать темнеющей зеленью своих садов, прохладой и их долетающим до нас ароматом. Глядя на дали приарбатских крыш, мечталось о дальних дорогах, о путешествиях, о свободе.
Солнечный диск, отказываясь от своего благожелательного расточительства, без особого сожаления отступал от мира, и к его прощальному жесту примешивалась уже нотка безразличия. Диск этот спускался за сине-зеленую дымку Дорогомилова, и наступали те кратчайшие мгновения, когда город светлел, выцветал, терял контрасты.
Между тем вечерело, свежело, откосы домов слегка лиловели, и то тут, то там над зеленью садов зажигались в окнах огни, прозрачные, слабые, нематериальные. Кто расскажет о них и как о них рассказать?
На нереальных, дымчатых, растворяющихся стенах появляются, возникают по чьей-то воле и словно повисают над миром эти еще более нереальные удивительные светлячки. Свет этих окон неопределим и неуподобляем, он слишком прозрачен, в нем подозрительно много счастья, он почти не запоминаем и совсем не живуч. С ходом вечера от мгновения к мгновению он материализуется, золотеет, густеет, и чем темнее и неопределеннее становится мир, тем ярче над ним, тем сильнее сверкают торжествующие теперь веселые, победоносные окна. Но это уже не те удивительные нежнейшие светлячки. Теперь из погустевшего золотого света до меня начинает доходить свет чужих жизней.
Только теперь я начинаю понимать, что в окружавших меня каменных и деревянных разновеликих кубах под сложными конфигурациями железных крыш, за каждой еще недавно темной дырой окна была недоступная для меня жизнь. О, как тянуло меня к этим жизням, как верил я в их неисчерпаемую глубину, как стремился всмотреться в них. Но что там можно было увидеть, лишь движения, лишенные фабульной осмысленности, кадрированные рамой окна. Силуэты людей, беспощадно обкромсанные этой кадрировкой. Индивидуальное угадывалось там только через специфические ритмы движения людей, но с меня хватало и этого, толчок для фантазии был дан, и обрывок реальности, одухотворенный почти наобум, ничего не теряя, погружался в неизвестность – в тайну.
В этих окнах мужчины все что-то куда-то складывали, а женщины все что-то перетряхивали и что-то перестилали. Их движения казались бормотанием в бреду, а осмысленность была подобна толчению воды в ступе.
Если бы у меня была возможность достаточно ясно разглядеть содержимое хоть одного окна, все получилось бы иначе, но я видел тысячи освещенных окон, обрывки движений, дышал прелестью этих жизней так же, как дышал прохладой этого вечера.
Когда мы спускались из своего заоконья в четко ограниченное обжитое пространство мастерской, оно оказывалось не таким уж четким, его границы скорее угадывались, оно было затянуто сумраком, в котором чернели провалы.
Через раскрытые двери маминой спальни из столовой лился яркий электрический свет. Мама устраивала чай, и оттуда слышалось веселое позванивание чайной посуды.
После путешествия над городом, над его крышами, над жизнями, под ними заключенными, процесс чаепития как бы продолжал путешествие, подобно тому как чаепитие в кают-компании океанского корабля продолжает твое продвижение по водам.
Звонок случайно забредшего гостя мог быть тоже продолжением путешествия при условии, что этот гость обладал особым миром и умел приносить его с собой.
Любил я мастерскую и в поздние вечерние часы, точнее говоря, в ночные, когда замолкали коммунальные звуки, когда весь дом уже спал. Папа, кутаясь в рваное домотканое, еще адампольское, пальто, сидит в кресле за письменным столом, я – у торца стола, на стуле для посетителей. Мастерская погружена во мрак, только свет из-под зеленого абажура настольной лампы освещает идеальный порядок этого стола. Тянется долгий, нудный, собственно, неизвестно когда начатый разговор; ныне эти разговоры от меня неотделимы, где они кончаются, где начинаюсь я – мне неизвестно. Тогда же это было иначе, тогда эти разговоры были неотделимы от светового круга из-под зеленого абажура, от слабо и мягко освещенной фигуры, кутающейся в рваное пальто, от тонущих во мраке скульптур. Точнее говоря, тогда эти разговоры были лишь частью атмосферы этой мастерской, даром немыслимой ее щедрости, жили в волшебном свете из-под зеленого абажура, в мерцающих полутенях и в черных провалах ее отдаленных углов.
Кроме огромного количества скульптур, заполнявших собой мастерскую и в подавляющем большинстве запрятанных или прикрытых, мастерская хранила свидетельства разнообразных папиных пристрастий.
Подставки и вообще все оборудование было там самого разного происхождения. Многое служило раньше другим скульпторам и даже скульпторам совсем другого поколения. Многое было привезено из Парижа и приобретено там на распродаже чьих-то мастерских.
К некоторым инструментам и даже к подставкам у папы было особое отношение. Для него они были как-то одушевлены и имели вполне индивидуальный характер. Подобное отношение к инструменту бывает у очень хороших мастеров-ремесленников, действительно любящих свое дело. Совершенно особое отношение у папы было к двум любимым пальмовым стекам, которыми он пользовался. Я думаю, что он ценил их не только за их мудрую красоту и пластичность, но и за то, что они как соратники прошли с ним вместе его рабочую жизнь. Он почти ритуально, с любовью тщательно мыл и протирал их после работы и ставил в майоликовую вазу над своим столом. Этим жестом заканчивался его рабочий день. Ему была неприятна мысль, что после его смерти может так случиться, что стеки эти попадут в руки человека, который будет с ними обращаться «по-свински», и они «запаршивеют» от налипшей на них глины. Но его любимый молоток и эти стеки от подобного гарантированы, они похоронены вместе с ним.
Ранее я писал, что мастерская отца и «сень тригорских лип», иными словами, адампольских, являются частями того целого, которое следует именовать моим родным домом. Так было и есть, но по поводу мастерской я должен оговориться. Речь идет лишь о мастерской того времени, когда там жил и работал папа. После его смерти в результате различных жилищных ужатий в эту мастерскую въехал я.
Если подходить чисто внешне, то от этого в мастерской мало что изменилось, я просто втиснулся туда; при большой величине этой комнаты мое присутствие и мои рабочие приспособления не могли повлиять на просторность мастерской. Ее простор каким был, таким и остался, а вот что-то другое ее изменило. Подходя опять-таки чисто внешне, можно говорить о том, что если живописная мастерская плохо сживается со скульптурой, то графическая и тем более. В занятии графикой есть некая мельтешня, для этого дела и куска стола достаточно, и в то же время захламить ею можно целую комнату.
Но такой внешний подход – это отговорка, никак не раскрывающая смысла явления, понимал я это и тогда, понимаю еще четче теперь.
Дело было в том, что мастерская была создана моим отцом и была выражением характера его дарования, его вкусов, привычек, образа жизни, его рабочего ритма. Именно в этом и заключалась ее особая прелесть, делавшая ее самое почти что художественным произведением.
Теперь обстоятельства сложились так, что туда въехал сын, сын, внешне очень похожий на отца, да во многом, пожалуй, и внутренне, к тому же этот сын ничего в этой мастерской радикально менять и не собирался, казалось бы, что для мастерской вариант получился наиболее удачный. Однако очень скоро этот сын, то есть я, стал ощущать, что своим присутствием он чем-то непоправимо испортил эту мастерскую. Ни я, ни моя работа не вписывались туда, мы находились в противоречии со всем, что было в этой мастерской, а она в свою очередь как бы хотела все время выплюнуть меня вместе с моим барахлом. Я сознавал, что правота лежит на ее стороне, но в то же время выплюнуться мне было некуда. Отсюда мое пассивное упорство и постоянное чувство своей виновности. Примирилась она со мной ненадолго во время войны, на короткий период воздушных бомбежек.
Ничто внешнее не заставляло меня высиживать эти ночи там, на последнем этаже одного из самых высоких домов приарбатья. Слушать, а иногда и видеть, как то там, то сям совсем недалеко рвутся фугасные снаряды, как тарахтят пулеметные очереди по железной крыше над моей головой, любоваться фейерверком трассирующих пуль, огнем пожаров и при всем том чувствовать себя если и не вполне спокойно, то, во всяком случае, очень и очень неплохо.
Я воспользовался возможностью хоть как-то сквитать наши счеты, и с души у меня словно камень упал. Мои тогдашние чувства, если бы их выразить словами, были бы примерно такими:
«Видишь, я не просто в тебе поселился, воспользовавшись случайностью права, наша связь старинная, исконная, естественная. Пришло страшное время, тебе угрожает опасность, и я тут, с тобой, если будет возможность помочь – помогу, а если тебе суждено погибнуть, то погибнем мы вместе».
И я сидел в глубине мастерской, привалившись к спинке дивана, покуривал, смотрел и слушал, как небо за огромным окном рычало, грохотало и вспыхивало, а временами и сотрясало дом. Понятно, что вышеприведенного дурацкого монолога я не произносил даже про себя, но чувствовал я примерно так.
Мастерская тоже молчала, к ожидавшей ее судьбе относилась с мудрейшим спокойствием. За ее молчанием можно было прочесть примерно такое: «Все правильно, иначе и быть не могло, твое место сейчас именно здесь».
Действительно, в эти ночи я чувствовал себя и на месте и при деле, но прошло время, и все стало по-старому. Опять основные обитатели мастерской продолжали враждовать со мной, их значимость, их целесообразная красота были несомненны. Любая подставка, любой инструмент, любая бутыль говорили об этом, однако они уже годами находились в бездействии, и то единственное, что составляло их жизнь, то есть использование их по назначению, делалось моей женой лишь в незначительной степени. Потому-то когда она там в это пятнадцатилетие хотя бы эпизодически, но все же работала, на душе моей становилось легче. Поэтому также я там с удовольствием занимался фотографией, с удовольствием формовал из гипса и грубо оболванивал камни для жены. Но все это были лишь паллиативы, не способные ничего изменить по существу.
Моя жизнь в мастерской была сожительством по принуждению; тем, что я там все же жил, я был как бы фактическим победителем, в действительности же я был побежденным.
Когда через пятнадцать лет нас выселили из Серебряного, моей мастерской стала комната в два раза меньшая и несоизмеримо менее красивая, но жить мне стало куда легче.
День начинался в нашей семье не раньше девяти. За кофе папа мельком пробегал газету, с тем чтобы основательно ею заняться потом, после работы. Как многие люди его поколения, он дня не мог прожить без газеты. Гласность в России прочно распространилась в эпоху молодости их отцов и с тех пор пустила глубокие корни. До революции для чтения газеты никакого особого умения не требовалось, в газете все было написано черным по белому, пробежав две газеты разных направлений, ты более или менее был уже в курсе событий.
После революции газеты заболели агитационным психозом, а с середины двадцатых годов их содержимое стало смахивать на бредовую трескотню маньяка. Развиваясь в бесконкурентных условиях, они превратились в орудие одуривания, оглупления читателя, чтение же их – в подобие решения задач с ошибочными условиями. Папа довольно скоро сумел приобрести необходимые навыки, научился читать как бы сквозь то, что там было написано, и, таким образом, кое-что из газет выуживать. Ничего оригинального в подобном чтении не было, не он один читал газеты подобным образом, но делал он это очень квалифицированно и добросовестно.
Потребность ежедневно читать газеты осталась от прошлого. Наши отцы ощущали себя частью всего мира и хотели знать, что в этом мире делается. Они понимали, что им теперь запрещают всякую связь с миром, что газеты преследуют цель скрыть от них любую форму правды. Понимать это они, конечно, понимали, но смириться с этим не могли и потому упрямо сверлили газетные простыни.
А я почти с детства ощущал себя объектом, на который направлены недоброжелательные стихии, направление этих стихийных ветров я ощущал непосредственно своими боками, так что никаких других ориентиров для меня и не требовалось. Чувствовать себя частью целого мира я не мог, так как о мире этом знал лишь понаслышке.
Кроме газет и собственных набитых боков, был еще и другой источник информации – это слухи. Источник этот обычно пользуется весьма скверной репутацией, однако в условиях этого полувека в России он оказался надежным. Конечно, слухи бывают весьма разного качества и столь же разного происхождения, вплоть до слухов, пущенных самой властью. Кроме того, слухи очень зависят от умственных качеств тех, через кого они прошли. Однако разобраться в этом возможно. Жизнь в конце концов научила нас этому.
Получается нечто весьма любопытное. Гласность в России создана поколениями моих дедов, и уже они не мыслили жизни без ее услуг. В этом смысле я по сравнению с ними основательно деградировал и больше смахивал на тех безграмотных деревенских мужиков прошлого века, которым для ориентира в жизни хватало собственной «поротой задницы» и недоверчиво, тупо перемолотых слухов.
Существенным делом для папы был выбор книг для чтения на ночь. Лучшим видом литературы для этого были книги по геологии, по фотографии, по технике, венцом же желаемого были книги о кристаллах и драгоценных камнях. Ни при какой погоде я этих книг, конечно, не читал. По этому случаю происходили такие разговоры: