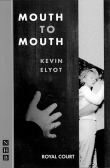Текст книги "Кладовка"
Автор книги: Владимир Домогацкий
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 11 страниц)
Блистательное мирочувствие этой живописи казалось тогда не только неисчерпаемым, скорее казалось, что оно лишь в начале пути, а сам этот путь открывал захватывающие дух перспективы.
На сегодняшний день все это звучит дико. Но стоит ли оправдываться, ведь таков я был тогда не один, и грешны в этом были не только некоторые из моих сверстников, но и большинство наших учителей.
При выборе художественной школы, в которой я хотел подучиться, чтобы поступить во Вхутемас—Вхутеин, надо мной, как всегда, ничего не довлело, и я выбрал школу, находившуюся в сфере влияния Фаворского. Это была маленькая студия, руководимая Павлом Яковлевичем Павлиновым. Чем именно руководился я, сделавший этот выбор, не берусь сказать. Чем-то тогда меня очень привлекало все, что было связано с Фаворским. Но главное было в том, что в те времена эта студия была и поярче и поинтереснее тех немногих подобных ей заведений.
Далее судьбе было угодно связать меня на целых десять лет именно со школой Фаворского. Зачем судьба не захотела освободить меня от столь чуждых для меня тенет, это ее дело. По-видимому, это была часть того искуса, который мне следовало одолевать, чтобы обрести хоть как-то самого себя...
Время, в которое протекало мое институтское обучение, было временем концлагерей, причем во всех формах и объемах. Началось оно задолго до этого и стало хоть как-то смиряться более чем через два десятилетия. Концлагерь был всюду, но самым тяжелым концлагерем для меня был мой институт.
Студийские и вхутемасовско-вхутеиновские времена вспоминались наивным и милым детством. Однако не следует забывать, что именно в их недрах создавалась «передовая» система и загнездилась школа. Мне кажется, что система – это нечто противоестественное, любая сверхпередовая система может существовать лишь весьма ограниченное время, далее она превращается в путы, в оковы. Системы, школы, художественные течения с ходом времени превращаются в ограничительные рамки, из которых искусство стремится вырваться. В условиях концлагерного режима они становятся страшным орудием в руках тюремщиков.
Мой институт проходил между тридцать вторым и тридцать восьмым годами, и говорю я лишь о себе. Как воспринимали его другие мои соклассники, я не знаю: чужая душа – потемки. Возможно, что мое восприятие института разделяли немногие, возможно, что большинство чувствовало иначе. Если даже среди взрослой, еще старой русской интеллигенции было немало таких, которые не понимали, что вся Россия уже давно концлагерь и что, следовательно, любое ее учреждение – это тот же концлагерь, но в меньшем объеме, то что же ждать понимания от двадцатилетних недорослей. Они были молоды, некоторые из них приехали сюда, в «великий центр культуры» – Москву, из своих медвежьих углов; некоторые москвичи по жизни дорвались до великого центра – школа, которой руководили столь замечательные люди. Жизнь била ключом, они были полны надежд, и далеко не всегда безосновательных, при таких предпосылках нужны очень, очень многие годы, а может, и десятки лет, чтобы хоть что-то понять. Нужно еще нечто, что скромно называется «понятливость».
С тех уже очень далеких институтских пор я твердо знаю, что слово «история» одно сплошное недоразумение.
Все формы удушения, террора, концлагерей создаются отнюдь не мановением чьей-то руки, не политиками, не правительствами и уж конечно не диктаторами. Создаются они всем обществом, скопом, коллективно. В концлагерях повинны и жертвы и палачи, более того, невозможно отличить палачей от жертв.
Тем, кому кажется, что он утверждает свою волю, те, кто теряет ее, – всем им уготовано одно и то же: сидеть за колючей проволокой.
Ни бунт, ни протест, ни слюнявая болтовня о свободе и демократии никого от концлагерей не уберегут.
Концлагеря, вернее, их составные элементы, надо изжить в себе всем людям скопом, коллективно. Изжить, как в отдельных жизнях изживаются чувства и настроения.
Десять лет я промаялся в этой своей школе. Я мало чему там научился, но я заматерел там, приобрел выносливость, окреп, возненавидел любую форму нормативизма, познал худший вариант одиночества на людях, отчасти ей я и обязан тем, что без нытья, с верой сумел прожить.
Тот день, когда мой институт вместе с Владимиром Андреевичем и его присными остался для меня позади, был таким днем в моей жизни, что и пытаться описать его невозможно.
Ранним июньским утром девятьсот тридцать восьмого года я пересекал огромное Вяземское поле.. Оно цвело всем, чем были тогда еще богаты подмосковные поля. Роса на высоких стеблях трав, окаймлявших дорогу, блестела, как бусинки. Я старался в такт шагам размахивать рукой и задевать влажную поверхность высокой травы.
Была рань, синеющее небо было туманно, облака на нем были прозрачные, легкие, как дымок. Еле заметный туман поднимался из дали лесов. «Экая славная минута».
<...>
Глава IV
В повествование о тридцатых годах я вклинил рассказ о годах своего учения, потому что они протекали именно в эти годы. Теперь же возвращаюсь к прерванному.
Еще с конца двадцатых годов миф о том, что сеть осведомителей настолько огромна, что ею все пронизано, что почти ни на кого положиться нельзя, миф этот превратился в непоколебимую уверенность и стал уже реальным фактом жизни. На кого только в те годы не тыкали пальцем насмерть перепуганные граждане: что «вот этот (или эта), абсолютно ясно, являются осведомителями». Несмотря на то, что осведомители были повсюду и часто ими могли оказаться люди совсем неожиданные, даже и тогда казалось, что их вездесущность явно преувеличена, не так уж они были нужны для жизни Лубянки, для ее дел, Лубянка прекрасно могла обходиться без них. Так что скорее всего это был миф, созданный самодеятельностью граждан и активно поддержанный властью.
Значение и последствия этого мифа огромны, они в большей чем что-либо мере затруднили возможность общения между людьми. Откровенность даже в сравнительно невинных вопросах стала чем-то рискованна, опасна, а далее, пожалуй, и невозможна.
В те годы казалось, что целиком положиться возможно лишь на совсем немногих людей. Безусловное, не вызывающее никаких сомнений благородство человека, бескорыстие, искренность, альтруизм – все это казалось гарантиями недостаточными, требовалось еще, чтобы человек был умен, ловок, изворотлив и чувствовал ситуацию, а сочетание таких качеств в одном человеке не часто встречается.
Так разрушались последние звенья соединительной ткани человека с человеком, так умирало окончательно общество, превращаясь в говорящих, как попугаи, разобщенных обезьян.
В описываемое время я был студентом и волей-неволей должен был ежедневно общаться с относительно большим контингентом людей, правда, в те годы посадки среди студентов были, по-видимому, единичными. Однако чем больше было людей, с которыми ты приходил в соприкосновение, тем больше увеличивались и шансы быть нащупанным соответствующим заведением. Попасть же в поле зрения этого заведения можно было по-разному, прежде всего по разверстке, указательный перст мог быть ткнут совершенно случайно в твое имя, с этим, понятно, ничего поделать было нельзя. Но могло быть и иначе, тоже благодаря случайности, но такой, в которой ты все же был хоть как-то не безучастен, такой, в которой роль судьбы взяли на себя твои собеседники.
Если оставить в стороне злобность, то есть что-то типа провокации или доноса – это надо в данном случае игнорировать, так как злобность свойственна всем вообще временам, одним более, другим менее, – то здесь говорить нужно лишь о неосмотрительности, наивности, легкомыслии собеседника. В твоем присутствии могло быть рассказано нечто неподходящее, или твои слова могли быть кем-то поняты неправильно и в таком виде запомнены. И вот человек, не желающий тебе дурного, даже искренне тебе симпатизирующий, повторит их где-то там, где делать этого не следовало, и все – мышеловка могла захлопнуться. Таких вариантов могло быть бесконечное количество. Спастись от них почти невозможно, тем не менее многие стремились избегать подобных ситуаций. Иными словами, стремились представить себя глупее, чем были в действительности, стремились так разговаривать, чтобы за их словами нельзя было увидеть хоть какую-либо мысль.
Здесь, естественно, приходит на ум классический стиль мужицкого разговора, где цель обратна смыслу этого самого Божьего дара, так как состоит в том, чтобы произнести как можно больше слов и в то же время чтобы в словах этих никакого смысла не было. Для того чтобы так разговаривать, надо обладать соответствующим даром, а дар этот, к сожалению, врожденный.
Впрочем, у подобного низкопробного стиля есть и более цивилизованная форма – это форма почти уже вымершего теперь так называемого светского разговора. Это разговор лишь на общепринятые темы и в общепринятой их интерпретации при обязательном соблюдении условия скольжения по поверхности. В переводе на язык современности это изложение сегодняшней передовицы газеты «Правда». Подобный стиль – это тоже издевательство над великим даром человеческого слова, это не только бессмысленная растрата, это уничтожение этого дара.
По первому взгляду может показаться, что я говорю о чем-то совсем незначительном, однако так ли это? Ведь если мы издавна хотим узнать, как и что объединило людей, создало то, что мы понимаем под словом «общность», и, далее, то, что мы хотим называть культурой, то, уж конечно, нам должно быть важно знать и обратное: что и как разъединяет людей, что уничтожает эту самую общность – культуру.
И вот, оказывается, сумей обесценить и обессмыслить человеческую речь – и ты разрушишь мир не хуже, чем при помощи расщепленных атомов, и все надо будет начинать сначала.
В тридцатых годах заметно улучшилось материальное положение творческих работников. Для большинства их как-то урегулировался вопрос с заработком, а с середины тридцатых годов они снова стали не только полноправными членами советского общества, но в известной степени привилегированными. На этом этапе житейские интересы творческих работников уже активно и твердо защищались властью.
Это улучшение материально-бытового положения писателей, художников, артистов, ученых и прочих шло параллельно с зажимом всякого творчества, с насильственным введением его в такое русло, в котором оно переставало быть творчеством, с убиением, уничтожением его. Получалось положение, при котором власть как бы говорила: «Мы даем тебе есть, а ты уж изволь делать то, что нам нужно, да и как нужно».
Конечно, это положение очень отличалось от того, что было раньше, в двадцатых – начале тридцатых годов, когда преобладающим отношением к деятельности творческих работников было равнодушие, когда чувствовалась, что сейчас «не до них», что дело их в лучшем случае третьестепенное. Теперь культурная деятельность получила права дворянства, а жизненные условия самих деятелей стали полегче, зато под понятием «культура», «творчество», «искусство» стало пониматься нечто такое, что ни с какой культурой, творчеством и искусством не сопряжимо. Если сами деятели культуры от всего этого в житейском плане, в плане честолюбия что-то и выиграли, то культура постепенно, но неуклонно полетела в тартарары.
Большинство ничего не поняло из того, что произошло, или поняло лишь с большим запозданием.
В те годы многими считалось, что есть какая-то возможность соединить нечто терпимое для власти и подлинное искусство. Актеры считали, что образ всегда остается образом, и сыграть его можно хорошо и плохо, а это уже зависит от меня, от моего дарования. Конечно, рамки теперь очень сузились, регламентировались, но ведь были же времена, когда рамки тоже были узкими, а от этого искусство никак не страдало.
Художники думали, что форма всегда остается формой, дело лишь в том, как ты ее сделаешь, что в нее вложишь, а это тоже зависит только от тебя. Даже Владимир Андреевич Фаворский говорил некоторым ученикам: «Почему вы избегаете этих тем, форма же всегда остается формой».
Писатели думали, что жизнь во все времена остается жизнью, люди всегда рождаются, растут, любят, не любят, работают, думают, чувствуют, болеют и умирают, об этом ведь никто не запрещает писать, и всегда можно написать так, чтобы избежать рискованных ситуаций. К тому же не все, что хотела от писателя власть, было уж так безнадежно нелепо. Таким образом, даже писатели думали тогда, что путь к литературе для них отнюдь не закрыт. Что получилось из всего этого – общеизвестно, да ничего другого получиться и не могло, никакое искусство не может развиваться на почве, пропитанной ложью, на подобной почве оно может лишь чахнуть и погибать.
То, что сделано в искусстве за это и последующее десятилетие такого, что может быть причислено к искусству, до смешного количественно мало. Сделано оно крохотной горсткой людей, чудом сохранивших душу живую, сделано наперекор власти людьми, ставшими сознательно спиной к этой власти.
Политика подкармливания интеллигенции началась с первых годов революции, цель ее была сохранить от вымирания эту особь. Теперь эта политика продолжалась, рацион количественно и качественно изменился, но цель была уже откровенно иная. Состояла она в том, чтобы впрячь творческую интеллигенцию в победоносную колесницу тех, кто стоял у власти. Наряду с подкармливанием существовало также давно и специальное прикармливание некоторых особо подходящих индивидуумов, но с тридцатых годов началось в этом вопросе нечто вроде как новое. Началась уже резкая внешняя дифференциация положения интеллигенции и размещение ее на различных ступенях иерархической лестницы. Теперь создавалась некая четко отграниченная верхушка, формально и внешне как бы приближенная к власти. Говоря старинной терминологией, был создан контингент, допущенный на большие дворцовые приемы, но на жизнь двора не влияющий.
Не знаю, надо ли напоминать, что ни папа, ни Крымов, ни Нестеров даже близко к этой публике не находились; они и кое-кто еще как были, так и остались единичными, отделенными, так сказать, сами по себе.
Не помню точно, но, по-видимому, в середине тридцатых годов с высоты олимпа прозвучали слова: «Жить, товарищи, стало лучше, жить стало веселее» – и сразу в государственном масштабе это отвлеченное положение стало доказываться на деле. Началась эпоха торжественных приемов, банкетов, чествований, юбилеев и прочего. Торжества эти устраивались на всех уровнях и по всяким рангам, на них на казенный счет уничтожалось несметное количество всякой жратвы и напитков.
Страна праздновала неведомо что, неведомо по какому случаю торжествовала и уж совсем непонятно кому воздавала хвалу. В это же время в застенках лубянок всех советских городов без счета уничтожали людей. В концлагерях гибли миллионы, и непрерывно по промерзлой земле черные жирные паровозы тащили эшелоны, подвозя на восток все новые и новые искалеченные человеческие жизни.
И именно теперь на торжественных правительственных приемах в свите палачей, в ее арьергарде шли грудастые актрисы, российские «витии» – сеятели доброго, вечного, ученые, киношники и разные другие. Они были трубадурами эпохи террора, их улыбающиеся физиономии говорили, что все правильно, все в порядке. В надежде попасть в трубадуры целая туча глаз человекоблядей, молящая, просящая, скулящая, была обращена вверх. К солнцу, к власти.
Что же это давало самим трубадурам? Вернее всего, что ерунду, нечто вроде государственного признания, столь ценимого творческими натурами, весьма сомнительные надежды, что в этом заключен лишний шанс, что тебя не посадят, некоторое количество объедков с хозяйского стола (не нужных, по существу, этой публике), а главное – это чувство своего превосходства над тем, кто не попал в эту свиту. Собственно, только последнее можно рассматривать как нечто реальное и по-своему стоящее, все остальное – фикция.
Боже, до чего противный осадок оставляли случайные встречи с этими вознесенными, и твоя собственная дурацкая радостная улыбка от встречи с близким когда-то человеком, и его поначалу ответная – все это вспоминалось потом с отвращением. Ведь ты теперь встретил совсем не то, всего лишь старую, когда-то знакомую оболочку, сундук, теперь набитый какой-то дрянью.
Понимали эти люди, сколь высокой ценой платили они за свое эфемерное положение? Едва ли, едва ли теперь они вообще что-либо понимали, они были уже и слепы и глухи. Даже подчас незначительную грань иерархического подъема выдерживали лишь совсем немногие, для большинства эта грань была началом духовного конца.
Начиналось с чего-то малого, с ерунды, с попытки найти твердую почву и опереться на нее, найти ее не внутри себя, а вовне, во внешнем мире, в узаконенности своего положения, с попытки найти свое место в государственном устройстве – словом, все начиналось с чего-то совсем невинного и вполне естественного. А дальше следовали попытки утвердиться на этой почве, страх за сохранность такого положения, а потом постепенно терялись связи с действительностью, с окружающим миром, собственная жизнь становилась вымышленной, фиктивной, абстрактной, здесь начиналось разложение, а на какой-то стадии – и духовная смерть. Это явление, мне кажется, положило предел возможности серьезного разговора о русской интеллигенции, ее как явления просто не стало. Существование ее в прошлом тоже стало казаться сомнительным. Ее историческое прошлое стало вспоминаться весьма несолидно, глуповато, слегка смешно, еще более – грустно и невероятно раздуто. От всего этого несло «овеян ико – куликовским», саморекламой и прочим. В те годы, когда я уже активно вышел в жизнь, никакой русской интеллигенции и в помине-то не было.
Кое-где в глубокой тени, в щелях подполья, жили отдельные люди, их число абсолютно ничтожно, люди, сохранившие до могилы свою душу живой. Ничего другого обобщающего продумать для этих людей нельзя, их связь с русской интеллигенцией – только разве происхожденческая, паспортная, анкетная принадлежность к тем или иным бывшим сословиям.
Когда по прошествии времени целая эпоха затянется туманом забвения, из него выплывут и станут видимы лишь эти люди, их дела, их имена.
Трудно, очень трудно вспоминать эти годы, слишком было все тяжело тогда, слишком туманно, неопределенно, отрывочно. Еще труднее их изображать, слишком уж были они грандиозны, вернее всего, по-настоящему их изобразить вообще невозможно.
Пожалуй, это лучше получится у тех, кто не видел ночного Арбата, обледенелого, заснеженного, уже заснувшего, с темными дымчатыми плоскостями своих разновеликих домов, с редко рассекавшими темноту и нескромно вытаращенными глазами освещенных окон. Арбата, на котором в этот час почти уже не было прохожих, когда по самой середине этой улицы, по белой его линии пролетали упористо, мягко и с бешеной силой стайки из трех черных как вороново крыло машин. Арбат, словно вымерший, словно попятившийся от ужаса, пропускал сквозь себя через равные интервалы стайку за стайкой эти летящие машины.
Там сидел он или они, те, которые приводили в исполнение смертный приговор над народом огромной страны, а может быть, и над всем миром, приговор, вынесенный неизвестно кем, неизвестно когда и неизвестно за что.
Арбат ночной, заледеневший, застывший, Арбат-пустыня и летящие по его мостовой черные силы – пожалуй, лучше тебя не помнить, а может быть, лучше даже о тебе и не знать.
Публикацию подготовила С. ДОМОГАЦКАЯ.