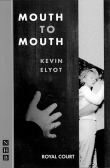Текст книги "Кладовка"
Автор книги: Владимир Домогацкий
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 11 страниц)
Однажды в тихом переулке близ Сивцева Вражка мы с мамой встретили оборванца, черты лица и походка показались знакомыми. Поравнявшись с ним, мама, вскрикнув от неожиданности, со словами: «Колюша, что за маскарад?» – принялась его целовать. Наша овация пришлась оборванцу явно не по душе, и, кое-как отшутившись, он постарался от нас отделаться.
Обеспокоенная этой встречей мама на другой же день отправилась к ним. Застала дядю Колю сидящим за обеденным столом, перед ним лежала стопка книг, он делал на них дарственные надписи. Такое занятие ввиду его предполагаемого отъезда было вполне естественно. Мама так зачиталась одной из книг, что почти не заметила, как дядя Коля вышел из комнаты и прошел к себе. Через несколько минут оттуда грохнул выстрел, вбежавшие увидели его распростертым навзничь поперек кровати.
Менее чем через час Алексей Васильевич Мартынов и сопровождавшие его врачи констатировали: пуля прошла мимо сердца, рана сквозная навылет, если не задета брюшина, то скорей всего обойдется и так, если же пуля задела брюшину, операция не поможет, – так эти дела понимали тогда.
Признак перитонита – кровавая рвота, она началась через двенадцать часов, а еще через сутки он в страшных мучениях умер.
Он принадлежал к «потерянному поколению», то есть к людям, родившимся в девяностые годы. Правда, Гертруда Стайн не произнесла тогда этих роковых слов, правда и то, что судьба этого поколения у нас в России сложилась куда посложнее. Их юность совпала с исключительным напряжением в жизни страны. Опасность, игра со смертью позволяет ощущать жизнь с удвоенной силой. Стремление к риску есть одна из форм жизнелюбия. Всего этого дядя Коля хлебнул в короткий срок слишком много, слишком даже для людей его поколения. Удивляться, что в двадцать четыре года он надломился, пожалуй, и не приходится.
Похоронили дядю Колю на кладбище Скорбященского монастыря, с тех пор повелись наши с мамой постоянные путешествия туда. Ездили на трамвае. Потом, через год, трамваи вышли из строя, ходили пешком, шестнадцать километров в оба конца, да еще на голодный живот. Потом опять ездили на трамвае, а еще позже ездил уже я один.
Зеленая лужайка перед монастырем. Уже здесь воздух был совсем не городской, а пройдя за краснокирпичную казенщину монастырских строений, я попадал в прекрасный липовый парк. Народу там ни души. Под сводами лип тишина, зажатая сумраком, говорит о другом порядке бытия, города как не бывало. За парком начиналось кладбище, в дубовый крест над могилой дяди Коли папа врезал старинный бронзовый образок.
Только отчасти я ходил навещать трагедию, в гораздо большей степени я навещал энергичное, волевое освобождение от всяческой шелухи. С годами парк поредел, стал проходным, дубовый крест подгнил и обрушился, восстановить его не было средств. В начале тридцатых годов мания перестройки уничтожила кладбище, и мне довелось в единственном лице присутствовать при эксгумации, а после сожжения того, что осталось, похоронить урну в Новодевичьем.
С тех далеких пор зародилось во мне недоверие к героике.
Грядущей зимы обыватели ждали со страхом, умные люди пророчили всякие ужасы. Холод, голод, репрессии стояли действительно на повестке дня.
Пыльные окна покинутых особняков тупо смотрели на улицу. В больших, многоквартирных домах наглухо забивали парадные подъезды. Теперь вход был через подворотню, и тогда открывалось уныние городских колодцев-дворов, безнадежность кирпичных брандмауэров, вонь помоек и обшарпанность черных ходов.
Еще весной, повинуясь поветрию, я со своим товарищем Сережей Р. и его сестренкой вскопал во дворе их особняка три грядки, дома нашлись огородные семена. Но в конце лета семья Р. уехала поближе к хлебу, особняк опустел. Осенью я пришел за своим урожаем. Две грядки были совсем пустые, а на моей росла чахлая ботва. Вышедший из избушки дворник мгновенно вытащил всю эту дрянь из земли, деловито отряхнул ее, завернул в газету и вручил мне, говоря: «Получай и питайся». При таких обстоятельствах я впервые включился в добывание хлеба насущного.
В это время с вопросом, как и на что пропитаться, дело обстояло сложно. У нас с деньгами было совсем туго, заработки отца с весны почти прекратились. В условиях растущих цен все равно любые заработки становились эфемерными. Мама не раздумывая продавала свои драгоценности, и мы как-то сравнительно нормально жили.
Если продажа имущества до некоторой степени отвечала на вопрос, как добыть деньги, то на другой вопрос – как и где достать продукты питания, отчасти отвечали спекулянты.
Спекуляция восемнадцатого—двадцатого годов явление совершенно исключительное. Боюсь, что потомство будет знать о ее деятелях лишь по плакатным штампам, и приблизительно не отражающим эти неповторимые персонажи. Никакая гипербола, никакая фантастика недостаточно крепки для изображения людей этого настоя.
Судя по внешности, насколько я вспоминаю, все они были ублюдками, но владели огромными познаниями в области элементарной психологии. Жизнь обожгла и закалила их, сделав идеальными инструментами для определенных надобностей.
Вы беспокоились за подорванные силы своих близких. Жизнь, как во время артиллерийского обстрела, держала про запас ежеминутные сюрпризы катастроф. При таком положении в ваших глазах ценность любого «эквивалента» становилась вопросом третьестепенным. «Оставляй на столе то, что ты принес, бери в обмен то, что тебе нужно, а главное, поскорее уходи». Одно дыхание этих людей отравляло воздух.
Моя мама поражала своей расточительной сговорчивостью даже видавших виды спекулянтов, они любовались ею. Ей было абсолютно ничего не жалко, лишь бы сохранить улыбчивость жизни.
<...>
Глава V
Обвалом пришла на нас зима девятнадцатого года. Страшна была и сама зима и время, оно глядело на нас с безобразной по своей откровенности ухмылкой.
Словно замыслив недоброе, сообразило, что теперь церемониться уже нечего, что можно не лицемерить, и, заржав, показало клыки на глумливой своей харе. Правда, оно спохватилось, выдавать свои замыслы в расчеты его не входило, свершать же задуманное можно было#и с другим выражением лица.
За мою жизнь были времена куда хуже, и каждое показывало разный лик. Было, когда оно откровенно в огромных масштабах пожирало все вокруг себя, люди хрустели под его зубами, время чавкало, но тогда оно было занято делом, дорвавшись, нажиралось до отвала, и морда у него была тупо-серьезная, как у свиньи.
Голод наступил в эту зиму сразу, тоже обвалом. Без карточек уже ничего не продавалось, а по карточкам почти ничего не давали. То, что иногда, простояв несколько часов в очереди, получал, было почти несъедобно.
Спекулянты стали теперь редкостью, их с великим бережением передавали из рук в руки. Теперь, кроме спекулянтов и деревни, в Москве орудовали еще и мародеры особого рода. Это были служащие таких учреждений и в таком ранге, которым по штату полагалось получать особо большие пайки.
По своему составу народ это был разноперый, начиная от людей совсем темных и кончая хоть что-то относительно знающими. В основном это были приезжие. Войдя в доверие к власти, они получали большие квартиры, брошенные или реквизированные, устраивались с комфортом и вертели делами. Те из них, кто был поосведомленнее, устроившись, пускали в оборот свои продуктовые излишки и обзаводились павловской или ампирной мебелью, портретами чужих прадедушек, старым фарфором, серебром с гербами и пр. Словом, это был признанный законом «нувориш» времен военного коммунизма. Среди его представителей была весьма ощутима прослойка, несущая на себе печать недавней черты оседлости.
Все мы трое по-разному переносили голод. Я был мал, вероятно, мне требовалось немного. Ел я всегда и впоследствии очень сравнительно мало и легко мог прожить день или два без пищи вообще. Таким образом, я этот голод и последующий, сорок первого года, перенес совсем легко. В этом смысле я оказался похож на маму. Она страдала лишь от отсутствия сладкого, сама же голодовка не влияла даже на ее всегда хорошее настроение. На отца голод действовал очень тяжело, но, как это ни странно, этот голод излечил его от многих болезней, портивших ранее ему жизнь.
Помимо физической, в голоде есть и другая сторона: он чудовище, и особенно всматриваться ему в глаза не стоит. Тем, кто не знает, что это такое, мне не объяснить, а те, кто голодал, поймут меня сразу.
С началом зимы пришел и топливный кризис. Теперь обитатели приарбатья облюбовывали для жилья самую маленькую каморку. Предметом мечты стала ванная с колонкой, но так как такая благодать была не у многих, обзаводились железными печурками, носившими название буржуек и пчелок.
Коленчатые черные змеи труб поползли по квартирам, ядовитая черная жижа закапала из змеиного тела, портя вещи и отравляя воздух. Воскрес древнерусский призрак угара, и стали уже поговаривать, что смерть от угара не так плоха, что посещают тогда человека чудные сновидения.
В буржуйках и пчелках сжигали мебель и вообще все, что подворачивалось под руку, настоящие дрова были редкостью, доставать их было сложно, к тому же стоили они баснословно.
В насквозь промороженных домах была реальна угроза, что выйдет из строя водопровод и канализация, и действительно около трети домов приарбатья лишились этих даров цивилизации.
Зимовать мы перебрались в детскую. Эта небольшая комната выходила в переднюю, ту и другую по возможности утеплили коврами. В детскую поставили мамину кровать, тахту для отца и мне маленький будуарный диван. В передней сделали что-то вроде столовой или приемной. Все стены сплошь завесили картинами, получилось даже красиво. В маленькой комнате поставили железную печку, ставшую на всю зиму центром нашей жизни. Печка была на ножках, толста, тупорыла и смахивала на черную свинью. Ее хвост питоном поднялся под потолок и полез, тараня стену, в направлении дымохода. Зев печки папа выложил кирпичами, а ее верхняя плоскость раскалялась подчас докрасна. Золотое пламя полыхало в печке, весело потрескивало, сжигаемое блаженное тепло разливалось в пространстве, маленькая черная свинка энергично противоборствовала лютой стихии. Она сгала четвертым членом нашей семьи. Одушевленность ее для меня была несомненна.
А снаружи за окном бушевала не только стихия зимы, но и стихия власти. Она на всех ступенях иерархической лестницы сыпала как из пулемета декретами, указами, приказами, постановлениями. Там было все: начиная от конкретных нужд сегодняшнего дня до попыток тут же путем указа построить совершенно новый мир. Только бессилие власти осуществить эти постановления еще как-то спасало население от полного истребления.
Если вообразить невообразимое, то есть собрать воедино все приказы, в правовых рамках которых должна была жить Москва этой зимы, то очевидно оказалось бы, что гражданин вообще не имел права что-либо делать кроме как околевать от голода и холода.
Эти приказы родила стихия, а стихию мерзило от вида живого человека. Человек же хотел во что бы то ни стало жить и делал все, что ему было необходимо, махнув рукой на всяческие приказы и на последствия, проистекающие от их нарушения. Неуважение к закону родилось из его противоречивости и невыполнимости.
Помимо непосредственной опасности, которая проистекала из этих указов, было и нечто другое: они родили как бы ощущение неполной законности самого факта твоего существования. Обстоятельство крайне существенное, значение которого осознать довелось лишь значительно позже.
То, о чем я говорил выше, имело все-таки форму вполне определенных документов, но кроме этого еще существовало весьма ощутимо и нечто расплывчатое, неопределенное, я имею в виду то, что называлось революционным большевистским самосознанием. Это нечто зависело от умственных, культурных или моральных качеств его носителей. При соответствующем стечении случайных и неблагоприятных обстоятельств вы могли попасть в зависимость от вдохновенного произвола дикаря.
В соответствии с остальным действовали в ту зиму и эпидемии, среди них наибольшим престижем пользовались испанка и тиф. Чуть не ежедневно приходили известия, что что-то с кем-то случилось, то с близким знакомым, то с человеком, которого вы знали, или с кем-то, о ком знали лишь понаслышке.
С кого-то сняли на улице шубу, кого-то выселили из квартиры, кто-то тяжело болен, кто-то умер, у кого-то был обыск, кто-то посажен в чрезвычайку, кто-то расстрелян; кто-то, просто не выдержав, как Стахович, покончил с собой.
В такой обстановке жили более или менее все люди близкого нам круга, одним было по каким-то причинам полегче, другим потруднее.
И образовался в ту зиму некий вакуум, не помню, сколько времени он продолжался, вероятно, недолго, недели две, может, месяц, и понятия не имею, с чем он был связан. Вдруг как-то оборвалась ниточка, связывающая тебя с другими тебе подобными. Наступило разобщение, и пустота начала покрываться льдом. Люди, живущие за два переулка от нас, оказались за тридевять земель, вне пределов досягаемости. Когда вакуум лопнул, распался, появлялись словно после кораблекрушения, исхудалые, изменившиеся. В их глазах читался вопрос: живы ли все? Как-то в конце этого вакуума в дверях появилась волосатая и бородатая голова философа Николая Александровича Бердяева, родителей дома не было. Тогда я уже начал болеть болезнью, портившей мне жизнь на протяжении двух десятилетий, болезнь эту Булгаков приписал Понтию Пилату и назвал ее гемикранией. Но запах роз тут был неповинен. В эти времена цветы вообще были забыты, а их запахи и тем более. Мою болезнь называли тогда малярией, но от этого мне было не лучше. Я принимал Николая Александровича за ломберным столом в передней, голова моя раскалывалась надвое, гость временами плавал в тумане. Глядя на меня и предавшись ходу собственных невеселых мыслей, философ заплакал. Он задирал голову, отворачивался, но поняв, что привести себя в порядок он уже не может, встал, вмонтировался в свою шубенку, нахлобучил меховую шапку, погладил меня по плечу и молча ушел.
Под стать всему была и улица, заметенная снегом, в огромных сугробах, пустынная. Отступившие за сугробы дома смотрели пыльными мертвыми глазницами. Было тихо, трамваи со своими звонками ушли в небытие, лошадей почти не было, лишь изредка безобразно гремел спешно ковыляющий грузовик.
Бесцеремонно обнажились для всеобщего обозрения потерявшие свои заборы сады приарбатья. Зима еще кое-как защищала их целомудрие, но, занесенные снегом, они все же избороздились пешеходными тропами, внесшими исправления в коммуникации проходных дворов. Знакомые улицы и переулки стали иными, словно то, да не то. Только по-прежнему из глубины садов с вершин лип с гомоном поднимались тучи ворон и галок. Когда к концу дня небо, подмазанное клюквенным соком, светилось сквозь черные ветви деревьев, становилось совсем неприятно.
По-прежнему нерушимо стояли лишь разбросанные по приарбатью церкви, по-прежнему сияли их купола, по-прежнему плелась их пол у во сточная архитектурная вязь. Стояли они заметенные сугрббами, покрытые шапками снега, под охраной лип прицерковных дворов. По-прежнему с первым ударом колокола с колоколен слетали птицы, по-прежнему гудели или весело перезванивали колокола. Молчал лишь Кремль, самые чтимые храмы России стали теперь недоступны для москвичей.
Мерцали огоньки свечей и лампад, сверкали на ризах, дробясь, переливаясь, бежали вверх по резьбе алтарной преграды туда, где все растворялось в синих струях света.
Церковь молилась почти так же, как два тысячелетия назад, и произносились там все те же слова, огромные и неизносные. В дни небывалой дешевизны слов, в ожидании времен, когда слова вообще потеряют смысл, церковь говорила понятиями точными и огромными.
Слова, идущие от истоков христианства, произносились в церквах Москвы и в четырнадцатом веке, и в страшном шестнадцатом, и во время последней московской чумы в восемнадцатом веке, произносились в тех же церквах и часто в том же окружении. Теперь, в эту зиму, знакомое вчера, слишком знакомое, приобретало характер почти откровения.
Дьякон во время литургии воздвигает моления:
«О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды, Господу помолимся», «Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью».
И звенят голоса хора:
«Господи, помилуй»,
«Дне всего свершенна, свята, мирна и безгрешна у Господа просим».
И в синюю высь уходят голоса хора:
«Подай, Господи»,
«Христианския кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны и доброго ответа на Страшном Судищи Христове просим»,
«Подай, Господи».
Вот именно «непостыдной кончины мирной». Боже мой, какой реально понятный, насущно важный смысл приобретали слова эти для вчера еще легкомысленного и равнодушного слуха. И опять дьякон, подняв перстами орарь наподобие крыла серафима, возглашал:
«Ангела мирна, верна наставника, хранителя душ и телес наших у Господа просим».
Старая жизнь улицы постепенно совсем умерла. Улицы стали большими дорогами, необходимыми коммуникациями. Мертвые лавчонки с ободранными вывесками напоминали о прошлом, ставшем далеким и малоправдоподобным. На улицах не было гуляющих и зевак, все куда-то спешили с рюкзаками, сумками, салазками. И внешне публика посерела, одежонка старая, дооктябрьская, чуть-чуть нелепая, и уже стало казаться, что одежда простонародья как-то добротнее, оправданнее, уместнее и потому, пожалуй, даже красивее.
Именно в эту зиму увиделось, что в жизни случилось что-то радикальное, что-то сошло с нарезки, и приарбатские улицы и переулки, запутавшись в собственной сети, пошли блуждать вслепую. Сослепу они натыкались на каменные стены домов, поворачивали в сторону и машинально описывали петли. Скособочившаяся жизнь двигалась, ковыляя, по одной оси, а улицы блуждали по другой. С этого началось разобщение с местностью.
Обитатели муравейника вдруг в силу каких-то причин превратились в другой вид насекомых, обладающий другими особенностями и потребностями, старый муравейник они могли лишь использовать, в целом он уже совершенно не соответствовал характеру жизни этих новых насекомых.
Моя школьная жизнь продолжалась, но обрела она в эту зиму те формы, в которых и пребывала до конца моего среднего образования. Ходил я в школу, когда мне вздумается, часто по неделям сидел дома или выполнял какие-то функции, к науке отношения не имеющие. Сколько я ни пытался сосредоточить свое внимание на том, что говорилось в классе, ничего из этого не получалось. Как ни страшна была жизнь, но все в ней было так глубоко, так значительно, а то, что говорилось в школе, было так плоскодонно, так ни к селу ни к городу.
Я был маленьким мальчиком, меня посадили за парту, заставили слушать, слышанное запомнить и затем повторить, но именно слышать-то я и не мог. Как только начинался разговор про какого-то идиота, вышедшего из точки А, я мигом выключался и оказывался во власти своей фантазии.
Я видел, что мои школьные дела запутываются, что учителей моя деятельность просто пугает, и честно старался как-то вслушаться, вникнуть в то, о чем говорилось, но чем больше я старался, тем меньше у меня это получалось. И все же бывали часы, когда совсем помимо моей воли что-то в моих ушах прочищалось, тогда я слышал урок и так же помимо воли запоминал его от первого до последнего слова. Учителя издавна остерегались меня вызывать, но все же это случалось. Иногда случайность падала на счастливо запомненный мною урок. Отсюда пошла репутация способного, но лентяя – и то и другое неверно. Из школы я не вынес никаких познаний и нисколько об этом не жалею, единственно что меня сильно стесняет и по сей день, это моя феноменальная орфографическая безграмотность.
Окончил же я среднюю школу лишь благодаря тому, что на моем пути попадались учителя, почему-то подозревавшие у меня наличие каких-то скрытых достоинств.
В эту зиму мои выходы во внешний мир носили самый разнообразный характер. Не раз случалось мне бегать по отцовским поручениям в Румянцевский, в Третьяковку, к кому-нибудь из скульпторов, преимущественно живущих неподалеку; приходилось выстаивать в бесконечных очередях за хлебом, за постным маслом, а к весне, когда отцу стали давать академический паек, то и за ним. Знаменитый этот паек – понятие не стабильное. Он варьировался во времени и имел разные категории. То, что мы получали, было хорошо, но абсолютно недостаточно. В эту зиму я припоминаю себя, везущего на дровяных санках какую-либо поклажу. По разъезженному снегу санки идут хорошо, но там, где проступала поверхность булыжной мостовой, их уже не протащишь, идешь, приглядываясь к особенностям поверхности, и варьируешь дорогу. Что-то носить на себе или возить на санках было в те годы как бы функцией обывателя, мне это занятие даже нравилось: цель его ясна, а польза для всех несомненна.
Довелось мне в ту зиму получать как-то разовый паек даже в реввоенсовете. В этом помещении совсем недавно была, очевидно, самая обыкновенная обывательская квартира. Теперь в заставленных столами комнатушках галдели и суетились служащие, угарно дымила кирпичная развалюха печка. Из-за стрекочущей пишущей машинки стриженая девица кричала по-попугайному: «Веня, откройте форточку, мы здесь задохнемся!»
Хлопали двери, кто-то надрывался у телефона. Достоевский, без которого на Руси ничто не обходится, сработал и здесь. Оказалось, для того, чтобы вынести паек с территории этих зданий, нужно иметь пропуск, а для пропуска нужно иметь документы, коих у одиннадцатилетнего мальчика быть не могло. Сразу возник принципиальный содом, дискуссия звенела на все голоса, и я явственно уловил слова «удостоверение личности». Почему-то меня это слово сильно задело, и не раздумывая я вмешался в спор, заявив, что «личность моя присутствует собственной персоной, и никакие бумажки не могут сделать факт моего существования более действительным». Выступление мое было беспомощно глупо и вообще не нужно, но произвело оно буквально сенсацию. Кто-то протяжно засвистел, кто-то даже схватился за голову, а кто-то по-мефистофельски захохотал. Из соседней комнаты выскочило начальство специально на меня посмотреть, узрев, изрекло: «Ну и ну!» – и, тряхнув косматой головой, включилось в дискуссионный галдеж.
Все это были относительно молодые люди, вероятно, и без моего содействия они понимали, что что-то не совсем так, ведь мир спятил с ума сравнительно еще недавно.
Темп в работе отца, взятый в предреволюционные годы, продолжался и после революции, но в эту зиму он заметно спал, сил уже явно не хватало. Все же папа поставил в мастерской хрохотную чугунную печку в форме цилиндра, отопить шестидесятиметровую мастерскую она не могла, около нее можно было греться как у костра. В сфере ее теплоносности он вырубил из мрамора и алебастра несколько вещей по старым этюдам обнаженного тела. Рубка из «камушка» позволяла ему хоть на время выключиться и почувствовать, что он все же живет на свете.
Как все тяжелое, зима эта тянулась долго, но так же, как все, прошла наконец и она, солнце опять водопадами полилось в огромные окна нашей квартиры, ее ледовые просторы постепенно оттаяли, затворничество наше окончилось. Кажется, никогда в моей жизни приход весны не был столь животворен, с уходом зимы началось некое подобие жизни.
<...>
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Глава I
В эпоху так называемого нэпа жизнь подавляющего большинства интеллигенции как-то наладилась, вошла в берега. Не говоря о столь ценимых в те годы инженерах, даже обыкновенные служащие зарабатывали достаточно. Люди свободных профессий тоже приспособились к новым условиям, а некоторые из них существовали почти роскошно.
Что касается самого существа деятельности интеллигенции, то на первых порах в первые годы нэпа здесь все обстояло вроде как благополучно. Многие преграды, которые существовали благодаря рутине старого режима, рухнули вместе с революцией, а новые еще не успели укорениться или еще только нарождались. Так что большинство интеллигентов тогда с успехом могли заниматься своим делом. Вся эта публика во многих поколениях была воспитана на вражде к старому политическому строю России, напичкана идеями «свободы, равенства и братства», помешана на уверенности в собственной ценности, на том, что она «соль земли», что ее дело учить, просвещать народные массы и даже давать советы самой верховной власти.
Что же, описываемый период устраивал более или менее большинство интеллигенции. Тогда у верхов власти, да, пожалуй, и не только у самых верхов, стояли не ненавистные самоуверенные тупые царские бюрократы, а люди более или менее интеллигентные, с которыми сговориться всегда было возможно. Учить, просвещать было не только возможно, но за это даже платили, равенства и всяческой справедливости было, пожалуй, даже с излишком, во всяком случае на словах. Кошмары военного коммунизма кончились, и большинство было уверено, что это уже навсегда. Так что живи, работай и жди еще лучших времен. Правда, со свободой творилось нечто нелепое, но это стремились не замечать, к тому же людям хоть сколько-то образованным было известно, что само-то понятие это до того странное, что даже философия в лоб к нему подходить не решается. Правда, и советов по серьезным вопросам верховная власть у интеллигентов не спрашивала, но с этим уж, хочешь не хочешь, приходилось мириться.
Так что в те годы приятие советской действительности было, пожалуй, доминирующим настроением среди русской интеллигенции. Уже сплошь да рядом раздавались фразы, что все случившееся надо принять не только как исторический факт, но елико возможно к этому случившемуся приспособиться, внутренне сжиться с ним, что надо идти в ногу со временем, что надо мыслить более крупными категориями. Даже в начале тридцатых годов многих интеллигентов буквально корежило, как только они сталкивались с критическим отношением к существующему.
Подобное отношение к жизни в те годы имело бесчисленное количество оттенков, перечислить даже те полутона, которые мне были хорошо видимы, я, естественно, не могу.
Все ли русские интеллигенты были таковы? Конечно, нет. Среди них были и люди совсем другого плана, их было в двадцатые годы не так много, но они все же были. Это были люди, которые ни себе, ни другим не замазывали глаза на происходящее, люди, которые стремились, насколько это было возможно, трезво оценивать окружающее. Сказать, что они предвидели то, что нас ожидало в дальнейшем, я не могу, но люди эти понимали, что разрушительная стихия не исчерпана, а механически загнана вглубь. Понимали они и то, что если вчера злоба и ненависть могли свободно развиваться на поверхности, то сегодня они должны были все-таки считаться с новыми обстоятельствами и по возможности не выходить за грани оставленных им властью русел, что от этого человеконенавистничество не только не ослабло, а скорее наоборот: настой его становился все гуще. Перед этими людьми стоял все время вопрос, сумеет ли власть обуздать эту стихию и хочет ли она действительно серьезно ее обуздывать.
Люди эти смотрели на все виды мимикрии, приспособленчества, с омерзением и видели выход лишь в том, чтобы елико возможно оградить себя и свое дело от воздействий извне. Собственно, отсюда и пошли истоки того явления, которое впоследствии получило название внутренней эмиграции.
Настоящая эмиграция, отъезд на Запад, в двадцатых годах была в том кругу, в котором я жил, явлением сравнительно единичным. Большинство окружавших нас людей предпочитали встречать лихолетье у себя дома. Помню возмущение Бердяевых, когда их и целый ряд лиц правительство высылало в административном порядке за границу.
Как ни единична была тогда эмиграция, все же она смыла с горизонта нашей семьи многих близких людей, и, как оказалось, смыла их для нас навсегда. С ходом времени утрата многих из них оказалась весьма ощутимой.
Тема жизни людей в действительной внешней эмиграции мне неведома, зато я могу рассказать о явлении, кажущемся мне не менее любопытным, – о реэмиграции.
С начатом нэпа стати появляться многие старые знакомые, о которых давно уже ничего не было слышно и которые стати как-то позабываться. В свое время бежали они из Москвы от страха надвигавшегося голода, в чаянии где-то спокойно отсидеться. Теперь одиссея их окончилась, возвращались они из бывших когда-то хлебных губерний, в которых теперь добывать хлеб было весьма затруднительно, из Крыма и с Кавказа, до которых докатились они с лавинами отступающих белых армий, и даже с Принцевых островов, на которые я уж и не понимаю, как их занесло. В большинстве случаев их бывшие обитатища оказались занятыми, а имущество, пусть нехитрое, но все же необходимое, оставленное на попечение доверенных лиц, оказалось расхищенным. В условиях кочевой жизни в захолустье им пришлось так перефасонить свои специальности, что стали они хлебодобывающими. Теперь, очутившись опять в Москве, они с места в карьер должны были обивать пороги в каких-то заплеванных учреждениях с надеждой добыть хоть некое подобие домашнего очага и хвататься за первую представившуюся возможность как-то рентабельно применить свою специатьность или за неимением таковой хотя бы свою интеллигентность.
Москва, в которую они теперь вернулись, была не той, из которой они бежали: коченеющая, умирающая, насмерть напуганная большевистскими декретами, – совсем не той знакомой, родной дореволюционной Москвой, в которой им так легко когда-то жилось. Теперь это был совсем другой город – нэповский, в котором намешано было всякого. И вот здесь-то им предстояло начать жизнь чуть ли не заново, не имея опоры в потерянных первоначальных позициях. Но со временем все это как-то утряслось, и жизнь вошла хоть и в новые, но все же в какие-то берега.
Внешне публика эта выглядела полинялой, облезшей, вроде как опростившейся, и, глядя на них, думалось: «Неужто они такими тусклыми, будничными были и раньше?» Но и это со временем, в годах как-то сгладилось. Но кое-что, отличающее их от тех, кто сидел все время на месте, осталось в них навсегда. Это кое-что было чем-то глубоко внутренним, я не умею эта назвать иначе как образованием души. В этом-то образовании у них навсегда остался некий пробел. Многое можно понять уразуметь с чужих слов и даже при помощи книг, но уразуметь – это не пережить. Вот этого пережитого, что входит как компонент в образование души, у них как раз и не хватало. Странное дело. Ведь, казалось, пустяк. Человек всего-навсего два-три года отсутствовал, к тому же годы эти здесь, в Москве, были трудные и страшные, ведь казалось, что слава Богу, что кому-то удалось отойти на время в сторону и там переждать, но на самом же деле оказывается, что совсем это не так. Оказывается, что есть такие эпохи, такие года, такие события, которые, как бы страшны и трудны они ни были, исключительно важны именно для души человека. Именно в такие времена что-то совсем безотчетно нами понимается, что-то в нас складывается, спрессовывается. Правда, в подобные времена надо суметь выжить, что трудно, не отупеть и не сдаться, что, понятно, еще труднее.