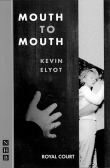Текст книги "Кладовка"
Автор книги: Владимир Домогацкий
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 11 страниц)
Эти материальные передряги были пережиты папой исключительно тяжело, настолько, что во времена самого лютого послереволюционного безденежья он при одном только воспоминании об этих давно уже бывших передрягах дергался. Потеря после Октябрьской революции всякой имущественной базы, и Адамполя в частности, была воспринята им с полнейшим безразличием. Со словами: «Туда и дорога, давно пора». К слову сказать, в папином отношении к этому вопросу нет ничего оригинального. Я хорошо знал самых различных представителей этого сословья, как тех, для которых их земля была лишь источником материальных благ, так и тех, для которых этот источник был родным домом, знал я и таких, кто всю свою жизнь ухлопал на хозяйственные заботы. Все они потерю земли восприняли пассивно и как-то равнодушно, исключение составляли лишь редкие «зубры»-помещики, вышедшие из крестьян. Остальные же были людьми интеллигентными и к потере своих «бывших привилегий» относились как к чему-то давно предрешенному. Литературный советский миф об озлобленности на власть людей исконно помещичьего происхождения за то, что у них что-то отняли, – это классовая ограниченность, просто авторы этого мифа судили по себе. Нелюбовь к новой власти могла быть, но совсем по другим мотивам.
Возвращаясь ко времени, когда папа остался лицом к лицу с Адамполем, добавлю, что папа утешался лишь временным компромиссным решением. Жить мы будем там лишь летом. В хозяйственных делах папа не будет участвовать. Это целиком ложилось на плечи мамы и нашего управляющего. Часть адампольского дома приспособят под мастерскую, где папа будет лепить. Папа Адамполь не любил. Он давно уже соединил мысли о нем с мыслями о своем материальном разорении. Теперь же он согласился, живя в Адамполе, исполнять роль официального представителя. Он говорил: «В каждой уважаемой помещичьей семье есть всегда старший родственник на ролях официального главы. В действительности это «идиот в колясочке», при всяких официальных церемониях его вывозят, ему оказывают знаки уважения, а он должен всего лишь присутствовать и увозиться обратно. В хозяйственных делах Адамполя роль такого идиотика мне подходящая».
Земля в тех местах плоская. Огромные массивы почти нехоженых лесов прорезаны озерами. Поля, луга, много болот, бедные деревни, разоренные имения. Небо в тех местах кажется огромным, рисунок облаков – хрупким, постоянно изменчивым, чем-то похожим на перламутр. Глушь там в те времена была страшная, тишина мертвая; казалось, что ты на краю света или на дне морском.
К этим краям очень шли песни местных девушек, похожие на завывания, и вполне натуральный вой волков, под осень подходящих к самой усадьбе.
Отец, всей душой привязанный к горячо им любимой Малороссии, так никогда и не смог полюбить печальной и скудной природы Адамполя.
В большинстве нечерноземных губерний России земля давала мало дохода, на заведение какой-либо промышленности у большинства помещиков не было оборотного капитала. Они бились как рыба об лед, выкручивались как могли и наконец прогорали. Имения одно за другим продавались с аукциона за неуплату процентов по закладной. Отсюда частая в тех местах смена владельцев, отсюда и постепенное разорение имений. И отсюда же тот пестрый состав помещиков, совсем не похожий на культурную среду Полтавской губернии, среди которой вырос отец и которую считал своей родиной.
Большинство наших соседей по Адамполю были людьми неинтересными, скучными, а подчас и просто неинтеллигентными, погрязшими в тине жизни, озабоченными мелочными нуждами. Помню одного из таких, с пышной, видимо, местного происхождения, фамилией – Гедройц-Юрага, суетливого искательного поляка, с гонором и дурно воспитанного, настолько дурно, что это замечал даже я, маленький мальчик. Смутно помню и его поэтическую усадьбу, и дом с гнездом аиста на крыше.
Единственная семья, с которой мои родители поддерживали постоянные отношения, были наши соседи Глебовы. Глебов был типичным русским интеллигентом, служил в Витебске инспектором гимназии и только лето проводил с семьей в Домниках. Внешность Глебова была соответствующая, он был неизменно серьезен, на мясистом носу – пенсне с обязательным шнурком за ухо; костюм сидел мешком, а брюки напоминали гармошку.
Я хорошо помню домниковскую усадьбу, совершенно разваливающийся дом, окруженный остатками хозяйственных построек, и большой запущенный сад, сбегавший к реке. В самом доме было пустынно и по-интеллигентски безбытно. Хозяева казались постояльцами, притулившимися как пришлось. Помню и обязательный в таких усадьбах зал с полусгнившими полами, и кучи яблок, наваленные по углам, а в окнах – красивый сумрачный сад. Была в этой усадьбе какая-то щемящая грусть, подобная той, что чувствуется в Кистеневке Дубровского. Трагедия, разыгравшаяся там, всегда ощущается мной как знакомая. Это неудивительно, так как подобных усадеб Пушкин видел немало, тем более что от описываемых мной мест до Михайловского не так далеко.
Не понимаю, как папа, такой чуткий и восприимчивый, не поддался редкому очарованию адампольской усадьбы. Думаю, что он просто боялся ее полюбить, твердо уверенный, что рано или поздно Адамполь постигнет участь Запселья, Морозовки, Таловой и других гнезд нашей семьи.
Построенная в самом начале девятнадцатого века, адампольская усадьба почти не подвергалась модернизации, только деревья поднялись выше, а постройки почернели от времени и глубже ушли в землю. Незатейливая и скромная, совсем небогатая, она, как случайный остаток другой эпохи, другой культуры, лежала забытая среди лесов и болот, на самом краю мира. Звуком онегинских строф, этого евангелия помещичьей культуры, был пропитан каждый ее уголок. Там было все, что дорого сердцу деревенского анахорета. Тенистый парк и широкие лужайки, маленький копаный прудик, густо заросший по краям, задумчивый и романтичный, и яблоневый сад с корявыми, падающими от старости деревьями, с патриархальной полуразрушенной банькой, и гнезда аистов на вершинах огромных лип.
Раскинутая на сравнительно небольшой территории, она вся была обнесена частоколом, может быть, единственным, сохранившимся до двадцатого века. Он состоял из толстых кольев высотой не более семидесяти сантиметров и заостренных наверху. Были они вплотную пригнаны друг к другу и соединены врезанными в них шипами. В мои времена частокол этот почти весь сгнил и иструхлявился, накренился во все стороны, местами зиял пробоинами, серый до черноты, он покрыт был как корой пронзительно зеленым мхом и тонул в зарослях бурьяна. Удивительно вязался этот частокол со всем пейзажем усадьбы. Но особенно хорош он был в сочетании с липовым парком; его причудливые от времени, кривые, прерывистые зубчатые линии органически сливались с липовыми стволами деревьев и ослепительным золотом освещенной солнцем травы.
Парк в Адамполе был небольшой, разбитый по французской системе, то есть квадратами с лужайками посередине, его особенность была в том, что он разбит был двумя террасами на разных уровнях, террасы эти были соединены широкими замшелыми земляными ступенями.
Со стороны двора усадьба была окружена хозяйственными постройками, столь же старыми, как и все остальное, но еще крепкими и прочными. Далее шли избы «вспашников» и колодец журавлем. Кончалась усадьба большим проточным прудом – сажилкой, заросшей корявым и заржавленным ольшаником, а еще дальше была низина и начинались заболоченные луга. Там по осени, когда начинался отлет, садились аисты и бросали последний взгляд на усадьбу, где провели лето, чтобы унести это воспоминание к подножиям пирамид.
Теперь, по прошествии стольких лет, я догадался, почему мои родители постоянно ругали адампольский дом. Просто этот дом был создан для совсем другой жизни. Для жизни людей другой эпохи, совсем непонятного нам уклада, и этой жизни дом вполне соответствовал. К тому же адампольский дом умудрился также не претерпеть почти никаких изменений за всю свою долгую жизнь. Устраивающий людей своей эпохи, он был немыслимо неудобен, даже нелеп для людей двадцатого века.
Внешне адампольский дом был полностью лишен каких-либо элементов архитектуры как искусства. Фасадом он выходил на двор и был обсажен старыми березами, крыльцо поддерживали прямоугольные столбики-колонки, и если не считать, что окна были со ставнями и очень простыми наличниками, – вот, пожалуй, и вся его архитектура. Со стороны парка не было даже и этого, только окна там были гораздо больше да к дому была пристроена безобразившая его крытая веранда, впрочем, совсем простая. Веранда эта – единственная модернизация, которой подвергся адампольский дом в шестидесятые годы.
Комнат в доме было мало, и в то же время они были непомерно велики, все, кроме одной, проходные. Причем дом был так хитро спланирован, что изменить что-либо было нельзя, не перестраивая всего дома. Очевидно, что функции комнат в начале прошлого века были совсем иными. В нашем смысле в адампольском доме просто негде было жить. Удивляли и названия комнат, в особенности при их малом количестве. Так, единственная не проходная называлась девичья, далее следовали людская, зал, садовая гостиная, комната с аркой и так далее, все в таком же отвлеченном роде.
Обстановка и вещи, наполнявшие дом, были сбором всех частей и всех мастей, геологическим напластованием быта за срок более чем в столетие. Здесь так или иначе присутствовали все стили, бытовавшие за этот период, и надо признаться, что не лучшими представителями. К тому же все это были инвалиды, по их травмам можно было догадываться об их прошлом и косвенно о жизни людей, чьими спутниками они были. Из всего этого барахла резко выделялись лишь вещи из запсельского дома, попавшие сложным путем и в разное время в Адамполь. На них лежала печать иной, более высокой культуры. В целом стиль адампольской обстановки отражал безразличие к художественной стороне быта – характерную черту конца девятнадцатого века.
Адампольская усадьба была создана любовью и культурой, то есть извечными создателями всякого искусства. Если в наше время спланировать и разбить красивый парк могут лишь исключительно одаренные люди, единицы-профессионалы, которых мы пышно называем художниками, то уж такова была особенность начала прошлого века, что это было доступно обыкновенным людям, даже не догадывавшимся о том, что их деятельностью руководит Аполлон.
Мне не чуждо стремление моих современников бежать от тяготы жизни за подкреплением «домой». Родной дом мы все находим в нашем прошлом. Говоря словами Б. Пастернака, это ангар, в который мы залетаем за бензином. Мой родной дом – в воспоминаниях об адампольской усадьбе, о дорожках парка, о солнечной мгле московской мастерской отца.
Наши родные дома существуют лишь в нашем воображении. Не приведи Бог кого-нибудь посетить эти места в действительности. Собственно, это лучшее средство потерять их окончательна и навсегда. Они живут в нашем воображении как зачарованные замки, в которых входы заросли крапивой и лопухами, а внутои все так же неизменно дремлет в ожидании нас. В действительности все будет иначе: ни лопухов, ни крапивы нет и нет вообще ничего. Мы увидим, что этот пустынный мир не имеет к нам никакого отношения, одухотворить его заново мы не в силах. Наше собственное равнодушие поразит нас неизмеримо больше, чем то, что мы увидим. На счастье, жизнь застраховала меня от этой возможности: теперь, более чем через полвека, я случайно узнал, что на территории адампольской усадьбы выросло местечко в полторы тысячи дворов, что на месте старого дома стоит кирпичный двухэтажный клуб, что парка нет; вместо него там раскинулись больничные корпуса, и среди них одиноко доживают жизнь несколько никому не нужных старых корявых лип.
Глава III
Время отъезда в Адамполь возвещали мне голоса кур, которые вдруг, когда солнце все ярче и бесшабашнее начинало заливать огромные окна нашей столовой, начинали слышаться с мулицы. Неслись эти голоса из Кривоникольского переулка, из дворика при доме отца Алексея или из соседней с ним совсем крохотной лачуги просвирни, неслись они навстречу солнцу и лету. И в моем воображении сразу вставали березы со свежими ярко-зелеными листьями, разбросанными по голубому небу, и черные поезда, уходящие в синюю даль. То, что время неуклонно движется к отъезду, можно было заметить и раньше по участившейся переписке мамы прежде всего с нашим управляющим Индриком Индриковичем Сальменом. В письмах давались распоряжения по подготовке к нашему приезду. Также необходимо было узнать, нет ли в окрестных деревнях или в самом Адамполе заразных болезней или эпидемий, грозящих моей особе. А так как ближайший доктор был лишь в Полоцке, то есть за двадцать пять верст, приходилось беспокоить местного священника, единственную, так сказать, культурную единицу в округе, могущую быть в курсе этих дел. Но мамина эпистолярная деятельность возбуждала лишь рациональную сторону моего сознания, а слышавшийся в городском шуме куриный гомон действовал непосредственно через воображение; уловив его звуки, я знал, что отъезд уже начался, что я уже не совсем здесь и еще не совсем в Адамполе.
Покидая какую-либо местность ради другой, мы живем в этой другой в воображении, практически же мы теперь нигде не живем. Мир для нас теперь становится зыбким, а мы сами невесомыми. Нет никакой возможности сосредоточить внимание на окружающем, так как мы здесь сталкиваемся с тем, что оно теперь неуловимо и не до конца реально. Таким образом, уезжая, унести его мы можем лишь отчасти, и то в абстрагированном виде. Эта невозможность наглядеться на мир, который мы покидаем, запечатлеть его и оставить этим способом при себе делает его вдруг единственным и неповторимым. Слишком поздно мы узнаем, что расстались мы навсегда, меняются обстоятельства, меняемся мы, меняется то, с чем мы расстались. Если нам суждено опять встретиться, окажется, что мы встретились лишь со старым названием, которое надо заново обжить.
С каждым днем предотъездные признаки учащались. Мама делала закупки. Покупались подарки разным лицам: управляющему и его семье, прислуге и даже тем работникам, с которыми более часто соприкасались. Дальше покупались новые предметы обихода: скатерти, занавески, столовая посуда, которой в Адамполе и без того некуда было девать. Словом, многое чего покупалось. Кофе поручали покупать нам с няней. Покупать его полагалось на Арбате, в магазине Ретере. Магазин был совсем маленький, плоскость дома, им занятая, была закована как в броню черными зеркальными вывесками, на которых округлым росчерком было золотом написано удивительное слово «Ретере». Из этой черной оправы глядели витрина и дверь, на их стекле тоже была надпись и тоже золотом, только сверкавшая не на черном фоне, а как бы парившая над таинственным сумраком недр самого магазина. Войдя в двери, вы оказывались в этом сумраке, и был этот сумрак темно-коричневым, а в глубине глухо поблескивал тем же червонным золотом. В магазине была тишина; покупателей я там не помню, тишина была наполнена тончайшими ароматами, пряными и бодрящими, ароматами сказочных стран.
Мы должны были попросить, чтобы нам сделали смесь, которую всегда для нас делают, и назвать свою фамилию. Мне казалось очень странным, что эти люди, с таким достоинством бесшумно скользящие в своем благоухающем сумраке, встречавшие нас столь любезно, люди, которые могут жить в этом удивительном мире, занятые таким значительным делом, знали не только нашу фамилию, но знали даже, какой кофе пьют по утрам мои родители. Они не только знали это, но по первой нашей просьбе бесшумно и снисходительно делали мудреное дело – приготовляли смесь сортов, названия которых состояли из слов удивительных. Мокко, менадо, бурбон и ливанский – я запомнил их на всю жизнь, как строчку гекзаметра.
Фирма «Ретере» была старинная и очень солидная. То, что там продавалось, было всегда самого высшего качества. Ретере не гонялся за модой, он был верен торговым идеалам своей молодости, идеалам времени дилижансов, времен мистера Пиквика, и знал, что на Арбате единомышленники найдутся и придут к нему. В магазине Ретере не было ничего от легкомыслия Каде, от улыбчивости Сиу, от довольства и радости магазина Эйнема, его элегантность была старомодна, строга и корректна. Магазин Ретере был подобен экс-королю, проживающему на модном курорте; его благосклонная полуулыбка была чем-то надежнее демонстративной любезности президента республики.
Едва ли кофе у Форштрема был хуже, но природные москвичи, жившие в приарбатских переулках и знавшие толк в жизни, шли к Ретере, проявляя, таким образом, не только консерватизм, но и свою любовь к основательности. Совершенно невозможно было думать, что кофе, который мы там покупали, привозили в Москву каким-либо обычным и будничным способом. Нет, его добывали черные рабы на плантациях, его тащили на себе в караванах по пустыне слоны и верблюды, его везли в трюмах парусных бригов и корветов, бороздивших воды всех океанов под командой отчаянных негодяев, на судах, зафрахтованных отнюдь не купцом, а негоциантом господином Ретере для того, чтобы мы могли унести это благоуханное чудо домой в солидном свертке, обернутом в плотную коричневую бумагу и перевязанном накрест золотой шнуровкой.
Мама долгих сборов не любила: укладывалась в один день, и к вечеру прислуга сдавала все это в багаж. Таким образом, мы ехали уже налегке. В день отъезда распорядок жизни почти не менялся. Мама уходила проститься со своими в Столовый переулок и возвращалась незадолго до обеда. Еще до обеда мама извлекала из гардероба свой дорожный несессер, без которого мы никуда не ездили, и проверяла его боевую готовность. Боковая стенка у него откидывалась, и на ее внутренней поверхности, обитой красным бархатом, затянутые кожаными поясами, лежали хрустальные, в серебре флаконы. Мама наполняла флаконы, распечатывала мыло и прочее и затем открывала среднее отделение; подобное висящему в воздухе бархатному мешку, обычно оно было пусто; если опустить туда руку, казалось, что погружаешься в бархатную пену. Туда мама отправляла носовой платок, полотенце и дежурный том английского романа.
В бездомье пути несессер был как бы представителем дома, миниатюрным домашним очагом, взятым с собой в дорогу. Он дарил нас радостями, которые по первому взгляду кажутся слишком обыкновенными и незатейливыми, однако в условиях дороги эти радости выглядят совсем иначе. Оторванный от привычных условий, совершая полет в неизвестное, пролетая под грохот вагонов мимо новых и новых миров, я испытывал острое чувство счастья, когда мама, открыв несессер, сияющий бархатом, хрусталем, серебром, и смочив одеколоном платок, вытирала мое запылившееся лицо.
Мамин несессер хранил память о чудных странах, в которых ему довелось побывать и которых я никогда не видел и никогда уже не увижу.
Этот несессер так сжился с нашими поездками, что зависимость казалась обратной, казалось, что надо только взяться за его ручку – и чудо случится. И не раз в жизни в хмурые и нудные дни, будучи уже почти взрослым человеком, я просил у мамы разрешения потрогать ручку несессера, делал это со страхом и надеждой. С годами я стал умнее, опытнее, иными словами, бездарнее.
Экипаж, поезд, самолет сменяют друг друга, появляются новые скорости, вместе с этим эволюционирует понятие красоты наших дорожных спутников. Теперь, пожалуй, и я начинаю понимать, что он нескладен, этот несессер, а все же, разматывая седьмой десяток, я нет-нет и провожу рукой по его коже. И моим сыновьям не понять, что вижу я в нем. Для них он лишь старая каракатица, предмет давнишней сентиментальной привязанности беззубого старика.
В день нашего отъезда обед проходил почти незаметно, чай подавали раньше обычного. В этот час наша столовая была вся в пятнах закатного солнца. Пятна горели и искрились на накрытом столе, на синем озорном трактирном храпуновском сервизе. Золото на чашках полыхало, темным огнем горел налитый в них чай. Этому световому спектаклю вторила приподнятость последнего перед отъездом московского чаепития и мамино оживление. Время отъезда наступало мгновенно; няня в детской надевала на меня пальто и на голову полосатый чулок с кисточкой, застегивала у горла пуговицу, и мы выходили в переднюю. Там, сложив руки на животе под фартуком, стояла идолищем Катерина в окружении такс. Выходила мама с несессером, в пальто, в голубой соломенной широкополой шляпе, отделанной искусственными цветами, с лицом, закрытым густой белой вуалью, повязанной на шляпке так, что кружевные концы ее, свисавшие вниз, ежесекундно меняли положение и как бы трепетали. И так же трепетали камушки на наконечнике булавки, закалывавшей мамину шляпу. Голубой, неправильной формы сапфир, из-под которого выступали два листика из мелких бриллиантов. Камушки эти, приспособившись к обстоятельствам света, вдруг вспыхивали и тогда становились похожи на стрекозу, засверкавшую на солнце. Мама давала Катерине последние наставления. Наконец появлялся папа, он тоже очень элегантен, высокий крахмальный воротничок подпирает лицо, усы закручены вверх, он в шляпе, в руках – чемодан и трость. Мама целуется с Катериной, и мы отбываем. Отбываем под полнейшую безучастность Катерины и такс, остающихся в Москве.
По улице мы шествуем так. Впереди, значительно обогнав нас, шел большими шагами папа, далее мы с мамой, шествие замыкала поджавшая губы няня с крохотным узелком в руках. Вспомнив о нашем существовании, папа внезапно останавливался, упирался тростью в тротуар и со смехом смотрел на поспешающее за ним семейство. Остановка трамвая была на противоположной стороне Арбата. Семнадцатый номер вылетал из сумерек с грохотом, огнями и звоном и как вкопанный останавливался перед нами. Мы – в сверкающем, праздничном, почти полупустом вагоне. Я сижу впереди у окна, на коленях у меня несессер, я держу его волшебную ручку, и все, как всегда, сбывается. Мы со звоном и скрежетом летим по Арбату. Освещенные огнями витрины знакомых магазинов бегут нам навстречу и вот уже остаются позади. В свете витрин, в огнях фонарей, в светлых весенних сумерках движутся прохожие. Мы летим навстречу одним и с тыла догоняем других, но и те и другие, едва показавшись, остаются позади. Мы грохочем по Арбатской площади. Вот дом с колоннами и фигурами эскулапов, запирающий площадь, это Келлер, но мы поворачиваем налево, к церкви Бориса и Глеба, и, взвизгнув на завороте, со звоном устремляемся на Воздвиженку.
Этот призрачный весенний вечер, в котором все того и гляди растает и растворится, выманил эти многоликие толпы прохожих. Но они заняты отнюдь не им; он лишь река, по которой они текут. Каждый из них в отдельности несет свой единственный и неповторимый мир; в нем-то и заложен секрет, определяющий не только направление, но и цель движения его обладателя. Эти миры непроницаемы и таинственны, и лишь когда из сгущающихся сумерек выплеснется отдельный жест, фраза или выкрик, тогда на мгновение образуется как бы брешь, лазейка, которой пользуется моя бесцеремонная любознательность.
Городские чахлые липы еще не успели по-летнему пропылиться. Их зелень в искусственном свете вечерней улицы лишь угадывается. Виден трепет их листьев, утопающих в уже черном, как деготь, воздухе. Значит, мы проезжаем уже Мещанскую, видны силуэты казенных громад Крестовских башен, но мы заворачиваем налево вокруг жидкого скверика и останавливаемся у вокзала Виндаво-Рыбинской железной дороги.
Наконец мы в поезде, в купе международного вагона первого класса, самого совершенного, самого гениального создания музы дальних странствий. Я не берусь о нем говорить, в нем все поэзия, начиная от него самого, нарядного, удобного, горящего яркими огнями, и кончая его ритмическим полетом через мохнатые леса, прозрачные березняки, солнечные луга, реки, пашни и через непроглядную ночь.
Я лежу под одеялом, голова моя на подушке, за подушкой у наружной стены – несессер, поезд летит и поет свою песню. Сейчас вся задача в том, чтобы как можно дольше не заснуть. Но я успеваю только отметить, как черная ночь за окном, через которую мы пролетаем, внезапно вспыхивает огнями освещенной словно для бала станции и как снова за окном наступает черная тьма. Слышу мамин веселый голос и немедленно и неотвратимо засыпаю.
Проснувшись утром, мы оказываемся уже в другом мире. Спокойнее и величавее разворачивались бегущие за окном леса и просторы, спокойнее и величавее стояли в небе застывшие облака. Субстанция извечная и безгрешная вставала перед нами. Суета мира оставалась позади.
В городе Великие Луки мы должны были пересаживаться на другой поезд, идущий по линии Бологое Седлицкой железной дороги. Здесь на дощатой платформе мы окунались в лоскутно-тряпичную бестолковую сутолоку и находили защиту от нее лишь в привокзальном буфете. В разные годы долгота нашего пребывания на великолукском вокзале была различна, но так или иначе она была лишь эпизодом, и скоро мы снова были в поезде. Мы опять покоряли пространства, но в смысле вагона это было уже как случится: международных на этом направлении не было, было, конечно, неплохо, но обычно. Ехать оставалось уже недолго, сколько помню, пять-шесть часов.
Поезд трусил, отклоняясь все дальше и дальше на северо-запад. Паровоз победоносно гудел над мирной землей, временами зачем-то восторженно фыркал, колеса стучали по рельсам, но так же неотвратимо бежало и время. Наконец появлялись названия станций, от звука которых учащалось биение сердца. Они врублены в меня топором, я помню их тоже как строчку: Невель, Опухлики, Дретунь и Полота. И где-то здесь вдруг, среди этих названий, среди самых обыкновенных лесов и полей, без всяких причин, просто так, ни с чего, без предупреждений лежало как брошенное великаном белое полотенце – красавец озеро. Появление его на нашем пути означало, что мы въезжаем в озерный край и что скоро мы будем дома.
После станции Дретунь мы были уже наизготовке. Беспокойство овладевало нами. Мама опускала вуаль, брала несессер, протягивала мне руку, и мы выходили в тамбур.
По-видимому, мы часто ездили в последнем вагоне, так как заднее окно тамбура я помню перед собой. Именно в нем я видел, как среди влажной травы лугов вдаль убегали рельсы, как, соблюдая равные интервалы, лежали среди зелени сложенные на лето, как картонные домики, лиловые железнодорожные заградительные щиты, как дрожали, растворяясь в синей влажной вуали, леса, луга и бесконечные дали и как среди них сверкали огромные озера. В них лежало опрокинутое навзничь небо, в их лишь слегка подсиненной глади клубились розовые облака. Небесная благодать зримо сходила на землю, и от этого, как бы перекувырнувшись, небо и земля менялись местами. А среди этого не то неба, не то земли бурно и весело несся наш поезд и от избытка счастья беспричинно гудел.
Наконец, устыдившись собственной резвости, важно и зло фыркал, еще громче и протяжнее выл, осаживал скорость, чтобы затем торжественно и точно остановиться у платформы станции Полота.
Нас встречает управляющий Индрик в пиджаке и при галстуке, по жилету – цепочка часов, на нерусском бритом лице – пики усов, он, как всегда, сдержан. Вижу знакомые лица адампольских мужиков, колдующих в багажном цейхгаузе. С той стороны станции – площадь, такая же, как и все в России, и почти такими же они остались до сих пор. Там у коновязи стоят наши лошади. Рыжий Колька, наш любимец, косится своим гениальным агатовым глазом, пристяжная, серая в яблоках, изогнув шею, осторожно и нетерпеливо роет копытом землю. Роль экипажа выполняла у нас бричка конструкции допотопной. Разболтанная и нелепая, она честно выполняла свои несложные функции, а большего нам и не нужно было. До дому было всего лишь восемь верст. Застоявшиеся лощади бежали дружно, Индрик сидел за кучера, подбадривал их, бричка лязгала и позванивала на ухабах.
Как зачарованный я глядел на бегущую из-под копыт лошадей дорогу, на огромное перламутровое небо и вдыхал сладостный запах лошадиного пота, кожи и дегтя, растворенный в воздухе деревенских просторов. Бежали дороги, речонки, переброшенные через них полусгнившие бревенчатые мостики, перелески, овраги, луга и поля; мы все глубже и глубже въезжали в глушь российского захолустья.
Мама расспрашивала Индрика, хорошо ли у нас взошли яровые, как овес и что со скотом.
Папа сидел отчужденно, положив руки и подбородок на трость, покусывая ус, внимательно и неотрывно смотрел вдаль.
Постепенно дорога становилась ровнее и сквозь жидкий ольшаник уходила в большой казенный лес. Здесь не слышно цокота лошадиных копыт, не скрипит и не лязгает бричка, мы едем как по ковру. Мхи и старая хвоя мягко застлали здесь землю. Лес пронизан призрачным полусветом. Мачтовые великаны, дико заломив красные лапы, легко несут в небо свои равнодушные кроны.
Соборный полусвет кончается внезапно, и мы снова в безжалостном свете дня. Бричка, миновав поле, въезжает в деревню. В этот час она безлюдна, как вымершая, только где-нибудь на задах в огороде мелькнет выцветшая бабья кофта. Зато собаки, давясь и хрипя остервенелым лаем, кидаются на бричку из всех подворотен. Осатанело захлебываясь от злости, они сопровождают нас, но стоит только выехать из деревни, они, мгновенно замолчав, как ни в чем не бывало бегут домой.
Дорога поднимается и заворачивает, мы на песчаном бугре. Это уже Адамполь. Пахота, справа очерченная узенькой ленточкой леса, спускается к заболоченным лугам, за которыми ярусами поднимаются амфитеатры далеких лесов; они громоздятся друг на друга, синеют и сливаются с небом, а левее встают зеленые кроны лип и серебрятся крыши строений: это усадьба.
На дороге – разномастная, разношерстная стайка адампольских псов. Как узнали они о нашем приезде? Они уже давно заняли этот форпост на дороге и глядят на песчаный бугор, из-за которого мы должны показаться. Наконец узнаны лошади, узнан Индрик, узнаны мы. И удалая ватага с восторженным визгом и лаем летит нам навстречу. Папа помогает какому-нибудь счастливцу впрыгнуть на ходу в бричку. И здоровенный псина в объятиях отца. Его восторг безграничен; он вылизывает физиономии и мне и папе, защищающему лишь шляпу. Мама, хорошо зная, что ее вмешательство впечатления не произведет, все же говорит для порядка: «Да перестаньте же, а то эти мерзавцы совсем обнаглеют».
Тем временем мы заворачиваем во двор и останавливаемся перед покосившимися колонками облупленного крыльца. Пока происходит церемония встречи с прислугой, собаки берут меня в оборот. Те, что поменьше ростом, стараются допрыгнуть до моего носа, а кто покрупнее, кладет передние лапы мне на плечи и старательно и всласть вылизывает мне уши и глаза. Наконец нянька уводит меня от собак в дом, куда им вход нерушимо заказан, – это уступка маме. Няня переодевает меня во все чистое, чтобы ни единой дорожной пылинки на мне не осталось. Тем временем привозят багаж, в дом втаскивают чемоданы и сундуки, идет обычная суета приезда, меня она не касается, я пробегаю насквозь весь дом, за зиму мы отвыкли друг от друга. Он кажется нежилым и холодным. Через гостиную, через террасу, пересекая палисадник, я бегу в парк, спускаюсь по замшелым его земляным ступенькам, чтобы одуреть от запаха ландышей, в изобилии растущих подле черных стволов, ощутить его вечернюю синеву, его сырую прохладу и оглохнуть от абсолютной его тишины. Дома в столовой из-под белого колпака висячей керосиновой лампы льется свет на накрытый для ужина стол. Я сразу слепну от его белизны. Мы ужинаем, на столе самовар, окна настежь открыты, за ними черно. Вдруг папа настораживается: «Тише», – мы замолкаем и прислушиваемся. В парке поют соловьи.