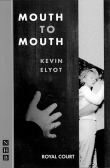Текст книги "Кладовка"
Автор книги: Владимир Домогацкий
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 11 страниц)
ВЛАДИМИР ДОМОГАЦКИЙ
КЛАДОВКА
ПОПЫТКА КОНСЕРВАЦИИ
Предисловие
Владимир Владимирович Домогацкий (1909—1986) принадлежал несомненно к тому типу художника, для которого, как и для его отца – скульптора Вл. Н. Домогацкого (1876—1939), искусство составляло квинтэссенцию жизни. И не только потому, что в искусстве отражена его душа, физическая природа, все связи с миром, а еще и потому, что все, что бы ни окружало его, вся среда, в которой был он, – не только когда рисовал, писал, резал гравюру, а просто думал, курил, читал, пил кофе, разговаривал, хоть с философом, хоть с водопроводчиком, – все волшебным образом преображалось, неожиданно становилось «совсем из другой оперы». Это было очевидно для каждого, кто с ним хоть немного общался или был знаков Один из его любимейщих писателей, М. Пруст, считал, что «талант художника действует так же, как сверхвысокие температуры, обладающие способностью разлагать сочетания атомов и группировать их в абсолютно противоположном порядке, создавать из них другую разновидность». Рядом с В.В. Домогацким все превращалось в «другую разновидность».
Каждый, кто переступал порог его дома, по доброй воле, конечно, одновременно переступал и порог своей собственной каждодневной обыденности, обретая ту превосходную степень, на которую только был способен от природы. Каждому передавался, видимо, его необъяснимый внутренний свет, обладавший драгоценным свойством высвечивать в собеседнике все самое лучшее. Это был замечательный дар. В природе он страшно редок.
Его способность рассказывать была тоже, конечно, из области искусства, потому что рассказом своим он умел создать реальность иного плана, реальность настолько подлинную, что собеседник начинал чувствовать себя в ней так же уверенно и естественно, как и сам рассказчик, даже как бы начинал дышать воздухом этой вновь воссозданной перед ним реальности. Чудо собственного перевоплощения было настолько неотразимо просто, что всегда был соблазн даже и не признавать его чудом: конечно же ты был соучастником, это было с тобой, твое и теперь от тебя так же неотделимо, как от него самого.
Видение его было ярким, вобравшим в себя столько красок, запахов, света и воздуха его России, а рассказ столь образным, что давал средство проникнуть в то, чего иной был лишен в своем прошлом. Своими рассказами он как бы перетекал в собеседника своей существенной частью, и тот всегда yходил с ощущением куда более емкой, чем прожитая в действительности, жизни.
Потому-то уход Домогацкого был столь ощутимой утратой для всех, кто его знал. Для них и, наверное, для многих других, кому не выпало его знать, воспоминания, его «Кладовка»,– это возможность вместе с ним проследовать в реальность его мира, увидеть в ней, будто озаренными, разные линии и планы своей собственной жизни и души, планы, которые без его помощи, может быть, так бы и остались навсегда неугаданными.
«Кладовка» писалась в конце 60-х – начале 80-х годов и была она много, много больше. Его близким не раз приходилось сражаться за сжигаемые им куски. Он был неумолим: «Чем меньше останется, тем лучше». Наверное, он был прав. То, что он оставил, это не мемуары в привычном смысле слова, это уже литература, искусство. В этом убеждают те огромные световые колодцы, вобравшие в себя все его мироощущение, которыми полны сохраненные страницы. То, что тяготело к «мемуарности» (и не было времени из-за повседневной работы для соответствующей отделки), подлежало уничтожению. С этими кусками ушло много фактических подробностей, которые удерживала его блестящая память. Но не это он считал главным и не ради них решился он писать.
Происхождение «Кладовки», ее истоки надо искать и можно найти только там, откуда вышли «Другие берега» Набокова (эта вещь, хочу заметить, была прочитана Домогацким в ксерокопии года за полтора до смерти, когда «Кладовка» была уже написана, перепечатана на машинке в единственном экземпляре, а черновики сожжены), – в той же тоске и мечтах по России, хотя Домогацкий никогда из нее не уезжал и даже не ездил никуда дальше средней полосы. Его тоска по Адамполю не менее, а может быть, еще более трагична, чем тоска Набокова по Выре и Рождествену. Более – потому что он твердо знал, что этого места просто нет больше на земле и в него нельзя вернуться даже на миг, даже «с подложным паспортом».
Но «однажды увиденное не может быть возвращено в хаос никогда», – говорит Набоков. Действительно, память и искусство способны заставить жить вечно все, поддающееся физическому разрушению.
Выра, Адамполь, Рождествено завещаны нам как крошечные островки, сохраняющие «кладовки» с чистой водой.
С. Домогацкая
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Глава I
В кладовых нашей памяти заложено неисчислимое количество впечатлений. Под понятием «память» принято понимать способность получать впечатления, складывать их в наши кладовые, сохранять их и уметь по мере надобности извлекать на свет Божий.
У меня хорошая память, я помню себя и окружающий меня мир с очень ранних детских лет. Помню все это очень ярко, и с годами эта яркость ничуть не тускнеет. Однако, сравнивая впечатления, сохранившиеся от очень раннего детства, с несколько более поздними, я обнаруживаю некоторое качественное различие. С какого-то возраста воспоминания последовательно идут одно за другим, их, как узлами, связывают события, люди и обстоятельства. Словом, все то, что позволяет соединить их в единую цепь.
Цепь эта и есть именно то, что в моей памяти сохранилось как понятие «моя жизнь». Моя последовательная память, память-«цепь», началась примерно с четырехлетнего возраста. Последовательность ее, конечно, тоже относительна. Она зияет пробелами, однако ее нетрудно увязать и со временем и с обстоятельствами. Этой более или менее непрерывной памяти предшествуют некие иные всполохи воспоминаний. Уловив их, вытащив, раскопав, мы становимся подобны археологу, перед которым лежат звенья несомненно одной цепи, но место их угадывается лишь приблизительно. Таким образом, перед нами лежит все же цепочка, но в ней больше пустот, чем связанных между собой звеньев.
Между тем пустоты эти лишь мнимые. В действительности на дне нашей памяти лежат ярчайшие впечатления, которые мы вправе считать нашими «краеугольными камнями». Но материализовать их как некую реальность мы не в состоянии. Наши кладовые не имеют ограничительных стен, лишены света, а для того, чтобы что-то добыть из них, нужно знать, за какую именно ниточку можно выдернуть искомое. Обычно эту работу производит наше подсознание, производит совсем незаметно для нас, но когда мы хотим добыть наши неоформленные впечатления, ни сознание, ни подсознание не помогут нам вытащить их на свет Божий. Только капризный и благодетельный случай может, использовав самые непредвиденные пути, помочь нам. С кем этого не случалось?
Первый раз я был в Малороссии, когда мне было полтора года. Об этом лете я ничего не помню. Знаю о нем лишь по рассказам взрослых. Однако в этом затмении почти полного беспамятства для меня просвечивают какие-то неясные пятна. Они расплывчаты, беспредметны, и у меня нет возможности превратить их в осмысленный образ.
Вторично я был там уже семилетним. Для меня в этом возрасте память уже давно сплелась в непрерывную цепь, такую же, как у взрослых людей, то есть с естественными выпадениями чего-то второстепенного. Разница со вполне взрослой памятью была в том, что все впечатления были более яркими, более отобранными и отличались соответственной возрасту ракурсностью.
Эта вторая поездка протекала почти так же, как и первая, с пересадкой в Киеве. Няня незадолго до города вывела меня в коридор к окну и велела встать на приступочку повыше. Там я увидел то, что в абсолютно бесформенном состоянии, не поддающееся никакому понятию, никакому образу, совершенно ни с чем не связанное, существовало уже давно во мне самом.
Моя жизнь до того, как няня подвела меня к этому поездному окну, постоянно сталкивалась с тем, что было следствием совершенно неведомой мне причины.
Увиденное в этом окне было подобно встрече с чем-то подспудно знакомым, с чем-то, что удалось наконец материализовать как некое связанное с миром явление.
Няня рассказала мне, что в первую нашу поездку она точно так же поднесла меня к окошку и показала разворачивающуюся там панораму Киева.
Я семилетним воспринял этот увиденный мной город как счастье, которое вернулось ко мне. То, что я увидел, было так до боли знакомо, так наотмашь прекрасно, что я просто не мог понять, как я жил эти годы, зримо не вспоминая этого счастья. Теперь-то я знаю, что в действительности я продолжал помнить о нем, но только той, другой, неоформленной памятью. Я не только помнил о нем, но и жил им, оно присутствовало, все время находясь во мне самом, и окрасило со времен моего полуторагодовалого детства мою жизнь. Но теперь благодаря случаю я знал не только его название, но и то, как оно выглядит. Некая туманность, жившая во мне, окрасившая мою жизнь, ставшая частью меня самого, стала теперь реальностью мира, к тому же лежащей вне меня.
Мы живем набитые сверх всяких возможных мер впечатлениями, о которых прямо мы ничего не можем рассказать. Это относится не только к нашим ранним детским бесформенным впечатлениям, но и ко всем прочим, которые прошли через нашу жизнь «не представившись». Если что-то совсем непредвиденное извлечет впечатление, давно уже ставшее нашей неотъемлемой частью, нас больше всего поразит то, что мы каким-то колдовским образом не знали его по имени.
Каждый человек чувствует, знает, что он одновременно живет неисчислимым количеством жизней. Та же, которая носит название нашей реальной жизни, всего лишь следствие стечений более или менее случайных обстоятельств. Эта наша реальная жизнь – всего лишь крохотный приживальщик при нас самих. Она смехотворно мала и нелепа. Считаться с этой «реальностью», хочешь не хочешь, приходится, но принимать ее всерьез могут только очень наивные люди.
Все, что есть подлинного в искусстве, все, что является «откровением», черпается из бесчисленных наших жизней, а наш приживальщик выступает лишь в роли соучастника.
То, что я тогда увидел в окне поезда, был растянувшийся по горизонту и поднимавшийся вверх уступами зеленых, тонущих в синеве садов на фоне щедрого украинского неба златоглавый город. Сады громоздились так торжественно, бесчисленные золотые купола так полыхали солнцем, небо так расточительно сияло, что создавалось впечатление непрерывного звона. Звон шел от света, от воздуха, от золота куполов, от всего несущегося мне навстречу мира, мира лета девятьсот шестнадцатого года, и это было счастьем. Счастьем все это осталось для меня и по сей день. Я пронес это впечатление через всю жизнь. В моей кладовой оно лежит нетронутым, и любое обманчиво похожее впечатление дает мне заново возможность вдохнуть в себя счастье.
Я никогда более не был в Киеве и, вероятно, не буду. Возможно, что панорама эта теперь выглядит как-то иначе, а той, старой, уже нет, как нет и того гусарского офицера, который стоял тогда в проходе, прислонясь к косяку двери, и безмятежно смотрел на приближающийся к нам великий и древний город.
Кладовые моей памяти наполнены содержимым, для меня драгоценнейшим. Ведь в основе их лежат мои впечатления, а они по первоистокам своим «высоких кровей». Им предшествует неведомый и, к счастью, никогда не доступный для нас процесс восприятия и еще более недоступный нам акт отбора. Ведь воспринимаем мы лишь ничтожную часть того, что лежит на нашем пути. Мы ничего не знаем о том, какую часть составляет воспринятое нами и превращенное в зримо или мысленно ощутимый образ и какую часть составляет то, что, не оставив ничего в нашей памяти, само собой как бы всосалось в нас.
Когда какой-то магический луч осветит нам «нечто», окажется, что мы совершенно не знаем, что мы, собсгвенно-то, увидели. По своему разумению или по чужой подсказке мы дадим этому увиденному имя, и с этим именем оно будет жить в нас.
То, что мы увидели, было освещено лучом и причудливо разукрашено светотенью, только так мы его и знаем, не в нашей власти передвигать луч. Нам также неведомы и другие проекции увиденного, мы можем лишь гадательно думать о них. Свет упавшего на что-то луча настолько слепит нас, что мы не видим уже ничего лежащего рядом. Более того, мы даже не знаем, что это увиденное – отдельный ли предмет или деталь чего-то, скажем, клок волос на голове огромной, лежащей во тьме статуи Зевса.
К нашему великому счастью, явление в целом нам неведомо, потому-то и неисчерпаем источник наших впечатлений.
Поразительными свойствами обладает самый процесс получения нами впечатлений. Любое впечатление томит нас страхом о его скоротечности, между тем мы изо всех сил стремимся изжить его поскорее во времени. Любая задержка, любая пауза заставляет нас торопиться, и если мы этого не сделаем, то явление само поторопится за нас. Оно искорежится, настолько изменится, что станет собственной противоположностью.
Разве это не похоже на жизнь, ведь это же ее модель.
Не только наши неоформленные и неузнанные впечатления всегда сохраняют свою силу и свежесть. Не менее их все, что мы так бездумно хранили в ячейках нашей памяти, также крепнет от времени, очищается, становится животворнее.
Ведь величайший смысл заключен именно в том, что впечатление должно перейти в иной порядок, и то, что мы называем явлением жизни, должно переродиться в явление памяти. Только преобразовавшись так, оно будет поить живой водой бессмертно цветущую жизнь.
Неужели даже в этом не видна та непрерывная, от сотворения мира идущая необходимость трансформации сушего, без которой невозможны ни жизнь, ни бессмертие?
Я сознательно избегаю расширения этой темы. В данном случае я претендую на частное, на совсем малое, на признание за впечатлением, восприятием, памятью их высокого царственного происхождения.
В том или ином виде они наполняют драгоценными залежами мои кладовые. Однако когда я ставлю себя на место совсем постороннего наблюдателя, то мне несложно догадаться, что для него это всего лишь старый сарай, набитый никому не нужным хламом. Понять это очень легко, а вот соглашаться с этим мне совсем не хочется. Но неисчислимое количество наших одновременных жизней нашептывает мне: «Брось, это ведь действительно черепки, осколки неведомого тебе целого, которые ты подобрал и хранишь. Песчинки того огромного, которое есть величайший из понятных тебе даров. Дар этот ты получил. Чего же тебе еще надо? Разве того, чтобы и другие радовались ему вместе с тобой. Зачем? Ведь все они получат столько же, а использовать полученное сумеют не хуже тебя, и уж во всяком случае по своему вкусу и разумению. Радоваться вместе с тобой некому».
В этом рассуждении так много правды, что, пойми я это на двадцать лет раньше, я, пожалуй, не стал бы писать вообще.
Глава II
Столь скромное занятие, как увеличение фотографий, дало мне возможность увидеть многое из той немыслимой дали, которая не только предшествовала моей памяти, но и моему появлению в этом мире.
В конце двадцатых годов в бессонные ночи, при полном безденежье папа выклеил из картона, марли и гипсовых плиток горизонтальный увеличитель. Был он очень громоздок и малоудобен, но зато увеличивать при его помощи можно было с негативов любой величины. Так началась для нас эра увеличения нашего огромного фотографического архива. Архив этот был начат папой в середине девяностых годов, а продолжен и продолжается мной, а теперь уже и мои сыновья включились в его пополнение.
Любительская фотография – дело действительно скромное, но для меня оно было и есть всегда «упоительное» занятие. Все процессы, начиная от выбора объекта, кадровки, проявления, увеличения и так далее, пропитаны ощущением удивительного фотографического колдовства. К сожалению, на путях развития любительской фотографии выросли неожиданные и труднопреодолимые препятствия.
Фотографический снимок каким-то роковым образом стал сопрягаться с произведением изоискусства. Несущественно, как именно это сопрягается, как тождество или как противопоставление, важно лишь то, что они несопряжимы. Они лишены даже отдаленных родственных связей. Это с очевидностью видно, когда фотография хочет претендовать на художественность, а художество на фотографию. Такое смешение ощутимо противоестественно.
Гибельную роль для любительской фотографии сыграло также развитие современной великолепной фотоаппаратуры. Оно привело к бессмысленному щелканью кадров и столь же бессмысленному увеличению отпечатков. Процесс фотографирования, механизированный, обезличенный, полностью лишенный одухотворения, ныне доступен любому болвану. Впрочем, характер нынешнего фотографического процесса способен сам по себе оболванить кого угодно. Почти вся современная фотолюбительщина безлична, однообразна, безвоздушна и хорошо, если хоть грамотна.
Фотография – далеко не единственное дело, которое в двадцатом веке умудрилось потерять само себя, даже не заметив этого.
Однако это отвлечение в сторону. Я говорю о временах двадцатых и начала тридцатых годов, когда папа длинными зимними вечерами и ночами занимался увеличением.
В отдаленном от окна углу мастерской – небольшой закуток, он отгорожен как забором поставленными друг на друга ящиками, ящики снаружи задрапированы. В закутке за этим забором – водопроводная раковина и застеленный, как кровать, диван. Вскоре после революции этот закут стал папиной спальней. Вот там-то и происходило таинство проявления. В противоположном углу мастерской стоял длиннейший увеличитель.
Огромная мастерская абсолютно темна, мы вдвоем в закутке, сидим, примостясь на ящике, перед нами, тоже на ящике, около красного света – кюветы. Фонарь, допотопный колченогий калека, тлеет магическим светом, круг его светоносности ничтожен, а далее красное переходит в полную тьму, но физически измеримое и действительно существующее – понятия не совпадающие. Мир закутка был безграничен, таковым его делало напряжение, с которым мы вглядывались в кювету, где, постепенно наполняясь градациями светотени, появлялось изображение.
Подбор негативов, подлежащих увеличению, делался заранее и к хронологическому порядку отношения не имел. Из почти сорокалетия в один удачливый вечер для нас оживали весьма разнообразные периоды.
В свете красного фонарика возникали пейзажи, постройки, интерьеры, жанровые сцены, предметы, люди, которых я никогда не видел. Одновременно возникали также и изображения мест, зданий, интерьеров, которые я видел и помню, но уже в сильно измененном виде. Воскресали изображения людей, коих я не видал, а знал лишь понаслышке, и таких, которых знал очень хорошо, но в волшебстве фотографии они молодели иногда лет на тридцать.
Роль моя во время этого фотографического «чудотворства» была пассивной, я был зрителем и редко подмастерьем. К слову сказать, это лучший, как мне кажется, метод обучения. Самостоятельная моя фотодеятельность началась по-настоящему лишь после папиной смерти, и, к моему крайнему удивлению, оказалось, что необходимые навыки у меня уже имеются.
Во время этих вечеров шли самые различные разговоры, либо относящиеся к предмету нашей деятельности, либо совсем посторонние. Говорил в основном папа, в привычной для него манере, то есть бросал в воздух, в сторону отдельные отрывочные фразы, часто даже не обращенные к слушателю. Все время занятый делом, обрывал фразы на полуслове, а когда дело не ладилось, дергался мускулом щеки, чертыхался, но к содержанию разговора такое сопровождение отношения не имело.
То, что папа говорил, рассказами в прямом смысле не назовешь, очень уж это было фрагментарно, однако весьма запомнилось вплоть до интонации.
Он терпеть не мог длиннот и «лирических отступлений», отсюда была сжатость. Боялся неточности и особенно фальши и потому предпочитал фрагменты, считая, что «тут уж очень-то не наврешь». Я не слышал от него последовательно конструктивного рассказа, думаю, что он считал, что конструкция как бы предопределяет существо, а тут уж и до «вранья» совсем недалеко. Терпеть не мог туманных рассуждений.
Слышанные от него фрагменты мне нетрудно соединить в одно целое, и оно, это целое, то есть он и его жизнь, словно лежит зримо на моей ладони.
Его «целомудрие к слову», отвращение к пустой фразе, не точной, не образной, проистекало из великого уважения к слову. Он явно видел в слове материал, которым должен пользоваться лишь тот, кто умеет с ним обращаться, себя же считал к этому делу вполне неспособным.
Это придавало особый колорит его разговору. Если учесть среду и время, когда протекала его жизнь, его манера говорить приобретает особый интерес.
Он вырос в семье сестры, среди мучительно говорливой либеральной интеллигенции, помешанной на «общих вопросах», а позднее провел всю жизнь среди людей, завороженных непрерывным словоговорением. Все культурное общество говорило, и подчас говорило очень «цветасто». Создается впечатление, что исключительная болтливость этой эпохи заложена в страхе не успеть выговориться до наступления неминуемо грядущего молчания. К концу жизни моего отца человеческая речь стала превращаться в бессмысленную трескотню.
Думаю, что в своем отношении к материалу человеческой речи отец мой был не одинок. Понятие «целомудрие к слову» я заимствовал у Бунина, применившего его в отношении Чехова. По тому, что мы знаем о Серове, подобное было и ему присуще, вероятно, это же было и у еще ряда других. На фоне времени эти люди были немногочисленными «протестантами».
Детство моего отца прошло в Швейцарии, в местах, расположенных на берегу Женевского озера.
Как-то у тлеющей красным светом кюветы он сказал, усмехнувшись: «Помню, стою на берегу озера и отчаянно реву. Мать вытряхивает из моих карманов камешки». И, глядя в сторону, недоуменно добавил: «Вот, значит, с каких времен я камни люблю».
Его мать умерла от скоротечной чахотки там же, папе тогда было десять дет. Ее смерть, помимо всего прочего, надолго изменила и исковеркала его жизнь. Рассказал же мне об этом так: «Ночью, когда началась агония, меня повели проститься, а потом отвели обратно в мою комнату, велели лечь спать и потушили свет. Я темноты потом еще долго боялся».
При жизни его матери они два летних месяца проводили в столь ими любимой Малороссии, которую папа до конца своей жизни так и не научился называть Украиной. Жили они там в папином полтавском имении, расположенном на берегу Псла, имение называлось Запселье. После же смерти матери папу перевезли в семью его родственников Григоренко, чье имение тоже было на Псле, в тридцати верстах от Запселья. Видимо, он любил навещать свой родной угол и часто ездил туда верхом на своей белой, в яблоках лошадке по имени Кролик. Лошадка эта была единственным живым существом, оставшимся в ту пору от его семьи. У него над столом всегда до конца его жизни висела швейцарская фотография: он, восьмилетний, в костюме для верховой езды, верхом на взнузданном по всем правилам, с мундштуком, Кролике.
В те годы от запсельской усадьбы налицо были лишь отдельные строения хозяйственного типа; один из флигелей моя бабушка приспособила для жилья. Усадьба эта больше смахивала на богатый хутор, чем на помещичье гнездо, выручал лишь старый дубовый парк. Приусадебные постройки уже давно служили как бы контейнером, куда было постепенно свалено содержимое других имений нашей семьи, либо проданных, либо пришедших в полную ветхость. Там, в этих сараях, до начала девяностых годов, если судить по аукционной описи, было свалено то, что составляло красоту быта пудреных екатерининских вельмож и романтических героев александровского царствования. Но просвещенный и принципиальный век в вопросах красоты не разбирался. В этих вопросах понимала моя бабушка, более европейски образованная и менее позитивно настроенная, но ее уже не было на свете. Кое-что из запсельских завалов все же, чисто случайно, сохранилось даже до сего дня, и, глядя на эти случайные остатки, страшно становится за беззащитный мир вещей.
И опять мы в чахлом свете красного фонарика. Папа говорит:
«Под тем, знаешь, большим дубом в Запселье, ну тем, около которого гранитный валун лежал, там я своих зверьков хоронил. Копчик у нас одно лето жил при усадьбе, с крылом у него беда какая-то была, ему ежедневно мясо из ледника приносили, брал прямо из рук. Тушканчик у меня жил, тоже, очевидно, больной, потом погиб. Жили и разные другие. Так что кладбище, сам понимаешь, совершенно было необходимо. Ведь и ты тоже в Адамполе, помнится, аиста и чего-то еще хоронил».
Потом, через большой промежуток, проявляя уже что-то другое, затягиваясь папиросой и пропуская дым в свет фонаря, говорил:
«В Запселье, в сарае, до самого конца оставался большой кожаный альбом с рисунками, и туда много чего было вложено просто так на отдельных листах, вот материнскую акварель я вынул, а остальное не удосужился. Там, между прочим, были еще какие-то большие пейзажные акварели, весьма профессиональные. Иностранца какого-то, судя по подписи. Зря я их не взял, теперь жалею, возможно, оказались бы любопытными».
«А что же все-таки на них было изображено?»
Поворачиваясь ко мне лицом, насмешливо пояснял:
«Пейзажи какие-то «очинно» отвлеченные, ну, словом, такое».
«Папа, а еще что там, в альбоме, было?»
«Ну, черт его знает, не помню я. Разобрать собирался, но, как видишь, не пришлось. Помню, что были чьи-то портреты. Впрочем, один, кажется, был впечатляющий, весьма губошлепистый, на нас с тобой смахивающий, в халате и с чубуком. Но едва ли там было что-то толковое».
И опять, вглядываясь то ли в изображение, лежащее в красном свете кюветы, то ли в неведомую мне глубь времен, говорил:
«У Кролика система была неожиданно на ходу вдруг останавливаться как вкопанный».
«Почему он так?»
«Ну, не знаю, возможно, жабу увидит или что другое. Любознательный был».
«А как же ты?»
«Я? Летел, понятно, кубарем. Ободранные колени и один-другой синяк. Атрибуты обязательные для мальцов моего тогдашнего возраста».
А потом без всякого перехода, вдруг выпрямившись, мог спросить такое:
«Слушай, а где у нас меч этот кривой?»
Я с удивлением:
«Какой?»
«Ну, этот, с золотым орехом в рукоятке» Ты им лопухи рубил».
«Я понятия не имею об этом мече».
«Ну как же так, он в Запселье в моей детской висел, потом перекочевал к тебе. История у него какая-то легендарная была, типично помещичья. Тогда это все смешным казалось да и ни к чему. Но все-таки куда мы его дели?»
«Папа, ты, вероятно, спутал. Это ты рубил им лопухи, а не я. Я его просто не видел».
«Спутал, все может быть. Но почему я так ясно помню твою смешную детскую фигурку, отчаянно и нелепо размахивающую этим самым мечом в борьбе с лопухами?»
«Конечно ты спутал, и спутал оттого, что, как все говорят, мы очень с тобой похожи».
«Вот это, к сожалению, верно. Не свезло, брат, ну что тут поделаешь. Нет того чтобы в мать пойти, попер весь в меня. Ну ничего, как-нибудь обойдется».
Историю с аистенком я хорошо помню, а меча не помню. Образ этого меча мне теперь видится как сквозь туман, но действительно ли видится или я его присочинил с папиных слов – это мне неизвестно. Застрял этот по-настоящему древний меч в паутине моей памяти, а благотворный внешний толчок не встретился на моем пути, и не извлечь мне его из этой паутины.
А история с аистенком случилась в Адамполе. Там жило несколько семейств аистов, я помню из них два. Одна семья жила около самого дома, другая чуть дальше, на аллее, ведущей к пруду. Их огромные гнезда были устроены между разветвлениями стволов старых корявых лип. Эти чудные птицы, и их жилище, и стволы, к которым они прикрепились, как силуэты рисовались на фоне переменчивого неба. Жизнь этих аистов, их ежечасные будничные заботы были постоянно у нас на виду. Аисты и их жизнь были частью нашей адампольской жизни, для меня же частью весьма весомой.
Не только я, все мы очень любили наших аистов, однако никаких прямых контактов у нас с ними не было. Аисты относились к нам как к соседям, с присутствием которых надо мириться. При случайных встречах где-нибудь на поляне или около пруда аист слегка поворачивал и наклонял голову, делал заметное движение крылом и отставлял ногу, все это с большой натяжкой можно было принять за церемонный поклон. Мы были для них иноплеменники, которым следовало держать дистанцию во всех смыслах этого понятия.
Однажды по каким-то своим глубокомысленным аистовым соображениям они вышвырнули из гнезда больного аистенка. Возможно, что деловитые птицы знали, что он неизлечим, а своим присутствием умирающий мешал здоровым, возможно, что ими руководили познания в антисептике. Поначалу мы все думали, что аистенок просто вывалился из гнезда, и ждали, что родители ему как-то помогут. Это было вполне вероятно, так как аистята уже как-то летали. Однако помощи аистенку никто не оказывал. Его просто игнорировали. Папа боялся, что наше вмешательство может ухудшить положение аистенка, и запретил мне подходить к нему ближе.
Шло время, а положение не менялось. Мы видели, как заботливый папаша аист непрерывно курсирует между близлежащими болотами и гнездом, приносит своим подопечным пищу, а важная аистиха словно играет в светскую даму, поглядывая высокомерно по сторонам, как птенцы со скрипучим криком открывают длинные клювы, поглощая очередную порцию, а бедный больной аистенок валяется в траве под самым гнездом. Он сидел на лапах, ссутулившийся, нахохленный, привалившись к прутьям кустов, и безропотно ждат неминуемого, лишь изредка конвульсивно вздрагивал.
Прошел час, другой, и все стаю ясно. Кто-то из прислуги видел процедуру выбрасывания аистенка, а поскольку эта «кто-то» была местная, она сообщила нам, что такова обычная повадка у аистов.
Я хорошо помню, что тогда был ясный летний день, я также хорошо знаю, что наши аисты были белыми, с черными маховыми перьями. Но в этот день я этого ничего не видел, как не видел золотого света солнца на листьях, ни цвета несчастного аистенка. Я видел только черную расщелину между травой и в ней пятно с зигзагообразным трагическим контуром, всматриваться туда было выше моих тогдашних возможностей.
Послали закладывать лошадей, чтобы везти аистенка к ветеринару.
Папа, в пиджаке, в высоком крахмальном воротничке, в белой шляпе, в ботфортах, стоял, расставив ноги, над аистенком, а он все ниже и ниже клонил туловище, распластывался на земле.
В полном смятении я убежал в парк и оттуда, издали, услышал папин голос и понял, что он велит распрягать лошадей. Черный, разлапистый, уходящий в корневище ствол старой липы, черная сырая земля, поросшая жидким бурьяном; все это место стало для меня проклятым символом грязного преступления.