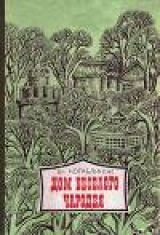
Текст книги "Дом веселого чародея"
Автор книги: Владимир Кораблинов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 12 страниц)
9
Реяли в небе хвостатые чудовища.
Иные, взмыв высоко, может быть, на версту или даже более, казались с земли крохотными комочками; иные, еще не воспарившие, еще только запускаемые, д а в а л и к о л а, и тут была хорошо видима их раскраска: рожа, пучеглазие и дико отверстый рот. Иные снабжались трещотками и рычали в вышине, как бы угрожая или негодуя.
Идея Чериковера волшебно оборачивалась зеленым лугом, синими небесами и множеством людей, собравшихся для состязания в запуске разнообразных воздушных змеев.
Подходили еще и еще – пешком, компаниями, осторожно, бережно неся на поднятых руках свои хрупкие летучие создания. Какие побогаче, подкатывали на извозчиках с сооружениями столь громадными, что за ними и седока было не видать.
Едва ли не со всей реки сбились лодки к дуровской пристани. Легчайшие челночки, называемые чертовицкими, скользили стремительно; семейные лодки – бокастые, неповоротливые – домовито притиснулись к мосткам. И уже самовар дымил на одной, гремели чашками, а на другой на всю реку граммофон рыдал «ночи безумные», а там – и вовсе целый оркестр: две гитары, балалайка, мандолина, трензель…
Криками удивления и восторга встретили появление в небе длинного пятиаршинного дракона. Никто не знал, откуда он взялся, никто не видел, как его запускали. Каким-то непостижимым образом он вдруг поднялся над деревьями, над замковой башней, словно из таинственных недр усадьбы веселого чародея. Извиваясь, треща кольцами пространного двойного хвоста, взмыл выше других, сразу оказался над всеми.
Он был чудом, и чудо это заключалось в том, что, глядя на него, любуясь им, никому в голову не приходила мысль о матерьяле, из которого он создан, то есть о бумаге, о деревянных планочках, о кусочках полотна, о клее и тому подобных вещественных мелочах, – нет! – дракон парил над земным лугом как сказка, как волшебное, может быть, превращение самого чародея в чудовище… Как то, чего не бывает на свете, да и не может быть, но так желанно!
Он появился – и все другие, самые хитроумные, потускнели, померкли. Летали, конечно, трещали трещотками, пытались удивить бесшабашной раскраской, но где же, как могли сравниться!
Сотни людей с криками бежали по лугу вслед за драконом, уже поднявшимся к белокипенным облакам… Медленно – там, наверху, – он удалялся к придаченским озерам, в розовеющую даль ржаных полей. Опрокинув столик и стулья, судьи повскакали со своих мест, закричали «ура». Налетевший ветерок подхватил белые судейские листочки, погнал их по лугу, к гусиным стаям, смешал с гусями, и не разобрать было, где гуси, а где листки судейских протоколов…
И тут-то с городских бугров донесся грохот взрыва. А через самое малое время все узнали, что на жизнь его превосходительства, начальника губернии, было совершено злодейское покушение.
Страх охватил затейников и, кое-как, наспех смотав свою немудреную механику, они разбежались. Луг опустел.
Так оборвался праздник, придуманный Чериковером. Сделанный руками Анатолия Леонидовича великолепный дракон явился как бы вестником беды. Получалось отчасти даже предосудительно: губернатора убивают, а у дома Дурова – развеселое гулянье, игры и крики «ура».
– Черт бы его побрал! – раздраженно сказал Анатолий Леонидович.
– Кого? – невинно спросил Чериковер. – Губернатора?
– При чем тут губернатор! – Дуров рассмеялся. – Подумаешь, губернатор, мелочь какая… Шнур! Шнур лопнул, улетел драконище к чертям собачьим… Понимаешь? Жалко. Столько времени возился и – вот тебе…
– А губернатор-то, слышно, жив, – сказал Чериковер. – И ни единой царапинки. Везет его превосходительству.
– С-сукин сын! – Волчья усмешка мелькнула в усах. – Такой праздник испортил…
Проводив друга, он поднялся на верхнюю веранду. Так весело, звонко начавшийся день вдруг потемнел. Облачная наволочь покрыла небо. Лента реки, дальние озера и старицы, синё, радостно сверкавшие поутру, сделались серыми, белесыми. Но все равно, заречная даль была прекрасна. Великая картина русских лугов и полей всегда просветляла душу, всегда успокаивала; умиротворяла.
Удобно развалясь в плетеном кресле-качалке, прислушался к дому. Что за странная тишина? Ни голоса, ни стука шагов, ни шороха. Временами резко, неприятно вскрикнет павлин, но звук этот не нарушает тишины, а лишь подчеркивает ее, как бы обнажая.
И все молчат почему-то. Молчит, хмурится в своей «конторе», не щелкает костяшками счетов господин Клементьев. Молча возится в саду крохотка-карлик. Маруся – на вышке бельведера – с книгой, как всегда, отрешенная от мира мелких страстей человеческих, в мире своем – особом, фантастическом… Анатошка с утра убежал к матери, он там бывает теперь чаще, чем дома.
Дом.
Боже ты мой, сколько думал о нем, сколько вложил в него труда, фантазии, мечты…
О деньгах не вспоминал: черт с ними! При чем тут деньги? И вот все устроено, а чего-то не хватает.
Чего?
Гастрольная зима прошла – Москва, Петербург – в несмолкаемом шуме успеха, в овациях, в подношениях цветов, в блистательных банкетах и чествованиях.
Почетные дипломы. Адреса. Сувениры.
Новые лестные записи в путевом альбоме, в «зверинце», как он называл эту громоздкую книжищу.
А новый невиданный номер – лекция в Политехническом музее! Публика-то ведь в крайнем была замешательстве: что это? Ученая диссертация? Популярное изложение физиологической теории природы смеха? Но тогда к чему «жрецы», то есть люди, смешащие профессионально? В самом деле, что это?
Клоунада, конечно.
Петербург, где было много пустопорожних встреч и комплиментов, запомнился, как пестрая вокзальная суета: дорогие рестораны, тосты, объятия, поцелуи, пахнущие острыми соусами.
Известный литератор Б. Б. приехать даже сулился в Воронеж. Что ж, пусть приезжает. В конце концов тоже реклама.
Анатолий Леонидович любил шум вокруг своего знаменитого имени. Анатолий Дуров – этим уже все сказано, никакие фанфары, казалось бы, не нужны для привлечения публики. И все-таки…
– Непостижимо.
Так о чем это он? Ах, да… Дом. Тишина. Какие-то странные перемены тут произошли. «Не потому ли, – подумал Дуров, – не потому ли…»
– Папочка! – звонко позвала со двора Маруся. – Папочка! Нет, ты никогда не угадаешь, кто к нам пришел!
«…не потому ли, что нет Терезы?» – как-то наспех закончил он свою мысль.
Перегнувшись через балясник веранды, глянул вниз. В калитке, смущенно и радостно улыбаясь, стоял Александр Терновской.
Он заметно возмужал, раздался в плечах, оброс бородой. Изменился внешне – еще бы, два года! – но главное было во взгляде спокойных, глубоких глаз. Если вчера они сияли юношеской любовью и доверием к людям, то нынче в них появился ледяной холодок настороженности и сомнения.
– Ну как? – прищурился Дуров. – Отбарабанил? Можно, кажется, поставить точку и успокоиться?
– Да нет, что вы! – Глаза Александра смеялись. – Какое успокоенье! Все продолжается. Теперь скоро.
– Да ты и два года назад все твердил: скоро, скоро… А ведь ничего у вас не вышло.
Александр внимательно и с интересом поглядел на Дурова.
– Почему не вышло? Это вам так кажется, что не вышло. А на самом деле очень даже вышло. Может быть, даже лучше, чем задумывалось…
– Не понимаю.
– Ну, как же, должны понять. Прежде чем выступить на манеже, вы ведь репетируете?
– Конечно…
Дуров помигал недоуменно, вопрошающе и вдруг весело расхохотался:
– Во-он что!
– Вот именно, – кивнул Александр.
– Ну, дай бог, дай бог, чтоб спектакль состоялся, – улыбнулся Анатолий Леонидович. – Но скажи на милость, какой черт толкнул тебя заявиться в Воронеж именно сегодня? Слыхал небось?
– Это вы про его превосходительство? Как не слыхать, слыхал. Неприятно, конечно. Дурацкая затея…
– Как? Как? – изумился Дуров. – Дурацкая? Затея?
– Конечно. Кому это важно – убит его превосходительство или здравствует? Дело вовсе не в уничтожении отдельных личностей, икса, игрека, зета – губернаторов, министров… Суть в другом.
– Может быть, может быть, – согласился Анатолий Леонидович. – В этих ваших теориях и тактиках я, брат, откровенно говоря, профан. Но что нынешняя история с бомбой на тебе отразится – это, Санёк, как пить дать.
– Посмотрим, – Александр подмигнул. – Не так, знаете ли, страшен черт…
Он не договорил: вошла Маруся:
– Нет, папочка, что же это! Сразу заполонил человека, а другие, может быть, тоже по нем соскучились… Мы, Саша, знаете что, давайте-ка к Ляльке сходим, вот обрадуется!
– Валяйте! – махнул рукой Анатолий Леонидович. – Проведайте бедняжку… Она там небось со скуки позеленела. Монастырь! – презрительно фыркнул. – Фармакология…
Сильный, властный, все на белом свете попробовавший и повидавший, – «медные трубы и чертовы зубы», как любил говаривать, – он воображал, что на его житейском триумфальном пути нет уже да и не может быть никаких препятствий, никаких тупиков и неразрешимых задач. Все безусловно подчинено его воле, его желанию, даже его прихоти.
Это действительно, пожалуй, так и было до поры до времени. Четвероногие и крылатые артисты охотно и безотказно выполняли его приказания; помощники с лету читали его команду в любом, самом незаметном жесте, во взгляде, в слегка приподнятой брови. В доме на Мало-Садовой – Тереза, Еленочка, дети, прислуга – всё как бы великолепным оркестром было, которым дирижировал легко, уверенно. И вдруг жизнь принялась преподносить сюрприз за сюрпризом. Он растерялся, дирижерская палочка дрогнула, листы партитуры рассыпались, смешались. Инструменты заиграли кто во что горазд.
Ляля с ее аптекарем. Тереза. И вот теперь – Анатошка. Вбил в голову, что будет циркистом. Чертенок упрям, похвальное качество, но…
Но! И еще раз – но!
Впрочем, придется начать издалека.
Бывало, говорят в доме о мальчишке, со смехом передают всякие забавные его выходки: как петуха учил наземь падать замертво; или собачонку приблудную по прозвищу Мочалка – танцевать. Анатолий Леонидович лишь хмурится, нехотя морщит губы в насмешливой улыбке.
Но вот однажды на речном бережку сам подсмотрел: мальчишка легко делает такие акробатические номера, что хоть бы и взрослому впору: сальто-мортале, например, без разбега, с места! Это, знаете ли… Он, Анатолий Леонидович, в свое время сколько был бит немцем Клейстом, пока не научился прилично выполнять это самое проклятое сальто!
Тогда задумался.
Ярко, светло озаренные, в памяти вспыхнули милые, глуповатые картинки: Анатошка в колыбельке – гукает, трогательно разевает беззубый ротик, тянет крохотные ножонки вверх, к отцовскому лицу… И он, уже знаменитый, уже познавший «чертовы зубы», – он щекочет пушистыми усами эти ножонки, целует розовые пахучие пяточки…
И множество других мгновений вспомнилось. Как, например, подбрасывал малыша высоко, к потолку, и тот, заходясь в смехе от страха и восторга, требовал повторить, повторить…
– Сё! – кричал. – Сё!
Это значило: еще.
А затем? Что-то молчала память о том, как сын рос, как научился грамоте, как пошел в Чернозубовское реальное. В памяти иное было: Прекрасная Елена, дом, слава.
И вот – пожалуйста: крутит сальто и дрессирует петуха.
Иронически улыбался до прошлого лета: пустяки, ничего особенного, – мальчишка и так далее. Прошлым же летом совершенно случайно, в беседке, сквозь листву дикого винограда, увидел собственный номер «Пируэт», неожиданными исполнителями которого оказались Анатошка и Мочалка. Сын отлично читал отцовские куплеты, Мочалка кувыркалась вполне профессионально.
Тут ирония уступила место тревоге.
Тут он с поразительной отчетливостью увидел, что подрастает Анатолий Дуров Второй. Мысль о многих Дуровых ему претила всю жизнь: он был е д и н с т в е н н ы й, других быть не должно.
Судьба сына определилась: никаких цирков, быть ему, как Кедров, бухгалтером.
И Анатошку определили на счетоводные курсы.
А внешне дом продолжал жить, как прежде.
Гости, граммофонная цыганщина, крики павлинов, флаг на башне фанерного замка.
Господин Клементьев с распутинской бородой упрямо старался н а в е с т и п о р я д о к, сделать дом н е х у ж е д р у г и х.
Старик-карла, став при музее привратником, нарядился в красную феску.
Феня хлопотала по дому, важничала: после отъезда Терезы Ивановны была за хозяйку.
Еленочка скучала, в глубине души довольная тем, как все обернулось. Однако Толия стал почему-то холодноват, частенько покрикивал, раздраженно передразнивал ее произношенье, когда пускалась в разговор по-русски.
Но все-таки развлекал. Собрал четырехколесный мотоциклет, катал по Дворянской. Публика глазела на невиданную машину, на Бель Элен. Она кокетничала, стреляла глазками, посылала воздушные поцелуи. Словом, устраивала из прогулки спектакль и, наверно, переигрывала временами. Поэтому он строго сказал ей однажды:
– Ну, ты, матушка, не очень-то…
Но, в общем, дом процветал. Посетители музея, музыка, вечерние фонарики в саду, вкусные слащовские обеды.
Он, Слащов, действительно был мастер, может быть, поэт даже в своем искусстве. Несмотря на то, что стихией его поэзии были антрекоты, бифштексы и пулярки, в натуре повара главенствовала тонкая чувствительность. Он все чужое переживал, как свое, но у него еще и личная драма была: одинокий и болезненный, он лишился единственного друга – силача Янова, о котором уже рассказывалось отчасти. То есть о том, как разжился деньжонками и открыл трактир в Ямской слободе. Слащов все прощал другу: и жадность к деньгам, и богомольное ханжество; но когда Янов вступил в черную сотню и, подняв иконы, пошел с мясниками громить евреев и даже, был слушок, убил кого-то сгоряча, – дружба их оборвалась разом. Слащов и на порог не пустил к себе трактирщика, прогнал со двора и обозвал нехорошо – сволочью.
Вот так жили в доме на Мало-Садовой тем летом, когда в один прекрасный день (а день и в самом деле был прекрасный) малютка Клементьич встретил в калитке петербургского литератора Б. Б. и кукарекнул:
– Пожалуйте-с!
Что произошло с этим литератором в гостях у Дурова, уже сообщалось.
Как Б. Б. в течение дня шалел и терял столичный лоск, как, утомленный, разморенный летней жарой и обилием впечатлений, дважды нюхал из Чериковерова пузыречка.
Как, встревоженный и испуганный ужасными застольными разговорами о бомбометателях (и даже ошибочно заподозрив близость злодея к дуровскому дому), бежал из Воронежа, боясь «влипнуть» (именно это словцо мелькнуло тогда в голове Б. Б.), и как, наконец, окончательно, до крайности, ошалевший, и растрепанный, уже за пределами города, когда поезд гремел по железным мостам воронежских рек, вспомнил вдруг заговорщическую фразу: «В двенадцать, в угловое окно» – и похолодел… Бож-ж-же мой!
Часы Б. Б. – помните? – показывали полночь.
И вот публика предвкушает нечто этакое: шепот заговорщиков, таинственные подземные переходы и прочее.
Ах, напрасно, напрасно, уважаемые! Ничего особенного не случилось. Хотя около полуночи в угловое окно действительно постучались.
– Ты, Санёк? – выйдя за калитку, спросил Анатолий Леонидович. – Ну, давай, давай, брат, заходи, все готово: постель, свечка… Продержишься с недельку, а там видно будет…
Александр засмеялся.
– Спасибо, мне папа сказал. Но я больше не Санёк, я – Иван Петрович Замахаев…
– Во-он что! – В голосе Дурова послышалось восхищенье, он всегда любил смелых, отчаянных. – Иван Петрович, значит, господин Замахаев… Ха!
– И, понимаете, не мог уехать, не простясь… Милый Анатолий Леонидыч, спасибо за все, живите вечно, веселый чародей!
– Ну-ну… – растроганно пробормотал Дуров.
Больше они не увидятся.
10
Береговая часть города поражала своей живописностью. По крутолобым буграм лепились домишки, палисадники, садочки, скворешни нужников. Цвет крыш был самый разный, – сурик, зеленка, лазурь, замшелая чернота тёса и рыжевато-бурая солома. Развешенное на веревках и плетнях пестрое белье и ярко раскрашенные голубятни также украшали береговой ландшафт.
Еще, не забыть сказать, во множестве по крутизнам карабкались ветхие лесенки. Они стремительно низвергались к зеленому гусиному лугу и, будучи на вид хрупки, вздорны и как бы даже невещественны, тем не менее держались за бугры цепко, стояли – какие десять, двадцать лет, а какие и более.
Внизу текла река, где по спокойной воде, не предвидя беды, плавали дуровские пеликаны.
И так тихо, в такой приятной лености пребывала природа, что, казалось, конца не предвидится этой лености, этому безмятежному покою; и прямо-таки нелепой, дикой представлялась мысль о нарушенной тишине – ну, скажем, о выстреле, о предсмертном крике и тому подобное.
А между тем по гусиной зеленой травке, по бережку шел человек в болотных сапогах и в соломенном картузике с двумя козырьками, известном под названием «здравствуй-прощай». В руках человека виднелось ружьецо, которое он то и дело вскидывал, словно бы прицеливаясь, но не стрелял. Это был упомянутый выше житель Гамовской улицы, слабоумный мещанин, пьянчужка по кличке Стрелок.
Он шел неспешно, покуривая, поплевывая, «воображая из себя», как говаривалось в мещанском кругу. За ним бежали вечные соучастники всех береговых дел – ребятишки, голубятники, проказливые приречные огольцы, подзуживали: «Слабо стрельнуть, дяденька!»
И так, представьте, дошагал гамовский полудурок до того тихого места, где, кланяясь друг дружке, плавали, играли учение пеликаны, и, дошагав, вскинул ружьишко прицельно.
– Слабо, дяденька! Слабо! – заголосили огольцы.
Но в то же мгновение грянул выстрел, а когда рассеялся густой сизый дым, стало очевидно, что произошло злодейство: издавая хриплый стон, дергаясь, бурля белыми брызгами на синей воде, умирал старый пеликан.
Воровато оглядываясь, злодей вскарабкался по крутизне, где в чаще дикого терна и крапивы его ожидал Кирьяк. Чернец заплатил презренному наемнику два целковых вместо трех, приговаривая при том, что и сего за глаза предостаточно.
Дуров плакал над убитым.
Он знал, что еще не вся беда кончилась, что следом за стариком и верная его подруга-пеликаночка уйдет, не вынесет тоски по милому.
Какой артист был! Какой талант!
Вы улыбаетесь, господа, вам странно слышать подобное о птице, но ведь это именно так – талант.
Вспомнились роли, сыгранные убитым: профессор, экзаменующий студентов, важный сановник с лентой и орденом (чертовски похожим на святыя Анны, из-за чего случались неприятности), чинуша-подхалим, думский оратор, интендантский генерал…
А верность, преданность искусству!
Об этом следует послушать самого Анатолия Леонидовича.
«Помню, это было в Севастополе, – рассказывал Дуров, – где я давал представление в городском саду на открытом воздухе. Придя как-то утром в сад, я вместе с гулявшей здесь публикой любовался моим пеликаном, который сидел на выступе гранитной ограды и время от времени широко раскрывал свои белоснежные крылья.
Но вот он как-то вытянулся на своих коротких ногах, взмахнул крыльями и взлетел над бухтой. Публика ахнула, послышались крики: «Улетит! Улетит!» И действительно, пеликан забирался все дальше и дальше, пока не скрылся из глаз.
Не скажу, чтобы я чувствовал себя в эти минуты спокойно. Мысленно я уже посылал вдогонку пеликану проклятья. Прошло четверть часа, полчаса – не знаю. Публика уже несколько успокоилась, перестала смотреть в сторону моря, соблазнившего моего питомца. И внимание гуляющих уже обратилось на пришедших музыкантов, приступивших к настройке инструментов.
Наконец грянул начальный марш.
А я, стараясь казаться спокойным, все продолжал урывками поглядывать в сторону моря, чего-то ожидая, на что-то смутно надеясь. И ведь недаром, господа, нет! Мои зоркие глаза заметили какую-то белую точку, она приближалась все ближе и ближе… И не успел оркестр закончить марш, как мой милый пеликан возвратился в сад и опустился как раз подле меня. Долетевшие до него звуки музыки разбудили в нем чувство артиста, и, пожертвовав свободой, пеликан вернулся к исполнению своих артистических обязанностей…»
И вот он лежал мертвый.
А небо погоже, радостно сияло. И город празднично пестрел глазастыми афишами о долгожданных гастролях известного борца Ивана Заикина.
Однако речь нынче шла не о борцовских схватках, не о двойных нельсонах, гриффах, тур-де-тетах и прочем и не о том, кто кого положит на лопатки, – вопросах, вызывавших живые и даже яростные споры и обсуждения в шумливой среде многочисленных любителей.
Речь нынче шла о полетах.
Малограмотный симбирский мужик, прошедший во Франции летную школу знаменитого Фармана, уже не прославленного Шемякина, не Буля и не Эмиля Бау, – нет, самое небо замахивался победить, кинуть, так сказать, на лопатки…
С огромных, чудовищно размалеванных листов благодушно глядел усатый добрый молодец с широкой лентой через плечо, густо увешанной медалями, жетонами и всевозможными знаками побед на борцовском ковре.
Первый в мире
л е т у н
Богатырь Заикин!!!
извещалось далее; затем буйная кисть художника изображала летящий в грозовых облаках аэроплан с крохотной фигуркой авиатора; костлявая смерть с косой в руках мчалась за ним и как бы пыталась поразить отчаянного.
Краски горели зловеще: сине-черные, с багровым отсветом облака, розовый Заикин, ядовито-желтый саван костлявой злодейки.
Возле афиш толпились любопытные. Гадали, кувыркнется ль, как недавно, в Харькове, и можно ль будет исхитриться, словчить без билета.
Приготавливалось поле для полетов. Спешно подновлялись, прихорашивались трибуны ипподрома, обряжались цепями-связками из сосновых веток, цветочными вензелями, флагами. В городе только и разговоров было, что о предстоящих полетах.
Наконец с железной дороги, с товарной станции Воронеж-Второй, на пяти ломовых телегах привезли упакованные в дощатые ящики части разобранного аэроплана и огромные тюки зеленого брезента. При странном багаже находились французы Жан и Жорж, веселые, вежливые молодые ребята в аккуратных синих комбинезонах и залихватски заломленных каскетках.
Раскатав тюки, они быстро, сноровисто принялись ставить брезентовый ангар.
Следом в обшарпанной извозчичьей пролетке подкатил сам Заикин – велик, грузен, восьмипудовое чудовище с улыбкой ребенка.
– Тре бьен, тре бьен, – похвалил, – молодцы, ребята, бон!
К вечеру аэроплан, собранный и отлаженный, стоял на зеленом поле, нелепо корячился многочисленными распорками, похожий на футуристические вымыслы художника Татлина.
Заикив сказал: «Мерси, месье», – похлопал по плечам своих французов и, кликнув извозчика, велел ехать на Мало-Садовую, к Дурову.
– Антиресный барин, – ухмыльнулся извозчик. – С бусорью. Ладимся, стал быть, намедни ехать с ним, так, веришь ли, из-за пятака торговался, а приехали – целковый отвалил…
Он лежал мертвый.
Над ним неутешная супруга билась в отчаянье. Обхватив крыльями труп, словно обняв его, она злобно, исступленно кидалась на всякого, кто осмеливался приблизиться к убитому.
Однако же надо было что-то делать с трупом. И уже энергичный господин Клементьев соображал, как отнять мертвую птицу, похоронить, закопать, навести порядок. Он уже волок из сарая прочный крапивный мешок, чтоб накинуть на безутешную, оттащить ее в сторонку. И дворник подкрадывался с другим мешком и мотком веревки для чего-то. Но Анатолий Леонидович остановил их.
– Не троньте, – приказал. – Дайте ей выплакаться.
Они отступили, пораженные его словами, сказанными как о человеке.
Тут у ворот загремели колеса пролетки, голос извозчика послышался:
– Тпррр!.. Приехали, ваше сияс…
И в калитке, клетчатым моднейшим пальто, котелком, великой богатырской статью заняв весь калиточный проем, появился Иван Заикин.
– Друг! – прогремел его бурлацкий басище. – Анатолий!
Но, увидев мертвую птицу, смутился, пророкотал: «А-а-а», на цыпочках, смешно балансируя огромными руками, подошел к Дурову и обнял его:
– Ай-яй-яй… беда какая!
– Слушай, Иван, – сказал Анатолий Леонидович, – подыми меня в небо… Что-то худо мне стало на земле.
Затем был печальный вечер, легкое винцо, воспоминания: а помнишь… а бывало…
На Еленочку гость как на пустое место поглядел. Некавалерствен был богатырь, ее чары оказывались бессильны. Да и немка к тому же. Иван Михайлович женскую красоту почитал одну лишь – русскую. Еще и то сказать: разговор промеж друзей был задушевный, приятельский, за стаканом. Дамочка выходила ни к селу ни к городу, лишней.
Наговорились, навспоминались.
И когда уже время пришло прощаться, – до завтра, до встречи на ипподроме, в комнату вбежала заплаканная Маруся.
– Папочка, милый! Она умирает…
Распластанная над убитым пеликаном, птица лежала недвижимо, как прежде. Но что-то клокотало в ней, какое-то хриплое рычанье вылетало из широко раскрытого клюва.
– Фонарь! – яростно крикнул Дуров. – Воды!
Заспанный, сердитый господин Клементьев возился с фонарем, спички ломались, гасли.
– Чертова борода! – Дуров вырвал фонарь, засветил, опустился на колени.
«И чего взвился? – удрученно, с укоризной подумал господин Клементьев. – Эка беда – птица сдохла…» Он даже губами пошевелил, как бы вслух произнося эти презрительные, недоуменные слова.
Принесли воды, но она уже была не нужна: судорога прошла волной по грузному, неуклюжему телу птицы, круглый блестящий глазок ее затянулся мутной пленкой, погас.
– Все, – вздохнул, поднимаясь, Дуров. – Конец… Вот, милые мои, как любить надо. Мы так не умеем, куда нам!
Валом валили к ипподрому.
По Кольцовской (или Лесной, как тогда ее по старой памяти еще частенько называли), по Второй Острогожской (улица Кирова нынче), по всем тем улицам и переулкам, что вели к ипподрому, шли, шли, ехали в извозчичьих пролетках, ехали на собственных, на конке, на велосипедах…
В автомобиле марки «пежо» Сычов промчался.
Самофалов-купчина пешочком ковылял, жалел, скопидом, двугривенный на извозчика.
У белой каменной ограды Новостроящегося кладбища виднелся столик, где продавали билеты. Там двое городовых чернели монументами, охраняя большую жестяную банку из-под леденцов «Ландрин», куда складывалась выручка.
Билеты были дороговаты, далеко не всякому по карману. Соблазнительно казалось, конечно, побывать на зеленом поле, поглядеть, как это в натуре все делается, – как авиатор заводит машину, как аэроплан разбегается по дорожке и, оторвавшись наконец от земли, взмывает в небо…
Соблазнительно, слов нет. Но ведь какая-то, пусть хоть самая малая щелочка есть же в высоком заборе, и вот через нее-то…
Сообразив, бежали, минуя столик с жестянкой. Но дальше, за углом ограды, сообразительных ловкачей ждало разочарованье: отряды конной полиции и пешие фараоны решительно преграждали путь. С мечтой о щелочке в заборе приходилось расстаться.
Аэроплан взлетел вдруг, неожиданно, чертом пронесся над головами и круто пошел в синее небо.
Дуров знал, что город, в котором живет, который стал его второй родиной, прекрасен. Но чтобы так… Чтобы настолько!
Огромным зеленым ковром распластался внизу Воронеж. Причудлив был чертеж разбегающихся в разные стороны улиц, то длинными, прямыми лучами пронзающих многоверстное пространство города, то бестолково сбивающихся в запутанный узор кривых уличек, тупичков, переулков…
А сады – как небольшие леса!
А золотые купола многочисленных церквей…
Синяя река, похожая на кривую саблю, на хитрый росчерк, на кинутый аркан…
Озера заречные, домишки пригородов и в голубоватой отдаленности – поля, поля…
Воронежская губерния. Россия…
Тут странные и даже страшноватые вещи происходят: солнце, малиновое, предзакатное, доселе сиявшее над головой, вдруг вниз, вниз, к Кругленькому лесу, покатилось неудержимо… И где был лесок – стала небесная бездна, а где небеса – там город взбугрился, как конь уросливый, встал на дыбы… И путаницей улиц, садов и кривых переулков навис вдруг над аэропланом.
«А ведь падает машина-то! – вспыхнуло в сознании стремительно, суматошно. – Вот черт!»
До онемения пальцев стиснул рукой тоненькую, ненадежную, как показалось, стойку, соединяющую верхнюю и нижнюю плоскости аэроплана. Конец! Конец…
И вдруг так горько, так по-детски встрепенулась обида: а как же Япония? Неужто так и не увидит далекую мечту – гору Фудзи… вишневую ветку в весеннем розовом цвету… Когда все уже договорено – контракт, заграничный паспорт, маршрут: Токио, Иокогама, Нагасаки…
Прощай, Япония!
Ах, да не все ли равно – держась за стойку падать или без стойки, так просто, камнем!
Мгновенье до гибели, а вдруг смешно сделалось: мысль – «со стойкой или без стойки» – развеселила. Страх уступил место разумному спокойствию. Что происходит?
Машина взбунтовалась, кренилась на правый бок. Увидел, что Заикин, наоборот, заваливается на левый, и, верно поняв попытку авиатора выровнять, уравновесить аэроплан, тоже, как и Заикин, завалился налево. Земля и небо не сразу, но все же стали на свои места, и снова солнце вспыхнуло наверху. Вот когда радость полета охватила!
– Жми, Иван! – захохотал в восторге, и Заикин, оборотясь, тоже весело оскалил зубы.
Показалось, что и сама машина возликовала: что-то в ней погремливать стало, позвякивать; под сильным ветром гусельными струнами запели проволочные растяжки в колеблющихся, вздрагивающих брезентовых плоскостях…
– Птица-тройка! – заорал, словно пьянея от полета, словно и не было минуту назад падения, страха, этой растяжки-стойки, в которую позорно, трусливо вцепился сперва, пока не сообразил, что все равно ведь, как умирать – с дурацкой этой растяжкой в руке или без нее… чтоб ей!
Да, кроме всего, аэроплан и не собирался падать. С торжественным ревом он врезался в облачко; белые хлопья тумана мягко, влажно мазнули по лицу, и снова сверкнуло оранжевое предзакатное солнце, и снова город зазеленел садами, засверкал золотыми маковками, заголубел рекой. А Заикин, заглушаемый трескотней мотора, что-то кричал, указывал рукою вниз: смотри! смотри!
Там знакомый бельведер – такой крохотной, прелестной игрушкой на черноте вечернего сада белел… И, последними лучами солнца позолоченная, прекрасная мраморная женщина глядела вслед проносящимся над нею смельчакам…
Там каменная лестница ручьем сбегала к реке.
Флаг несуществующего государства на зубчатой башне фантастического замка, построенного из порожних ящиков от спичек и конфет.
Там был Дом.
Его созданье, мечта, воплощенная в сказочное диво.
Он радостно засмеялся. Хотел крикнуть Заикину: «Спасибо, Иван!» – но аэроплан круто прянул вверх, и, как виденье, исчезла, растаяла усадьба. И снова солнце ухнуло вниз, а замысловатый чертеж города вздыбился, повис над головой.
Но это уже было привычно и не страшно, лишь на секунду сердце замерло… И – что это? Ни города, ни луга, – стремительно, с гулом в ушах мчится, набегает навстречу зеленое поле… Трибуны зачернели многолюдством… Тысячи крохотных человечков – бесплатные зрители – бегут, спотыкаются и опять бегут, машут руками, радуются встрече. «Браво, Дуров! – словно бы слышится ему. – Браво! Бра-а-а-во!»








