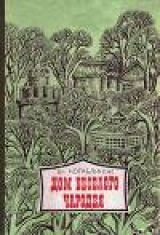
Текст книги "Дом веселого чародея"
Автор книги: Владимир Кораблинов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 12 страниц)
– Идите, идите, – с досадой отмахнулся Дуров. – Я сам разберусь…
Они ушли, огорченные. Малютка – тем, что Анатолий Леонидович не приструнил господина Клементьева, не дал ему понять, что он хоть и заметная фигура, а тоже за все просто может вылететь с тепленького местечка. Господину же Клементьеву было обидно, что не высказал свои опасения по поводу повара Слащова, коего подозревал в приверженности к социалистическим идеям. И что «летучки» бумажные э р – э с – д е – э р – п е не он ли, Слащов, на заборе лепил, это еще разобраться надо…
На лестнице опять вертелся Анатошка. Показав господину Клементьеву язык, исчез, провалился, после чего откуда-то, из неизвестного места —
– Что, взял, пузо с бородой! – обидно прокричал и оскорбительно залаял по-собачьи.
– Ох-хо-хо, – горестно пробормотал господин Клементьев. – Достойный растет продолжатель папашиной специальности…
7
Благоразумный Чериковер да и легкомысленный Кедров предостерегали Дурова от этой поездки.
– Помилуй! – приятным, но несколько тревожным голосом говорил в телефон Семен Михайлович. – Какие, моншер, гастроли, когда вся Россия бурлит!
После того вечера на Старом Беге он представлял себе революцию в виде огромного сборища плохо одетых людей и обязательно зимней ночью: факелы в черноте, снег, мороз, лошадиные морды опушены инеем.
– Вот и чудесно! – отвечал Анатолий Леонидович в черный рожок телефонного ящика. – Этим-то именно и привлекает меня поездка…
Чериковер ахал:
– Я отказываюсь понимать! – и, захватив по дороге Кедрова, приезжал на Мало-Садовую отговаривать друга от безумного предприятия.
Вдвоем принимались рассказывать всякие ужасы, надеясь поколебать решение Дурова, напугать его.
Весело блестя глазами, Анатолий Леонидович слушал их не без удовольствия, поддразнивал, похохатывал.
– В Бобровском уезде помещиков жгут, – оглядываясь на дверь, жутким шепотом сообщал милейший Семен Михайлович. – В Воронеже все гостиницы забиты… Бегут! Вчера вот только Звягинцевы приехали, что рассказывают – кошмар!
– На железной дороге забастовки, поезда не идут… Как можно думать о каких-то гастролях? Безумие! Безумие!
Кедров таращил глаза, по-актерски играл голосом. Анатолий Леонидович вместо ответа, смеясь, показал свежеотпечатанную «летучку» – розовый листок со стишками;
Я в каждом городе стараюсь
Всегда новинки припасать
И снова к вам, друзья, являюсь
С фурорной новостью опять! —
и так далее, и так далее, в количестве трех тысяч экземпляров.
Аккуратно перевязанные шпагатом, розовые стопки листовок загромождали кабинет.
– Как видите, господа, все уже решено…
Вызвал господина Клементьева, спросил, все ли готово к отъезду.
– Так точно, все, – по-солдатски вытянулся господин Клементьев и сообщил, что клетки с животными и птицами отправляются в ночь, что вагон отапливается и что в сопровождающие назначены такие-то. – А что касается крыс…
– Да, да, крысы со мной поедут, – кивнул головой Дуров. – Так что, как видите, друзья…
– Сумасшедший! – вздохнул Чериковер.
Прижав к глазам платок, Кедров картинно обнял Анатолия Леонидовича.
Сопровождаемый Прекрасной Еленой старичок-карлик принес вино и бокалы.
– Хоть бы вы, божественная, его отговорили, – целуя Еленины ручки, сказал Семен Михайлович.
– О! Ми решиль и – баста! – прищелкивая пальцами, засмеялась Бель Элен.
Ей было все равно, куда ни ехать, лишь бы вырваться из опостылевшего Воронежа.
Словно и не было черных ночей осени, длинной, снежной зимы.
В окнах вагона мелькала весенняя родная Россия, ее поля, дубравы, перелески. Гремели железные мосты. В тихих реках отражались дивной красоты облака, сияли трепетные крылья золотых и багряных закатов.
Пестрота дороги, шум городов, ослепительный свет манежа. Неизменный успех, грохот аплодисментов, крики «браво». Развеселая компания артистов и поклонников. Ужины в дорогих ресторанах, шампанское в серебряных ведерках. Букеты роз и тюльпанов. Лавровые венки. Новые восторженные записи на огромных страницах путевого альбома.
Пряный, упоительный аромат славы и всеобщего поклонения.
Но, несмотря ни на что, ко всем этим привычным и желанным удовольствиям примешивалось странное, волнующее чувство или, верней сказать, предчувствие чего-то необыкновенного, нового – и радостного и страшного в своей новизне.
Оно, это предчувствие, прямо-таки в воздухе висело. Оно было во всем: в белых плешинах газетных столбцов, вымаранных цензурой, в туманных слухах о мужицких бунтах и рабочих забастовках, в обывательском шепоте, в бестолковых разглагольствованиях трактирных, лавочных, театральных…
Даже у всенощной, в церкви.
Даже в артистических уборных цирковых балаганов.
Порт-Артур. Мукден. Цусима… Эти чужие, не по-русски звучащие слова сделались символами военного разгрома российской армии, бездарности ее полководцев. И хотя японцев все еще презрительно именовали м а к а к а м и и еще очень памятны были оголтело-патриотические речи «шапками закидаем!», из города в город, по всей стране, летела, минуя всякую цензуру, издевательская песенка:
Берегись, макаки! —
Хвастали вояки.
А дошло до драки —
Дали нам макаки!
Воронежских впечатлений накопилось достаточно для того, чтобы представить себе, что происходит в стране. Быстрое воображение довольно точно нарисовало общую картину современной русской жизни. И ежели из богатейшего лексикона русского языка требовалось выбрать слово, чтобы наименовать происходящее, то слово это, без сомнения, было: революция.
Переезжая из города в город, он убеждался в правильности своего художнического воображения общей картины, но – боже мой – сколько в ней оказывалось невоображенных частностей! Случайные происшествия, сценки, подслушанные разговоры…
По улицам Калуги, например, раненых солдат везли (бинты, пропитанные ржавчиной засохшей крови, тошнящий запах йодоформа, стоны, костыли, красные крестики на косынках сестер), и толпы горожан хоть и безмолвно стояли у обочин тротуаров, но как красноречиво чувствовалось их молчаливое осуждение! Со злобой и презрением брошенное: «Довоевались!» – ох, как о многом, не сказанном, говорило!
Или вот в Туле было: двое конных стражников человека вели по булыжной мостовой. На его нездоровом, сером, словно запыленном, лице от виска – вниз, по щеке, – запекшаяся кровь. Была жара, мухи вились вокруг раны, досаждали, а человек хоть бы рукой пошевелил, чтоб отмахнуться. «Что это он? – удивился Дуров. – Как неживой…» И не вдруг рассмотрел, что руки-то у бедняги за спину заведены, закованы.
Частности общей картины…
В каком-то городе, чуть ли не в той же Туле, на вокзале – ни одного носильщика. Нагруженный чемоданами, баулами, шляпными коробками, Анатолий Леонидович раздраженно накричал на дежурного по станции:
– Безобразие, черт знает что! Где носильщики?
– Бастуют-с, – вежливо козырнул дежурный. – Второй день…
По телеграфу заказывал в местной газете рекламу: едет Дуров – и прочее. Прямо с вокзала, явившись в гостиницу, спросил у коридорного газету. Тот замялся:
– Не получили-с…
Оказалось, не только реклама, но и сама газета не вышла, бастовали типографские рабочие.
Дуров чертыхнулся и, не теряя времени, – к хозяину типографии. Тот руками развел:
– Ничего не могу-с.
– Но, помилуйте, мне афиши нужны! Черт с ней, с газетной рекламой… но афиши! Афиши!
– А вы с рабочими поговорите, – посоветовал хозяин. — По мне – что, по мне – с великим удовольствием, а вот как они…
С рабочими договорились враз.
– Анатолию Дурову? Сделаем, конечно…
– Этакому-то артисту!
Но дошло дело до печати – ан бумаги нет, склад заперт, кладовщик загулял, а в цехе – одна лишь красная.
– Великолепно, – согласился Дуров, – давайте на красной.
Крестный (будто бы со слов самого Анатолия Леонидовича), так рассказывал:
– Город, можешь себе представить, ну просто словно алыми маками расцвел. Тумбы, заборы, стены – все красным-красно. Расклейщикам Анатолий Леонидыч от себя платил щедро, вот они и постарались! На губернаторской резиденции, на городской управе, на виднейших присутственных местах… На монастырской ограде – и то налепили: «Дуров, Дуров… Война животных, хор свиней, поющая собака!» Каково?
Вот уж не могу тебе сказать, умышленно это было сделано или нет. Сам Анатолий Леонидыч категорически отрицал: «Бумаги, мол, другой не было». Но я, между прочим, сомневаюсь: этакая скандальозность в его духе. А время-то, прими во внимание, – девятьсот пятый…
Нуте-с, результаты подобной буффоны сказаться не замедлили. Рано утром, Елена Робертовна еще в постели нежилась, – стук в дверь. Решительный. Бесцеремонный. Он сразу, конечно, догадался: полиция. Кое-как, наспех загородил Прекрасную Елену ширмами, открывает. Ну, так и есть: пристав. Этакая богопротивная образина, Держиморда в квадрате, если можно так выразиться.
– Господин Дуров?
– К вашим услугам. В чем дело?
– А в том, что извольте свои афишки снять немедля.
– Здравствуйте, пожалуйста, чем они вашему благородию не понравились?
– Извольте снять!
– Но почему же?
– Цвет нехорош.
– Ах, цве-е-ет-с нехорош! Ну, это, почтеннейший, дело вкуса. Мне, например, нравится.
– Так не снимете?
– И не подумаю.
– В таком случае… – грозно было начал полицейский, но тут Елена Робертовна за ширмами шум подняла:
– Нахал! Невежа! Пошел вон! В комната женщин не одет, голи… а он врывалься, как это… разбойничка, мёрдер! Ми жальвался будет!
И, можешь себе представить, на бедного пристава полетели из-за ширмы чулки, и подвязки, и туфли, и прочие предметы дамского туалета… Оторопевший и разозленный, он ретировался, конечно.
Однако и часа не прошло – посыльный унтер: господин исправник просит пожаловать незамедлительно. Что ж поделаешь, надо идти.
В приемной – народ, толчея. Анатолий Леонидыч – к дежурному чиновнику: прошу доложить.
– Сию минуточку…
Побежал, вернулся, опять куда-то исчез. Так десять, двадцать минут проходит.
– Ну, что же, долго мне тут ждать?
– Докладывал, говорит: повремените-с…
Наконец вызывает.
– Тут у вас, – цедит сквозь зубы, – на афишках помечено: хор свиней, не так ли?
– Ваша святая правда, – отвечает Дуров.
– Так пожалуйте тексты-с.
– Помилуйте, какие тексты! У меня же свиньи поют…
– Так вот-с, тексты.
– Но я свинячьего языка не понимаю и по-свински не разговариваю!
– Те-те-те! Знаем мы, что они у вас поют, – нахмурился исправник. – Наслышаны-с.
И ведь запретил номер, скотина! Да еще и придрался, что в афише сказано: «свиньи дрессированы н а с в о б о д е».
– Зачеркните, – приказал, – последнее словечко… Сие в настоящее время двусмысленно.
Вечером цирк полон, разумеется. Красная бумага на афишах, знаешь ли, тоже немалую роль сыграла. Слухи пошли по городу: еще, мол, не начинал, а уже конфликты с полицией… Реклама в некотором смысле, это Анатолий Леонидыч тоже отлично понимал.
Ну-с, показывает то, показывает другое. Успех, как всегда, грандиознейший. Но вот на верхотуре – шум, крики, требуют свиную капеллу. Анатолий Леонидыч выводит своих «артистов». Молчат чушки, ни звука. «Песни давай! – кричит публика. – Почему не поют?»
– Уважаемые господа! – говорит Дуров. – Мы бы с удовольствием спели, да господин исправник номер запретил… по цензурным соображениям.
– Как?! – перебивает его шпрехшталмейстер. – И для свиней введена цензура?
– Увы! – печально отвечает Анатолий Леонидыч. —
Тут, отлично знаю я,
Нам ничто уж не поможет:
Нынче даже и свинья
Без цензуры жить не может!
Это выглядело экспромтом, но… да не все ли равно, в конце концов, – экспромт, не экспромт! Номер-то, несмотря ни на что, получился, и баста.
Бурлила Россия.
Он любил посещать людные места – вокзалы, дешевые трактиры, базарные чайные, где с интересом прислушивался к бесконечным россказням о том, что творилось вокруг.
Впечатления переполняли. Понимал, что увиденное и услышанное надо записать. Но пестрая карусель собственной жизни мчалась неудержимо; для литературной работы требовалась хоть малая остановка в сумасшедшей круговерти, а где ее было взять? Приходилось неустанно сражаться с полицейской цензурой, с администрацией губернской и городской, с любым чиновным ничтожеством, облеченным в соответствующий мундир. Формально цирковые репризы не цензуровались, но любой полицмейстер, любой исправник и даже мелкая сошка – становой пристав – могли во время самого представления оборвать, запретить, обезглавить программу.
Бесконечное противоборство, бесконечная напряженность и трепка нервов.
Вот когда с любовью и нежностью вспоминался дом на Мало-Садовой, ночные часы за письменным столом, тишина… Лишь легкий треск рассохшихся лестничных ступенек да коростель бессонный в заречной дали…
Нужна была остановка.
Она случилась нежданно.
После успешных, но трудных гастролей в провинции его ожидали в Москве. Кончалось беспокойное лето. К осенним краскам московских бульваров прибавилась кричащая пестрота плакатов, извещающих о выступлениях «единственного и первого русского соло-клоуна Анатолия Дурова».
Но вышло так, что «единственный и первый» до Белокаменной не добрался. Поезд остановился в Серпухове, где пассажирам сообщили, что дальше путь закрыт из-за беспорядков в Москве.
– Ну что ж, – сказал Анатолий Леонидович, – отдохнем. Пожалуй, даже кстати.
Сонный городок с его типично провинциальным обликом понравился Дурову. Поросшие гусиной травкой мостовые, долгие колокольные звоны многочисленных церквей, аккуратные старушки в кружевных наколках, бредущие с ридикюлями, словно тени, по вытоптанным плитам узеньких тротуаров, – все показалось ему таким родным, милым, давно и прочно обжитым.
– Похоже на Воронеж, не правда ли? – спросил у Прекрасной Елены.
– Майн гот! – простонала она. – Такой же дыра… крахвинкель!
Не снимая шляпки, опустилась на неуклюжий стул, презрительно оглядела номер. Гостиница и в самом деле была не из перворазрядных, однако выбирать не приходилось: город кишел бежавшими от «ужаса революции», все, вплоть до меблирашек и трактиров, было переполнено, захвачено под временное пристанище.
Комнаты гостиничного номера нависали тяжелыми сводами, крохотные окна в аршинной толщины стенах почему-то по-церковному были забраны толстыми, с затейливыми завитками решетками, загораживающими дневной свет, который и без того скупо проникал в помещение: гостиница боком упиралась в глухую кирпичную стену соседнего дома.
Вечный полумрак плотно стоял в номерах. Включить бы электричество, да оно еще новинкой почиталось, постояльцы обходились стеариновыми свечами. Но что особенно раздражало Бель Элен – это непрерывный гул и стук под полом: внизу помещалась типография.
А Дуров сказал, что и это превосходно.
– Пока будем отсиживаться, афиши напечатаем…
И начал жить в Серпухове не без удовольствия.
Ему нравилось бродить по сонным уличкам, всматриваясь, вслушиваясь, в тишине вспоминая шумную свою жизнь, далекие годы отрочества и юности, когда вот по таким захолустным городкам (крахвинкель!) кочевал с бродячими балаганщиками. Вечно голодный, но вечно счастливый, в предвкушении жизни особенной, где все будет: и слава, и деньги, ослепительный мир искусства, в котором тогда еще робко, туманно сияла его звездочка… Боже мой, каким далеким казался сейчас тот худенький оборванный юнец!
Шел по серпуховским улицам важный, нарядно одетый господин. Всемирно известный… и так далее. И все у него было: и деньги, и слава, и красивые женщины, а вот не хватало чего-то. Того, что в том далеком мальчишке пылало нестерпимо.
Заканчивая прогулку, заглянул в типографию насчет афиш.
– Сочту за честь! – прямо-таки сиял хозяин. – Такому великому артисту-с… Пожалуйте текстик, все исполним в лучшем виде, останетесь довольны!
Милый друг проснулся в отличном расположении и все утро что-то писал, временами посвистывая.
А Бель Элен спала плохо: внизу гудели машины и снились отвратительные, страшные сны. Она уверила себя, что эти комнаты под сводами таят в себе чертовщину – привидения и иные неприятные неожиданности.
Она сказала:
– Не свисти.
– Душенька, – нежно ответил он, – не мешай мне работать.
И посмотрел значительно, не то чтобы сердито, а как-то так, что снова вспомнила Мадрид, Кременчуг и… где-то еще.
Он писал этюд под названием «Революция».
Это сочинение он и впоследствии, вспоминая те дни, называл этюдом. Это был ряд сценок, подсмотренных, случайно-наблюденных. Разговоры в трактире. В вагоне железной дороги. Случай с забастовкой и красными афишами.
Однажды в чайной он разговаривал с ломовыми извозчиками: в московских баррикадах была и их доля – переворачивали свои телеги и валили стеной, перегораживая улицы от полиции. Телеги, конечно, пиши пропало, убыток в хозяйстве, но мужики не жалились: дело мирское, народ нынче миром встал.
Встречался с помещиками, бежавшими из деревень. «С мужиком сладу нет, – сокрушались беглецы. – Солдат не хватает на усмиренье…»
Тут Проня вспомнился. Где-то его господь носит?
Поставив последнюю точку, перелистал написанное. «А ведь живо! – подумал он. – Очень, очень живо! Вот бы тиснуть… Ну, хотя бы две дюжинки. Для друзей…»
Но вспомнил мытарства цензурные и махнул рукой: куда!
– Ты что-то хотела сказать? – обернулся к Елене. – Что? Дурной сон? Ну, душенька, какие пустяки, не расстраивайся. Все будет отлично. Зер гут.
– Ах, Толья, – жалобно сказала Елена, – не сон… Здесь, в этот старый дом, ходит ночью… как это? Гешпенст!
– Привидение? – Дуров рассмеялся. – Чушь какая!
– Не чушка! Такой старый дом – всегда гешпенст…
Бог знает, что бы она еще придумала, раздосадованная тем, что под самой Москвой вдруг застряли. У нее были свои виды на Москву, где стеклянные этажи Мюр-Мерилиза блистали всяческими дамскими соблазнами, и некая мадам Буше с ее шляпным заведением и з П а р и ж а, и веселые ужины у «Яра», и… да мало ли чего! И, верно, воспользовавшись некоторым замешательством милого друга, она еще и еще продолжала бы нести мистический вздор о старых замках и призраках, и бог знает, чем бы закончилось это утро, если б дверь номера вдруг не приоткрылась и хрипловатый, прокуренный голос не произнес:
– Могу ли я увидеть господина Дурова?
Затем появился по-армейски развязный пехотный штабс-капитан. Он многословно и цветисто рассыпался в извинениях и комплиментах («в столь ранний час… преклоняясь перед талантом… о, пардон, мадам!»), не давая хозяевам открыть рта, распространился о погоде, связывая ее, однако, с приездом Анатолия Леонидовича и Прекрасной Елены («мрак ненастной осени озарили… подобно лучу солнца, позволю себе выразиться…»); скорбно-негодующе коснулся событий последних дней («Кошмар! Кошмар! Куда толкают матушку святую Русь эти проклятые социалисты…»).
– Но позвольте, милостивый государь, – решительно прервал его Дуров, – чему, собственно, мы обязаны вашим посещением?
Тогда лишь только выяснилось, что велеречивый штабс-капитан явился к господину Дурову с покорнейшей просьбой дать представление в офицерском собрании местного гарнизона.
– В смысле, хе-хе, гонорария не извольте беспокоиться, – осклабился штабс-капитан. – Все будет соответственно и безусловно.
«Какой болван!» – подумал Анатолий Леонидович и обещал пожаловать часам к восьми.
Переписав набело э т ю д, спустился в типографию.
– Афишки ваши набраны, – любезно встретил его хозяин. – К вечеру отпечатаем-с.
Он был весь благорасположение и предупредительность, глядел ласково, как кот на сало: типография пробавлялась печатаньем местной газетенки да случайными мелочами – визитными карточками, объявлениями, прейскурантами. Еще были приказы московского генерал-губернатора, но эти шли безвозмездно. Заказ Анатолия Леонидовича сулил куш немалый.
– Прекрасно, – сказал Дуров. – Но у меня к вам еще дельце. Не смогли бы вы отпечатать мне вот эти наброски…
– Цензура-с, – вздохнул типографщик, щелкнув ногтем по заголовку.
– Да мне и всего-то экземпляров двадцать, послать кой-кому из друзей.
– Ну, это другое дело! Двадцать оттисков можно, конечно, и без цензуры.
Выйдя из полутемной типографии на улицу, удивился: всего полчаса назад был яркий, голубой день, и вдруг так низко нависли тяжелые, с беловатыми загривками тучи, так зимним холодом потянуло… Осень решительно поворачивала на зиму.
Сразу как-то и город поскучнел, посуровел. В пустынном скверике лениво взмахивал метлой старик, подметал дорожки. С лицом усталой немолодой актрисы по гремящей палой листве бродила коза. Возле афишной тумбы грациозно, балетно поднялась на точеные копытца, пожевала кусок отклеившегося объявления «Сим доводится до све…»
Осень. Коза. Тумба.
Постоянная обязательная подробность на картинах простодушных живописцев, изображающих уголки русских провинциальных городов.
Удавшийся этюд, безотчетное чувство приближения каких-то блистательных перемен; холодный предзимний день после долгой осенней слякоти и хотя и вынужденный, но все же отдых, увенчавший месяцы напряженной работы и скитаний по городам Средней России, – все это бодрило, подготавливало к завершению дела, в мечтах как бы уже завершенного…
И так захотелось вдруг туда, в тишину Мало-Садовой, к воронежским пенатам, в круг семьи, в круг друзей.
– Папиросочки не найдется ли, господин? – спросил старик, опершись на метлу.
Папироска нашлась.
– Домой пора, отец, – сказал Дуров. – Верно?
– Это что и говорить, – поняв по-своему, с удовольствием согласился старик. – Пора… А все неймется до красных-то денечков доскрипеть.
Дуров улыбнулся: «красные денечки»…
Еленочка прихорашивалась.
На это всегда уходила уйма времени. Баночки, пузыречки, щипчики, пилочки, флаконы всевозможных форм и цветов, какие-то мази, кремы, лосьоны – тоже во множестве и тоже разноцветные – перед нею выстраивались, подобно сверкающему войску, коего она была отважным, но рассудительным предводителем.
Ей не для чего было подкрашивать лицо, стараться сделаться красивой, она и без того почиталась как одна из самых очаровательных женщин в шумном и великолепном мире цирковой аристократии. Окруженная многочисленными дорогими косметическими снадобьями, она забывала про них и просто любовалась своим отражением в зеркале: вот такой поворот головы… такая улыбка… такой, как бы нечаянно выбившийся локон.
Радовалась предстоящему вечеру в офицерском собрании, где господа офицеры будут наперебой ухаживать за ней, приправляя ухаживанье кто меланхолическими вздохами, кто туманными недосказанностями, а кто и просто пошлыми, грубоватыми намеками. Слабое знание языка избавляло ее от уразумения подлинного смысла намеков, хотя, наскучив одиночеством и тишиной под тяжелыми сводами захудалой гостиницы, она, пожалуй, и это приняла бы благосклонно.
Около семи явился штабс-капитан. Анатолий Леонидович попросил его проводить Еленочку в собрание, обещая сам прибыть туда позднее: ему надо было заглянуть в типографию. Просиявший офицер, с поклонами и звенящими от шпор расшаркиваниями, усадил ее в допотопную чудовищную коляску, раскормленные, как свиньи, караковые гарнизонные жеребцы рванули, украшенный медалями солдат-кучер гайкнул, и коляска скрылась в облаке серпуховской пыли.
О том, что случилось дальше, рассказал сам Анатолий Леонидович.
«Отправляясь вечером в собрание, я завернул в типографию, в которой находились несколько рабочих и какой-то незнакомый мне господин,
– Ну что, – обращаюсь к хозяину, – готовы мои наброски?
– Нет, исправник не подписал.
– Как исправник? Зачем же вы давали исправнику? Ведь я просил отпечатать только несколько экземпляров без цензуры… Наделали хлопот! Теперь этот чинуша засуетится, из-за пустяка может выйти история…
– Как вы смеете говорить о господине исправнике так грубо? – возмутился незнакомый господин.
– А вам какое дело? Я к вам не обращаюсь, – ответил я.
– Анатолий Леонидыч, – окружили меня мальчишки-рабочие. – Нельзя ли нам на чаек? Мы вам афиши печатали.
– Хорошо, я дам вам двадцать пять рублей, только не печатайте вот ему! – показал я пальцем на господина, хлопнул дверью и пошел в собрание.
В собрании я был встречен радушно. Мне показали комнату, в которой я должен одеваться. Я вынул из кармана браунинг, положил его за зеркало и стал гримироваться. Но меня все беспокоила мысль, что исправник знает про мое сочинение.
«Нет, не могу одеваться, я должен видеть исправника и переговорить с ним!» – мелькнуло у меня в голове.
Я обратился к, офицеру с просьбой начать представление чуточку позднее, так как я должен повидаться кое с кем… Тот обещал продлить время концертным отделением.
Отправляюсь сейчас же к исправнику на извозчике. Звоню. Выходит вестовой и заявляет:
– Вас принимать не приказано.
«Ну, значит, что-нибудь серьезное», – подумал я.
– Мне нужно во что бы то ни стало видеть исправника! – заявляю служивому. – Доложи, братец…
Через некоторое время он вернулся, приглашая войти в приемную. Там был помощник исправника. Он попросил объяснить ему, чего я желаю.
– Мне нужно лично видеть исправника, – повторил я.
Когда помощник пошел докладывать исправнику о моем желании, я увидел в зале сидевших рядом моего типографа и давешнего господина (впоследствии он оказался полицейским письмоводителем).
– Пожалуйте в кабинет, – произнес вернувшийся помощник, почтительно пропуская меня вперед.
С исправником мы оказались уже знакомы, так как встречались раньше в Орле, где он был полицмейстером, но за какие-то провинности попал в Серпухов.
Встретил он меня довольно холодно, взял бумажку со стола и, тряся ею, обратился ко мне:
– Скажите, а какая такая у нас революция? У нас революции нет-с.
– Вот по поводу этого-то я и заехал к вам сказать, что мой рассказик был написан для самого себя, а не для публики…
– Да, но все-таки я так этого оставить не могу-с… Я должен буду сейчас переговорить… Попрошу вас посидеть в зале.
– Но я бы вас попросил…
– Повторяю: будьте любезны посидеть в зале!
Я вышел и слышу, что исправник говорит по телефону:
– Да, я, ваше превосходительство… Да, тот самый Дуров. Он написал… да, я прочту вам, вашество…
И он прочел от начала до конца все мое сочинение.
– Так вот… Как прикажете? На три месяца? Но там у нас все занято… Ага! Туда? Слушаюсь! Хорошо-с…
От этого телефонного разговора меня передернуло.
– Вас просят пожаловать в кабинет, – приглашает помощник.
Только я вошел в кабинет, как исправник громко провозгласил:
– Руки!
Моментально, не знаю откуда, появились два казака, которые схватили меня за руки.
– Обыскать! – приказал исправник.
Казаки полезли ко мне в карманы, вынимая все, что там находилось, и, между прочим, из пиджака вынули один патрон от браунинга.
– Ага! Еще три месяца! – заявил исправник.
Я лезу в жилет, вынимаю еще патрон и, кладя его на стол, говорю:
– А вот и еще на три месяца… В конце концов, объясните мне, господин исправник, за что я арестован. Какое я сделал преступление?
– Как какое!.. Мало того, что вы хотели отпечатать про какую-то революцию, – вы еще позволили себе предлагать рабочим типографии деньги, чтобы они не печатали приказаний московского генерал-губернатора!
– Но позвольте… даю вам слово, господин исправник, что про эту бумагу я и не знал. Прошу вас убедительно не подводить меня, иначе я буду считать это личной местью, так как у меня с вами уже было как-то недоразумение…
Во время нашего разговора я видел, как в соседней комнате прохаживался генерал. Этот генерал по назначению генерал-губернатора же устраивал вечер в офицерском собрании.
– Я прошу вас меня освободить! Мне нужно сейчас быть в офицерском собрании… Меня ждут!
– Хорошо-с, – отвечает исправник. – Даете ли мне слово, если я вас освобожу, что завтра же утром оставите Серпухов, хотя и не идут поезда?
Слово пришлось дать.
В собрании я говорил колкости по адресу администрации. Я чувствовал себя в ударе, успех был большой. Вряд ли кто видел меня таким злым клоуном, как в этот вечер.
А рано утром…»
Рано утром ударил мороз, закурила метель.
От Серпуховской заставы, по дороге на Калугу, потянулся санный поезд. Не спеша трусили белые от снега, мохнатые лошаденки с удивительной поклажей: в дровнях, закутанных рогожами и веретьем, виднелись какие-то ящики, клетки с проволочной решеткой, куриные плетушки. Встречные мужики долго глядели вслед обозу, смеялись, ахали; иные, в избытке удивления от необыкновенной встречи, восторженно приветствовали путников затейливым, добродушным матерком.
А поезд и в самом деле был приметный. Из-под веретья слышалось и кудахтанье куриное, и гуси гоготали, и козел негодующе, дребезжаще взмыкивал, и нервно перебрехивались собаки… Головой обозу, на легких городских козырьках, укутанные шалями и тулупами, ехали барин с барыней. Скинув тулуп, барин иной раз резво бежал к одной из подвод и, приложив ухо к веретью, прислушивался. «Ах, черт возьми! – бормотал тревожно. – Не довезем… Как пить дать, не довезем!»
– То-ли-я! – жалобно из-под платков стонала барыня. – То-ли-я! Я замерзайт…
– Ах, да погоди ты, Еленочка! – раздраженно отмахивался он. – Крысы… Ты понимаешь, как бы крысы не померзли… Проклятый держиморда! Чтоб ему, окаянному…
Икалось ли в то утро его высокородию серпуховскому исправнику, мы не знаем, но восемь дрессированных крыс в дороге от Серпухова до Калуги действительно погибли.








