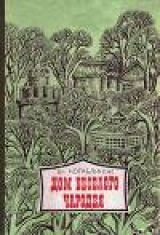
Текст книги "Дом веселого чародея"
Автор книги: Владимир Кораблинов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
Я рассмеялся: как здорово отделал императора!
– Тебе, конечно, смешно, а ему каково? Он еще разгримироваться не успел, как его – айн-цвай! – впихивают в черную полицейскую карету и – пожалуйте, герр Дурофф, в тюрьму! А ведь Моабит – тюрьма для самых опасных преступников, про нее так говаривали, что раз в нее попал – конец. И вот милейший наш Анатолий Леонидыч сидит в этом чертовом Моабите день, сидит два, три, – его не вызывают, не спрашивают, о нем забыли. Два раза в сутки в окованной железом двери открывается окошечко, разносят ужасную тюремную похлебку. Бегут дни, проходит, можешь себе представить, неделя… Кошмар! Он там даже стихи сочинил, чуть ли не целую поэму. Как-то раз читал мне, да разве упомнишь! Что-то вроде: «Уж третий день, как я в тюрьме, сношу презрение и муки» – ну и так далее, как бы вопль из могилы…
Я слушал крестного, – ужас, ужас! Черная карета, тюрьма, одиночество… А у него вдруг что-то с лобзиком стряслось (на этот раз Иван Дмитрич выпиливал рамочку), – порвалась пилка, ее пришлось менять. Я ёрзал на стуле, не терпелось узнать, чем же все кончилось. Не выдержал, спросил.
– Что? Ах, эта берлинская история… Да ничего особенного, мой друг. Тереза Ивановна внесла восемь тысяч марок, и Дурова выпустили из тюрьмы, но не совсем, а до суда лишь. Нуте-с, потом он долго разъезжал по Европе, а когда вернулся в Россию, его – бац! – вызывают в полицию: немецкое правительство требует выслать клоуна Анатолия Дурова, чтобы судить как государственного преступника… Вот черт! Дело, видишь ли, скверно оборачивалось, оскорбление его величества – это, братец, не фунт изюму…
– Фу, господи! Да не ехал бы на суд, только и дела.
– Какой прыткий! Дело-то, как-никак, государственное, переписка по дипломатическим каналам и так далее. Да кроме всего прочего – родственные отношения: наш Николай-то германскому Вильгельму родной ведь доводился, кузенами друг дружку величали: кузен Ники, кузен Вилли… Понимэ? Тут, хочешь не хочешь, поедешь, под стражей доставят.
– Неужели ж поехал?
– Да нет, слава богу, собачка выручила.
– Со-бач-ка?!
– Хе-хе-хе… Именно, братец, собачка. Ну-с, и, кроме того, конечно, великий князь Алексей Александрович. Когда-то, видишь ли, Дуров ему собачку выдрессировал, пришлось напомнить о себе: так и так, ваше высочество… Все рассказал, как было. Тот посмеялся: «Вы, говорит, мой друг, по самому краешку ходите!» – «Что ж делать, ваше высочество, – профессия…» Вот так собачка-то и помогла, и все отлично уладилось, не то сидеть бы нашему дражайшему Анатолью Леонидычу лет пять, самое малое…
Забыл, моншер, еще объяснить тебе, что в знаменитой этой репризе и «вилль брот» тоже неспроста сказано: один из кайзеровских министров был по фамилии Вильброт. Так что ударено было не только по императору, но и по правительству…
Я смеялся: что за Дуров!
И крестный сперва похохатывал, но вдруг нахмурился.
– Смешно, конечно, – сказал задумчиво, – но берлинская эта история спустя порядочное время еще смешнее стала выглядеть. В шестнадцатом году, перед самой революцией, умер Анатолий Леонидыч, а вскоре после его смерти братец его, Владимир Леонидыч, опубликовал свои воспоминания. И что бы ты думал? Все, решительно все присвоил себе: и берлинский скандал с Вильгельмом, и Моабитскую тюрьму, и случай в Одессе с градоначальником Зеленым, и железную дорогу…
Я не понял: что за Зеленый?
– Вот тебе раз! – удивился крестный. – Да разве ж я не рассказывал? Ну, братец, эта история в свое время наделала шуму… Адмирал Зеленый! В двух словах: одесский градоначальник – грубиян, невежа, самодур. Требовал, чтоб при его появлении все вставали, руки но швам. Нуте, в цирковом буфете было, Анатолий Леонидыч сидел за стаканом чая. Откуда ни возьмись – Зеленый. Все встали, Дуров сидит. «Встать!» – «С кем имею честь?» – «Я – Зеленый!» – «Ах, зе-ле-ный… Ну, вот созреешь, тогда и поговорим…» В тот же вечер свинью вымазал зеленой краской, показывал па манеже, можешь себе представить!
Я засмеялся, мне очень понравилась шутка Анатолия Леонидовича, но все-таки было непонятно, что заставило старшего брата, уже тогда знаменитого артиста, присваивать себе выдумки младшего.
– Много, видишь ли, говорено об этом, – сказал крестный. – Зачем, действительно? Как дрессировщик Владимир талантливее брата, но… Ему, надо полагать, хотелось иметь тот шумный, просто невероятный, фантастический успех, ту славу, которые сопровождали выступления Анатолия… Но тут уж мало было танцующих зверюшек, собственно одной дрессуры, – тут требовалась выдумка, литературный талант сатирика, импровизатора. А этих-то талантов и не хватало старшему брату. Понимаешь?
Иван Дмитрич вдруг с досадой крякнул, чертыхнулся.
– Ну, конечно, всегда так!
– Что, крестный?
– Да что… Надо одно что-нибудь – или разглагольствовать или делом заниматься. Изволь, полюбуйся: испортил ведь рамочку-то! Ах, черт возьми… с этими разговорами!
Он действительно не туда заехал лобзиком, срезал какой-то хитрый завиток. Я сказал:
– Да вы не расстраивайтесь, это совсем незаметно, – завитком больше, завитком меньше…
– Ишь ты, – усмехнулся крестный, – рассудил… А что касается до братьев Дуровых…
Помолчал, закурил.
– «Моцарт и Сальери» читал? – взглянул с прищуром.
Я замялся, мне было совестно признаться, что – нет, не читал.
– Ну вот, – сказал Иван Дмитрия. – Прочти, многое поймешь.
Если бы некий хитрый электромеханик соорудил такую карту дуровских гастрольных поездок, где кружочки, обозначающие города, вспыхивали бы, как только у Анатолия Леонидовича возникали усобицы с местной администрацией, – то, за малым исключением, вспыхнули бы все кружочки, ярко осветив карту Российской империи.
Разгневанный шутками знаменитого «короля смеха», его превосходительство, узнав о предстоящей дуэли, не запретил ее, как следовало бы сделать по закону, а решил подождать, чем она кончится. Если б поручик убил клоуна, все решилось бы само собой. Такая позиция начальника губернии выказывала, конечно, его административную мудрость, но…
Но Дуров сумел превратить скандал в очередную шутку, помирился с непутевым поручиком и даже пил с ним брудершафт. А на следующий день, как ни в чем не бывало, повторил потешную сценку «войны зверей», снова напомнил господину Грязному о городской грязи да еще и кое-кого повыше задел (хищения, взятки), словом, повел на манеже себя так, что будь фантастическая карта, о коей говорилось выше, готова и действовала, кружочек приволжского города вспыхнул бы ярко и незамедлительно.
Его превосходительству ничего не оставалось, как пригласить Анатолия Леонидовича в свою канцелярию и в самых учтивых выражениях предложить ему убраться из вверенной ему губернии.
Ах, как не хотелось покидать этот старинный, очень уютный, очень русский город!
Эти погожие осенние дни, золотые, зеленые, голубые купола многочисленных церквей, горластые базары с расписными чашками и дугами, с невероятными связками румяных, пахучих кренделей, с приземистыми башнями древнего кремля, горделиво вознесшегося над синей водой великой русской реки…
Но главное – народ.
Его лютая ненависть к губернским чинодралам, обиралам, держимордам, ко всему тому, что представляет собою вершину городского общества, к его так называемым «столпам». Вот почему злые шутки клоуна так сразу и безошибочно находили живой отклик в этом огромном собрании людей, пришедших в цирк повеселиться. Как чуток русский человек, как стремительно заражается или, лучше сказать, заряжается меткой шуткой! Два представления прошли под сплошной обвальный хохот и аплодисменты: «Браво, Дуров! Так их, чертей!» Ведь ничего подобного не случалось ни в Риге, ни в Ревеле: вполне приличный смех, – вежливый, как бы обязательный, холодные хлопушки бенгальского огня, и только. А тут – взрыв, бушующее пламя, тут крикни: «Бей, ребята, полицию!» – и пойдут, и будут бить…
Тут клоун на практике делает то, что в прокуренной мансарде, на тихой уличке, теоретически рисует в своем воображении младший Терновской…
Тут – революция.
И вот поэтому-то столь же чутки оказываются и губернские «столпы», которые прекрасно понимают, что, в конце концов, дело не в городской грязи, а в самом господине Грязном, не в уличных потемках, не в фонарщиках, а в потемках сознания, которые так ревниво, так бдительно охраняют высокопоставленные администраторы и их приспешники.
Ах, жалко, жалко, черт возьми, прерывать так удачно начатые выступления…
Но – предписание начальника губернии есть закон, его надо выполнять, хочешь не хочешь.
Отсюда предстоит дорога по реке, на пароходе.
Кружочек очередного города еще темен, слеп, однако подождите, господа, – несколько дней, и как бы и ему не загореться, не вспыхнуть… Без сомненья, и там ведь найдутся взяточники, и казнокрады, тупицы-чинуши и самодуры, свои зеленые и грязные!
Публика ждет, милостивые государи…
Не показывать же ей, в самом деле, танцующих собачек!
Собирались спешно. В номере царила преддорожная кутерьма – узлы, баулы, чемоданы, шляпные картонки.
Коридорный побежал за извозчиком.
Бедная Еленочка пригорюнилась, нервно теребила золотую цепочку, то и дело поглядывая на крохотные часики. Ее напугали дуэль, губернаторское предписание, вся напряженность последних дней. Правду сказать, ее и будущее пугало.
– Не терзай цепочку, – сказал Дуров. – Оборвешь.
– Но как же, Толья? – растерянно спрашивала. – Как же?
– А ничего. Привыкнешь. – Он посмеивался в усы, скалил зубы. Что-то волчье, злое проглядывало в улыбке. – При-и-вык-нешь! У нас с Терезой и не такое случалось… Будешь, душенька, будешь в острог передачку носить – яички, колбаску, маслице… Да ты, майн либе, не бойся: русская тюрьма куда как проще ваших, немецких: рублевку в зубы – и будьте любезны, айн-цвай!
– О-о! – простонала Бель Элен. – Не нада тюрма… Пошалиста!
Когда до парохода оставалось меньше часа, в номер постучали настойчиво.
– Антре! – откликнулся Дуров.
Поручик явился нежданно. Ему было все известно до мелочей. Влетев шумно, он кинулся к ручке Прекрасной Елены, тут же и Анатолия Леонидовича сжал в объятиях, и все это как-то враз, одновременно, выпаливая офицерские комплименты, слова сочувствия и возмущения.
Он был немножко Ноздрев. Крестообразный пластырь на щеке, след недавней дуэли, почему-то придавал ему сходство с бессмертным героем гоголевской поэмы.
Упав на колени перед Еленой, вопил, что не встанет, умрет здесь же, в номере пошлой гостиницы, если мадам не соблаговолит… не окажет любезность… не осчастливит… Смысл его растрепанной речи сводился всего-навсего к покорнейшей просьбе посетить именьишко —
– В двух шагах, мадам… Прелестнейшее местоположение, ландшафт – диво! Швейцария, честью офицера клянусь, мадам… Савой! Ривьера! Будем гулять… собирать грибы!
И к Дурову кидался:
– Нет, каковы канальи! Этот слюнтяй Грязной! Губернатор… добрый малый, мы с ним в родстве, но – трус! Трус! Боится Петербурга, боится губернского предводителя, боится архиерея! А ведь из знаменитейшей фамилии князей Тохтамышевых! Его предки… впрочем, что – предки, черт с ними, с предками! В путь, господа! В путь!
Анатолию Леонидовичу показалась забавной поездка в гости к шумоватому поручику, – почему бы и нет? Багаж – «артисты» и реквизит – уже отправлен по железной дороге; помощнику можно дать телеграмму о непредвиденной задержке. Дня два, даже три, пожалуй, недурно побездельничать, отдохнуть… на лоне, так сказать.
– А что? – весело рассмеялся. – Поедем, а? Что скажешь, Еленочка?
Еленочка сказала:
– О! Карашо… Ляндшафт. Собирайт гриба!
Ей до смерти хотелось уехать поскорее, куда угодно, лишь бы выбраться из этих мест, где так много страшного, неожиданного. Где этот милый офицер почему-то хотел убить ее Анатоля… Где гадкий губернатор делает такие ужасные предписания…
А в цирке публика ревет, топает ногами и пахнет водкой.
Ландшафт, действительно, оказался прелестен: парк, пруд, чудные окрестности – луга, рощи, Волга. Плохо было остальное: ветхий дом, где ночами за лохмотьями обоев возились, шуршали мыши, и было сыро и холодно, и пахло собаками; обед, наскоро приготовленный разбитной чернявой бабенкой (экономкой, как рекомендовал ее поручик), жиденький суп, сваренный из тощего петуха; плохо было то, что, закупая в городе провизию, поручик, видимо, увлекся напитками, совершенно позабыв о прочем, и вино в самом деле было дорогое и отличное. Но гости пили мало, хозяин старался за всех и в конце концов так нагрузился, что, хотя и обещал после обеда показать парк («Чудо красоты! Сады Семирамиды – что? Тьфу, пардон, мадам!»), вдруг ослабел и тут же, уронив голову на тарелку, заснул.
Пошли гулять вдвоем.
Множество собак бродило по двору и парку, – борзые, гончие, легаши и просто дворняги, помеси разных пород. Деревенское стадо мирно паслось среди вековых вязов; в холодке под старой березой дремал пастух.
– Дед! – окликнул его Дуров. – Ты что ж стадо-то распустил? Барин увидит, заругается.
– Ничаво, – с усмешкой ответил дед. – Нешто углядишь… Вишь, плетень завалился, скотина и прет, с ей чаво спросишь?
Так они брели в дремучих зарослях старого парка. Рыженькая собачонка, вся в репьях, кудлатая, пристала, увязалась, бежала следом.
– Со-ба-а-ка! – Анатолий Леонидович приласкал собачонку. – Со-ба-а-ка…
Задрав голову, рыженькая завыла.
– Смотри-ка! – удивился Дуров. – А ну, еще раз: со-ба-а-ка… со-ба-а-ка…
Та пуще прежнего залилась.
– М-м… А ведь это – идея! – воскликнул Дуров. – Ей-богу, идея! Поющая собака… Чем тебе не мамзель Плевицкая?
– Смотри, смотри! – ухватив за рукав, Бель Элен тащила его к пруду. – Ах, какая… какая мэрхен!
Не найдя русского слова, не зная его, сказала по-немецки.
На берегу пруда белела удивительная постройка – круглая, на шести колоннах беседка. Полуразвалившаяся винтовая лестница вела наверх, на плоскую крышу, где, розоватая от вечернего солнца, как бы сама светясь, возвышалась дивная статуя античной богини…
– Удивительно! – Спеша, ломая карандаш, Дуров набросал на папиросной коробке легкие контуры прелестной беседки. – Удивительно, как все чудесно сложилось: и этот город, и предписание, и шальной поручик… Ты понимаешь, Еленочка? Понимаешь?
Она ничего не понимала, конечно.
Да и как ей было понять, что в эту минуту он с ясностью необыкновенной увидел кусочек своей воронежской усадьбы, самый взлобок бугра, на котором все чего-то не хватало; что-то, казалось ему, прямо-таки просилось на это место… Но что? Что?
Сейчас он увидел: беседка-бельведер, шесть колонн, винтовая лестница, мраморное чудо…
А как это будет глядеться с реки! Среди зелени молодого сада… Над скукой горбатых уличек она засияет, как волшебство, как зримое чудо…
– Ба! Вон они где! – Поручик словно с неба упал и, судя по его виду, падал долго и замысловато: галстук съехал набок, сюртучок в мелу, светлые панталоны обзеленились о траву…
– А я ищу, ищу… Мадам! – сунулся к ручке, клюнул носом в ладошку Прекрасной Елены. – Мадам, поверьте слову офицера… Вся усадьба к вашим услугам! Распоряжайтесь! Повелевайте!
– Слушай, мон ами́, – сказал Дуров, – подари-ка мне эту статую, ну на что она тебе?
– Абсссолютно! Бери, пожалссста! – Поручик махнул рукой. – Все равно, брат, с молотка пойдет…
– И еще, знаешь, вот эту рыженькую я бы с удовольствием прихватил. Забавная собачка, я ее в люди выведу!
– Но, помилуй… такая дрянь! Дворняжка! Пссс… Бери борзых, сколько хочешь.
– Совсем не дрянь, – возразил Дуров. – Очень, очень славная собачка… Со-ба-а-ка! Со-ба-а-ка!
Рыженькая взвыла, взрыдала, всплакала.
– А ты говоришь! – рассмеялся Дуров.
И была еще одна ночь с мышиной возней за обоями и второй обед с голенастым петухом.
После чего статую уложили в ящик с сосновыми стружками, упаковали надежно; на рыженькую надели нарядный ошейник с поводком. И с вечерним пароходом Анатолий Леонидович и Бель Элен, провожаемые хмельным поручиком, отправились в новые странствия.
Луна всходила, медным тазом отражалась в змеистых масляных волнах великой реки.
Поручик шатался на мостках причала.
– Мадам! – хрипел. – Же ву зем, мадам! Честью офицера! В вашшем ррасспоряжении… Пррошу-с… Весьма!
Но резво зашлепали колесные плицы и заглушили признанья шумоватого поручика.
5
Письмо было адресовано на Мало-Садовую, его благородию господину Клементьеву.
Анатолий Леонидович сообщал своему управляющему, что в ближайшие дни он, г. Клементьев, должен получить в железнодорожной товарной конторе посланный большой скоростью ящик, в коем упакована весьма ценная скульптура. Кроме того, к письму был приложен чертеж новой постройки. Сооружение именовалось бельведером. Оно состояло из круглой беседки на шести колоннах, с плоской крышей, на которую вела кругалями лестница. На средней площадке оной по чертежу намечалось установить неведомую статую.
День, когда она появилась на Мало-Садовой, был серый, ноябрьский. На голых ветках деревьев вороны галдели, спорили, дрались из-за места. Заречная даль лениво шевелилась слабой метелью. Все ниже, все тяжелее провисало безрадостное небо над унылыми воронежскими буграми, и этот нависший мрак, и крики ворон, и ревматические кости маленького Клементьича, – все предвещало затяжное зимнее ненастье.
Смотреть посылку собралась вся семья.
Ящик вскрывал в сарае сам господин Клементьев. «Странная игрушка! – думал он. – Бешеные деньги небось уплочены… Тыщи две небось… Ох, артисты! Тут в мозгалевскую лавку за три месяца задолжали, от мясника с Девичьего дважды посыльный наведывался, намекал… И долг-то, сказать бы, пустячный, каких-нибудь сотни полторы, а тут – на тебе – статуя…»
Две тыщи целковых! Он почему-то твердо решил: две тысячи, никак не меньше.
Ловко орудуя гвоздодером, приподнял верхние доски. Сквозь приятно, скипидаром пахнущие стружки в сером сумраке сарая сверкнула мраморная белизна прекрасного тела. Приподнятая сильными руками управляющего, древняя богиня как бы вторично рождалась из пахучей пены сосновых стружек…
В краю, далеком от ее первой солнечной родины. От высокого синего неба. От ласкового шепота набегающих волн.
В ненастный серенький день рождалась под заунывные голоса ворон, под шум приближающейся метели.
– Боже, какая прелесть! – восхищенно воскликнула Ляля. – Нет, ты посмотри, Муська, какая она!
– Светится… – очарованно прошептала Маруся.
– Но она совсем не одета…
В голосе Терезы Ивановны послышались нотки какого-то чуть ли не суеверного ужаса.
– Она совсем-совсем… голый!
Велела не показывать Анатошке: еще кляйнер, малыш.
– Две тыщи отвалили, – огорченно вздохнул господин Клементьев, – а теперь вот не показывай. О-хо-хо… Артисты, конечно.
И еще не раз пришлось распаковывать ящики, посланные Анатолием Леонидовичем из разных городов – из Казани, из Нижнего, из Москвы, из самого Санкт-Петербурга, наконец.
Картины, статуи, какие-то камни – два неподъемных сундука: простые, вроде булыжника, и цветные, и наподобие антрацита, и даже как мрамор.
Затем ящики с бабочками и жуками пришли.
Затем что-то вовсе уж невероятное: гробница.
Писал хозяин, что ее открывать нельзя, велел дожидаться его приезда. По той-де причине, что в гробнице сей – прах египетского царя, пролежавший в земле три тысячи лет.
Беспокойство Анатолия Леонидовича было напрасное: открывать, разглядывать прах охотников не нашлось.
В следующих ящиках оказались две, из бронзы литые, ладные, подбористые бабенки со светильниками в высоко поднятых руках. В сопроводительной записке бабенки именовались «гениями».
А перед самой весной, близко к благовещенью, прибыли посылки с диковинными медными львами. Тоже увесистые, пудика по три каждый, сидели они на задних лапах, не страшные, похожие на шахматных коней.
Наконец, на последней неделе великого поста пришла депеша – встречать. И, как и в прошлые годы, с приездом хозяина очнулась от зимней спячки, зашумела усадьба на Мало-Садовой: стук топоров, песни, граммофон, рев, гогот, кудахтанье, собачий брех.
– Обратно пошла дело! Гля, гля, флаки развесили! – перекликались плотогоны, сплывающие от дальнего озера Вертячьего до самого Дону.
– Опять, вражина, объявился! – плюнул отец Кирьяк. – Ну, погоди, дай срок – нагорюисси!
Веселый дом на широкую ногу зажил.
Первое – был нанят повар, некто Слащов. Он пришел с рекомендацией известного в городе ресторатора Белова, затейливой подписью своей заверявшего, что «вышеименованный Слащов П. И. является опытным мастером приготовления различных блюд и кондитерских изделий как русской, отечественной, так и французской кухни, а также кавказских кушаньев».
Что ни день – гости пошли. Ну, разумеется, прежде всего свои, закадычные, конечно, – Чериковер, Кедров, Терновской, но еще и многое множество других, среди которых, в пестроте невероятной, кого только не встречалось: актеры, музыканты, газетчики, врачи, инженеры, военные. Известная писательница В. И. Дмитриева посетила гостеприимную усадьбу, сделала запись в большом альбоме, где в прозе и стихах оставляли память о себе встретившиеся на дорогах жизни. Анатолий Леонидович любил этот альбом: десятки людей самых разных тут словно навечно присутствовали, безмолвно выражая свою любовь к нему, то простодушно, чрезмерно, может быть, пылко, то с некоторой долей иронии, то наставительно (как знаменитый Иоанн Кронштадтский), то покровительственно снисходя (великие князья, сановники). «Мой зверинец» – посмеиваясь, называл он альбом. Знал: придет время – и эта громадная великолепная книжища займет особое место среди тех документов и предметов, каким доведется хранить память о нем, о его блистательной, беспокойной жизни; знал, что и десять, и двадцать лет – не срок, что и столетье не страшно его имени; что Анатолий Дуров – артист, клоун, художник, поэт – явление в русском искусстве, которое будут изучать, о котором будут сочинять книги и спорить, спорить…
Да, вот именно. Спорить.
И тут-то братец напутает, все запутает, все перепутает так, что иной раз драма обернется фарсом, быль – небылицей.
Как с тем же Моабитом, к примеру.
Он что угодно переймет —
Репризу, шутку, анекдот,
В два счета все своим представит
Да и тебя еще ославит.
Где первый Дуров, где второй,
Кто полный шут, а кто герой.
Хоть оба мы на самом деле —
Полишинели!
И будьте любезны, господа историки, – копайте, ищите истину!
Однако все это – в будущем. А пока – жить, жить! Строить. Создавать. Радоваться. И радовать других. Пить из чаши бытия, как говорится.
Нынче – музей.
Мысль о создании открытого музея не только не покидала – наоборот, крепла с каждым днем. Уже и сейчас дом на Мало-Садовой стал известен всему городу. Река возле усадьбы сделалась излюбленным местом лодочных прогулок горожан. Воронежцы с любопытством смотрели на дуровское чудо, – что может сделать человек! Лысый пустырь был у всех на памяти – скучное, голое место, бурьян, лопухи, глинистые обвалы… И вдруг! Весело глядящий на реку дом, зеленый сад по склону, зубчатая башня причудливого замка с развевающимися флагами, фонтаны, цветники… Казалось, что – все, чего же еще, ан нет, не все! Еще строились какие-то беседки, павильоны; деревянную лестницу, ведущую вниз, к реке, разбирали, сооружали каменную; немыслимой красоты, на самом взлобке усадьбы, вознеслось удивительное, сказочное строенье, – как бы фантастический сон, подобие античного храма: белоснежные колонны, круглая плоская крыша… И наконец – над садом, над улицей, над всем городом, казалось, вознеслась она! Блистая божественной красотой обнаженного тела, изваянная из мрамора, через тысячелетья прошедшая, с ласковой, долгой улыбкой смотрела в заречную даль…
А в доме шумело веселье.
Цирк в Воронеже этим летом держали братья Никитины с программой истинно первоклассной. Афиши пестрели такими именами, как знаменитый атлет Фосс, поднимавший одним пальцем шестнадцать пудов, наездник Фабри с его великолепными трюками и редкостной конюшней, музыкальный клоун Рафаэль. Цирк, кроме того, еще и так называемую французскую борьбу сулил. В город съезжались всемирно известные силачи; объявлено было, что и «русский богатырь Проня» примет участие в чемпионате. Наконец, какая-то таинственная «маска» из местных жителей бросила вызов титулованным и прославленным – бороться до победы, но в случае поражения обязывалась открыться, назвать себя.
Эта маска особенно всех интересовала; по городу шли пересуды – кто таков? откуда взялся? Воронеж невелик, силачи наперечет знаемы, человек десять: мясники, грузчики, кондуктор Ачкасов, извозчик Тюнин из даевского выезда, но кто из них – вот задача… Билеты расхватывались, перепродавались втридорога.
В эти-то дни особенно шумно жили в доме на Мало-Садовой. Обеденный стол накрывался на двадцать персон, а то и больше. Из настежь распахнутых окон слышалось развеселое, скачущее тарахтенье пианино, громкие голоса, хохот. Или вдруг нежные, медленные вздохи романса: «Задремаль тихи сад, ночь повеяля томни прохляда…» – сладко пела Прекрасная Елена – в тишине, в замолчавшем доме, и с последними словами романса взрывались и тишина, и дом, и даже сама улица: «Браво, Еленочка! Браво!»
А не то вся компания во главе с певуньей срывалась вниз, по бугру, к реке; с визгом, с хохотом, пестрея разноцветным купальным снаряженьем, так надежно, плотно закрывающим купальщиков, что и тела не видно, кидались в синюю воду небыстрой реки, и лодки с гуляющими останавливались, и притормаживал крохотный колесный пароходик «Лида», и публика, узнавая своих любимцев, бесновалась, орала «браво» и кренила пароход.
Сам же хозяин в эти минуты сидел в плетеном кресле на верхней веранде, посмеиваясь, разглядывал в бинокль затеянную гостями речную суматоху.
– Тереза! – кричал в дом. – Нет, ты иди, иди, мамочка, полюбуйся, пожалуйста, какой мы тут шум подняли! Чем тебе не цирк под открытым небом!
Она послушно поднималась по скрипучей лестнице, послушно смотрела, слушала. Вздохнув, роняла задумчиво:
– Как дети…
Немного посидев с мужем, уходила к себе. Был час музыки, к барышням являлся учитель, барышни разыгрывали бесконечные упражнения – ганоны и гаммы. А сорванец Анатошка всякий раз словно сквозь землю проваливался. Она ничего не могла с ним сделать, он ей одно твердил: «Мамочка-милочка, ну их к черту, эти экзерсизы, я и без них выучусь, вот увидишь!»
И добавлял ужасное:
– Чтоб я сдох!
Но как талантлив, майн гот… Как талантлив!
Однажды за веселым застольем было сказано:
– Чем отличается истинный талант от посредственности? Неповторимостью, господа! Не-по-вто-ри-мо-стью. Сейчас Россия знает двух Дуровых. Это действительно так, – нас двое. Но…
Далее Анатолий Леонидович без ложной скромности утверждал, что единственный и настоящий – он. Что жанр соло-клоуна, не просто кривляющегося на потеху публике, а разговаривающего с публикой, впервые в мире введен им.
И что поэтому-то в иных афишах он берет на себя смелость именоваться Анатолием Дуровым ПЕРВЫМ.
– И последним, господа, заметьте. Последним! Терплю существование второго из чувств родственных – исключительно. Что ни говорите, братья, вместе начинали, вместе такого лиха хлебнули… не приведи господь! Но уверяю, господа, с нашей смертью (ведь мы погодки, значит, примерно и умрем в одновременье), – с нашей смертью вопрос решится сам собою: в народной памяти останется один лишь. Анатолий. Что-с? Кем сей вопрос будет решен? Временем, господа. Историей. И больше Дуровых не будет никогда! Точка! Ибо, если даже и найдется в потомстве продолжатель… ну, Анатошка мой, скажем, – так это неминуемо воспримется как повторение. Вот так, милостивые государи… Вот так!
Покусал кончик шелковистого уса, нахмурился. Руку, сжатую в кулак, поднеся к глазам, пристально рассматривал причудливо-зеленоватый камушек перстня.
– Вот почему, – усмехнулся, не подымая глаз, – вот почему, господа, я запретил сыну даже и помышлять о манеже.
– Ну, а если он все-таки… – начал было Иван Дмитрич.
– Отрекусь, – жестко оборвал его Дуров. – И хватит об этом, господа…
Поднимем бокалы, содвинем их разом, —
Да здравствуют музы, да здравствует разум! —
запел, как бы зачеркивая все – угасший вечер, застолье, жестокие слова.
А к повару Слащову частенько захаживал гость.
Их дружба была давняя: повар некогда служил в самофаловской гостинице, а приятель его, по фамилии Янов, там же, при ресторане, посудным мойщиком.
Что их сблизило – бог весть, разные они были до удивления. Слащов слабогруд, тщедушен, но задирист, выпивши, рвался в драку, лаялся непотребно. Янов же, напротив, поражал своей сдержанностью и миролюбием. Саженного роста, плечистый, с бычьей шеей, он среди прочих людей выглядел Гулливером, оказавшимся в стране человечьей мелюзги. При внешней непохожести друзья и в мыслях рознились чрезвычайно: Слащов считал, что требуется учредить равенство сословий так, чтобы господ унизить маленько, осадить, а рабочего человека, наоборот, возвысить, и тех и других обязательно уравнять в правах. Янов же со своим тихим нравом и богобоязненностью не мог этого допустить и твердо верил, что как оно от века заведено, так и должно оставаться до скончанья века.
Но было у них и общее: любовь к цирку и особенно к французской борьбе. Причем повар представлял собою, по-нынешнему сказать, болельщика и только, а Янов прямо-таки изнемогал от страшной телесной силы и мечтал в действительности схватиться с каким-либо знаменитым силачом, испытать, что он может, на что способен… И ежели способен впрямь, так и мойку в самофаловской гостинице – ну ее ко всем шутам (он черным словом никогда не кидался), и дорога в жизни у него откроется другая…
– Как думаешь, – спросил он однажды Слащова, – барин твой мне в этом дельце не посодействует?
– Какой барин? – удивился повар. – Это Натоль Ленидыч, что ли? Так нешто ж он барин… Эх, голова! Он – артист! И очень свободно даже посодействует. Пошли до него… Попытка не пытка, спрос не беда, а чемпионат на носу…
Анатолий Леонидович в саду копался (там еще новая новость: грот строили, подземный подкоп рыли), цветы сажал собственноручно у подножья мраморной девы. Было раннее утро, тишина, гости еще не набежали.
– Ну, ты, брат, – ого! – восхищенно сказал, разглядывая мойщика. – Фигура… Только, знаешь, тут ведь одной силы мало, надо приемы знать.
– Прием один, – скромно потупился Янов, – ломать и кидать на ковер.
Анатолий Леонидович рассмеялся.
– Что верно, то верно… А пробовал с кем?
– С ребятами маленько баловался. С Ачкасовым-кондуктором, с Проней.
– И как?
– Да кондуктора кинул, с Проней, считай, вничью.
– С Проней?! Ух ты, черт! Ну, давай, давай…
– Вы ему записку в цирк напишите, к Микитину, – сказал Слащов. – Без записки прогонит.
Дуров черкнул на листке из записной книжки, и приятели собрались было идти, да тут господин Клементьев, откуда ни возьмись. Узнав, в чем дело, тоже про приемы начал, но в разговор встрял Слащов, подстрекнул управляющего, чтоб на деле, мол, попробовал Янова.








