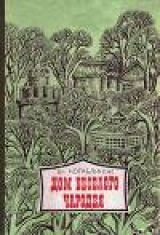
Текст книги "Дом веселого чародея"
Автор книги: Владимир Кораблинов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц)
– Какая там лодка… – вздохнула Маруся.
– Боже, что за меланхолия! Ну, шары давайте погоняем.
– Крокета нынче не будет, – не отводя глаз от книги, решительно отрезала Ляля.
Посидев немного, так и не сумев наладить разговор, Александр откланялся.
Во дворе он встретил Клементьича. Примостясь на порожке веранды, старик разводил в ведерке серую краску. Резкий запах олифы прочно стоял над усадьбой.
– Что у вас случилось? – спросил Александр. – Все какие-то такие…
– Было дело под Полтавой, – загадочно ответил карлик. – А что да про что – не нам с тобой, кукареку, в ихнюю разнодырицу лезть.
– Да я и не лезу…
Пожав плечами, повернулся, чтобы уйти.
– Эй, Клементьич! – послышался из сада голос Дурова. – С кем это ты? А-а! Санёк! Иди-ка, иди сюда!
Александру нравилось, когда Дуров называл его так: Санёк звучало, как сынок.
Анатолий Леонидович каким-то чудесным образом, как бы витая, пребывал на самом верху довольно шатких подмостков, раскрашивал под дикий камень деревянные ящики «замковых» стен. В холщовой блузе, заляпанной серым, коричневым и черным, он увлеченно орудовал малярным рушником, и дерево чудесно превращалось в камень.
– Ну, как? – спросил.
В старинном замке Джен Вальмор
Чуть ночь – звучат баллады… —
Звучат или не звучат?
– Еще как звучат-то! – засмеялся Александр. – Сроду не догадаться, что всего-навсего – порожние ящики.
Денек вполсвета млел, в серебристой дымке, задумчивый. С реки гитарный звон доносился, смех, всплески весел, обрывки удалой песни про Чуркина-атамана. Разговор начал Дуров.
– Слушай, а ведь я все знаю…
– То есть? – Александр растерялся даже, так неожиданен был приступ. – Что вы имеете в виду?
– Не финти, моншер. И не воображай, пожалуйста, что я стану тебя в чем-то убеждать и уговаривать, нет! Ты взрослый малый, в твои годы Лермонтов написал – знаешь, какие стихи?
– Знаю, «Погиб поэт»… Но что же все-таки вы хотите от меня? – с любопытством спросил Александр.
– А ровно ничего. Только ты вот что мне объясни: ну, собираетесь вы (для тебя это, кстати, довольно опасно, ведь ты поднадзорный), собираетесь, значит, горланите, спорите, выхлебываете два самовара, называете себя социалистами, марксистами или как там еще… так?
– Ну, допустим. Что же вам объяснять?
– Одно-единственное: цель.
– Ну-у… Революция, конечно.
– Правильно. Революция… Ну-ка, дружок, отойди немного, погляди – вот этот камень не пересветлен ли? Не выбивается ли из общего тона?
– Да нет, ничего. Чуть-чуть, может быть, действительно надо притемнить… А то «ореанда» просвечивает…
– Ага, спасибо… Клементьич! Клементьич! Скоро ты там?
– Сичас! – откликнулся, пропел петушок.
– Так. Значит, революция. Эгалите, фратерните и так далее. Это, брат, все понятно, не понятно одно: что это такое?.
– Вы шутите?!
– Ни чуточки. Вот слушай: революция совершилась, шумят знамена, играет музыка, – а как с властью? Будет власть?
– Конечно. Власть народа.
– Правительство?
– Что за вопрос! Разумеется.
– Значит, и государство будет?
Александр кивнул.
– Ну, вот и чудесно! – Дуров энергично орудовал рушником; камень получался старый, ноздреватый. – Вот и чудесно, – повторил, посмеиваясь. – Значит, и я без дела не останусь.
– Простите? – насторожился Александр. – Не понимаю…
– А тут, моншер, и понимать нечего. Нынче я смеюсь над канальей-держимордой, хапугой, взяточником, чинушей, бюрократом… Значит, и в прекрасном будущем придется засучивать рукава: персонажи-то ведь те же останутся. By компрене?
– Да нет, позвольте… Ничего этого не будет!
– А государство-то?
– Государство будет.
– Ну, милочка, значит, и взяточники будут, и казнокрады, и держиморды. А как же? Раз государство…
Пришел Клементьич, принес ведро.
– В старинном замке Джен Вальмор… – размешивая краску, запел Дуров. – Чуть ночь… Так, говоришь, звучит? Ах ты… ниспровергатель! Да ты иди, иди к барышням, – слышишь? Там уже, кажется, оттаяли. Защебетали.
Из открытых окон дома летела развеселая музыка.
– А что, собственно, у вас произошло? – спросил Александр. – Сидят надутые, обиженные какие-то…
– Тссс… – Анатолий Леонидович сделал страшные глаза, приложил к губам палец. – Ничего особенного, моншер. Артисточки мои чего-то меж собой не поделили… Ну их!
Засмеялся, махнул рукой: иди, мол, чего дожидаешься.
Вечером забежал Кедров. Спросил, как с Александром, был ли разговор.
– А как же, – сказал Дуров, – поговорили. Хорошо поговорили.
– Ну и что он?
– Да он-то ничего, остался при своем мнении. А вот я…
– Что – ты?
– Думаю, может, и вправду лучше нам революцию устроить… Тррах! – и вдребезги. А? Ей-богу, отлично!
Кедров так и сел.
4
И вот, ко всему прочему, в двух шагах от дуровского дома объявился ясновидец.
Как челнок сновал по городу, прорицал грядущие события – глад, мор, войну и так далее.
Забегал к барыне Забродской якобы чайку попить, насчет графа Толстого посудачить, направить заблудшую; на кухне у жандармского ротмистра Деболи с кухаркой и дворником беседовал о душеспасительном; показывал письма с горы афонской, в коих именовался «любезным братом во Христе». Не обошел и крестного Ивана Дмитрича, и Самофалова-купчину, и премногие другие почтенные дома.
Был ясновидец в гневе и в ожесточении. Прорицания его вселяли страх, жестокие словеса доходили до брани, даже и непотребной, простите великодушно, – до матерной.
Прорицал разное.
Кое-что – в задний след, если можно так выразиться. Так с мышиным нашествием было: кричал впоследствии, что по его ведь ясновиденью содеялось, но никто не мог припомнить, чтобы он до того хоть какой самый малый сделал намек. А уж после мышиного бедствия – вконец разошелся, стал пророчить пожары, трясение земли и другие стихийные ужасы.
И был сей ясновидец не кто иной, как мужеской Алексеевской обители беспокойный и вздорный чернец Кирьяк.
А складывалось ему всё на руку, это надо признать.
Весною в садах червь завелся и в какие-нибудь две недели так преуспел, что словно осень прошла по улице: на дворе лето, а сады – сквозные, ни листочка, лишь клочья лохматой паутины на ветках деревьев.
Далее: аккурат под дуровской усадьбой люди взялись тонуть, хотя река тут не сказать чтоб особой была глубины, да и текла нешибко, без заверти.
Наконец, вихорь пронесся, случилось, да с градом, во многих домах стекла повыстегал, гусят побил на лугу.
Всё, всё ставил в строку отец Кирьяк, и выходило по его прорицаниям так, что за все беды ответчиком получался не кто-нибудь, а именно новый жилец, комедиянт и фокусник, господин Дуров, незнато откуда взявшийся, многоженец, прелюбодей, у коего в доме лютеранская ересь – раз, птица-баба премерзкая – два, и кобели меж собой разговаривают на немецком языке – это три, значит.
И от сего жильца еще пущие беды-злосчастья ожидают святое место, а как же? – две обители рядом ведь, мужеская и женская, и божьи храмы окрест, а всё – ништо!
Это, вопрошал Кирьяк, как понимать, господа хорошие? Вот нажили себе горюшка… Вот уж, истинно, нажили!
Прорицателей всегда слушают почтительно, если даже не с благоговением. Слушали и Кирьяка, но разно: кто доверительно, с некоторой долей страха, а кто и с насмешкой: толкуй, дескать…
Но вдруг произошел случай невероятный, невообразимый. Происшествие, может быть, так и осталось бы анекдотом, нелепицей, выдумкой, но, будучи запечатлено в сочинении некоего «Старожила» и тиснуто в газетке «Воронежский телеграф», явилось уже как бы страницей истории и укрепилось навеки.
Дело же было в следующем.
В обеденное время, в час пополудни, ежели точней сказать, в трапезную горницу Алексеевского Акатова монастыря вошел небольшой бурый медведь. Взору его представилась картина самая мирная: немногочисленная братия в количестве тридцати двух иноков благопристойно вкушала жидкую овсяную кашицу; юный чернец скучным, но богобоязненным (по-нынешнему выразиться – подхалимским) голосом, стоя за шатким аналойчиком, читал поучительное житие.
Трудно и даже невозможно сказать, что взбрело в косматую башку пришельца, только он угрожающе рыкнул. Страшен, милостивые господа, зверь в лесу, где его, как-никак, ожидаешь, но не во многажды ли страшней он в мирной келье, куда является столь нежданно?
Это, знаете ли, еще помыслить надо.
В ужасе разбежались монахи, а сей, дерзкий, взгромоздясь на стол, принялся пожирать милую его сердцу овсянку. С криком:
– Да что ж это деется, православные! – кинулся отец Кирьяк в полицию. Но – кое добежал, кое то, кое другое, – вот он и сам господин Дуров пожаловал.
Его ведь зверь-то оказался!
И вот сидел, богопротивный сей фигляр, преспокойно ожидая, когда насытится питомец.
Курил папироску «Осман» и чего-то насвистывал.
А медведь тем временем с иноческих мисок овсянку слизывал жарким звериным языком.
И что же?
Полицейскому чину за беспокойство была сунута трешка. Тот схватил ее, глазом не моргнув. После чего посмеялся: эка мишка-шалун!
– Не-ет?! – злобно вскричал Кирьяк. – А про́торя? Проторю кто покроет?
– Сколько? – вынимая кошелек, спросил Дуров.
– Пя… пять целковых, сударь! – пролепетал Кирьяк, заламывая несусветную цену.
– Овес, видно, подорожал? – усмехнулся Дуров и кинул на столешницу золотой полуимпериал. Затем, подумав, добавил рублевик. – Помолись, праведный отче, за раба божия заблудшего Михаилу, – подмигнул и, прицепив на обрывок медведя, удалился.
С минуту стоял непутевый чернец, таращил глаза. А в чувство придя, —
– Кощунствие! – закричал. – Кощунствие! Я, сударь, так дело не оставлю! До преосвященного дойду! До самого обер-прокурора святейшего Синода! До господина Саблера!
Долго еще кричал и плевался вслед, грозя всеми немыслимыми карами.
Таким приключением закончилось шумное воронежское лето.
В начале осени Анатолий Леонидович с Прекрасной Еленой уехали на гастроли.
«Юбилей» смотрелся смешно. Во дворе состоялась генеральная репетиция, на которую были приглашены друзья. Из посторонних присутствовал один лишь крестный мой Иван Дмитриевич. Зашел как художник к художнику – покалякать насчет живописной техники по стеклу, да и засиделся, остался полюбопытствовать.
Гусь Пал Палыч восседал преважно, время от времени кивая оранжевым клювом и благосклонно погогатывая. Он хорошо исполнял свою роль; Тереза возилась с ним около двух недель и добилась всего, что было нужно для сценки: важных своевременных поклонов, длительных пауз и приличного, сдержанного гогота.
Когда показала работу Дурову, тот обнял ее и звонко расцеловал. Она растерялась, покраснела, как девочка, но тут же резко отстранилась, замкнулась, ушла в себя. Слишком звонок был поцелуй, так целуют сестер, дочерей… ах, если бы потише, нежнее… Как прежде.
Уехал Анатолий Леонидович, и в доме стала тишина. Дом как бы задремал, утомленный; снаружи, с улицы, казалось, что все замерло в дуровской усадьбе и сами люди приустали от летних игр и трудов, от шума работы и безделья.
Но это лишь казалось. Жизнь в доме шла, как говорится, своим чередом. Правда, Клементьич стал все чаще прихварывать, все больше лежал, покряхтывал. Годы брали свое, да и что он был без Прони? А тот, как ушел в Тамбов, так словно сквозь землю провалился.
Но кто-то же должен был обихаживать большое хозяйство, править в доме за старшого. Конечно, Тереза Ивановна оставалась хозяйкой, но это ведь в квартире – с детьми, с кухаркой, с Феней. А усадьба? Там строились и строились, и «конца не виделось», как справедливо утверждал Клементьич.
И вот в доме на Мало-Садовой появился господин Клементьев.
Удивительно меняет свое лицо любое жилище, когда в нем поселяется талант – художник, поэт, музыкант. Артист, одним словом.
Не будем говорить о чисто внешних признаках присутствия такого человека в доме (звуки рояля, скрипки, нотные тетради; стены, увешанные живописными этюдами, мольберт, на котором еще не родившееся чудо – серое полотно, хаос первых часов творения, кисти, причудливым букетом расцветшие в обливном кувшине; книги, листы бумаги, исчерканные до неразберихи, до грязи…), – нет, речь пойдет о другом: о самом духе, вдруг воцарившемся в доме, о том труднообъяснимом, невиданном, что – стоит лишь перешагнуть через порог – охватывает вас предчувствием необыкновенной встречи с удивительным, особенным, с тем, чего нет и в помине в иных, более, может быть, красивых и богатых домах.
Чары присутствия таланта?
Конечно. Но как-то так еще обязательно получается, что в таком доме смешные и веселые неожиданности как бы привычно сопутствуют житейскому обиходу самих жильцов.
В полутемной передней, скажем, хоронится от света на верхней полочке вешалки ручная совушка. Вот гость снял пальто, вежливо посморкался и только вознамерился шагнуть в комнату, как на его плечо, бесшумно слетев с вешалки, усаживается сова. «Ах!» – растерянно, испуганно восклицает гость. «Ничего, ничего, – успокаивает хозяин. – Она, имейте в виду, не всякого этак встречает, вы ей просто понравились, вот в чем дело…»
Известны репинские обеды в «Пенатах», с вертящейся двухъярусной столешницей и смехотворной председательской должностью.
В конечном счете ведь и толстовский «колокол бедных», если осмелиться откинуть почти религиозное благоговение перед хозяином, не является ли тонкой пародией на христианское средневековье (утомленный путник звонит у врат обители), – шуткой великого художника?
Или знаменитая «нумидийская конница» Льва Николаевича?
Дух необыкновенности, веселого чародейства всегда царит в домах, где поселяются художники.
Входящего во двор к Анатолию Леонидовичу удивляли павлины, диковинный пеликан, мраморная статуя греческой богини. Позднее – сооруженная вместе с Кедровым огромная, с разинутой пастью голова фантастического обжоры Гаргантюа.
Встретивший гостя Анатошка очень даже просто мог вдруг кинуться на руки и так на руках, кверху ногами, отправиться в дом, чтобы доложить о вашем приходе.
А вы можете изумляться сколько угодно.
Вот в ряду подобных курьезов и произошла забавная встреча малютки-старичка Клементьича с господином Клементьевым. Тут, разумеется, не то было смешно, что в усадьбе появился этот энергичный, деловой человек, приглашенный управлять дуровским хозяйством, а то, что был он саженного роста, громаден, грузен, великолепно, по-распутински, бородат, а фамилию имел ту же, что и карлик.
– Вот уж действительно, – изумленно кукарекнул старичок, – Клементьев так Клементьев! Да из тебя, батюшка, таких вот, как я, Клементьевых, можно, пожалуй, с десяток выкроить… ей-богу, так!
Должность управляющего была по нем.
Он знал цену всему, он был человек положительный. Уверенный в своей правоте и непогрешимости, искренне недоумевал и огорчался – как это другие люди, и очень многие, представьте, обходятся без оценки всего и не имеют в себе положительности.
Человек опытный и дальновидный, он довольно точно угадал, какие заботы ожидают его в доме Дурова. Что там придется ему улаживать, в чем наводить порядок.
Он угадал, во-первых, что при всем богатстве прославленного артиста, при его баснословных гонорарах в доме иной раз каких-нибудь пару целковых сыскать затруднительно.
Во-вторых (исходя из первого), было безошибочно угадано, что тут и обедают-то не каждый день, а все чаще на сухояденье, что бог пошлет – самовар да ситничек с чайной колбасой, какая подешевле, – то есть дело как бы холостяцкое.
Артисты! Ну что ж, он понимал, он и таких видывал.
Поэтому первым делом договорился в лавке у Мозгалева и с мясником на Девичьем рынке – брать на запись в книжку помесячно и более.
Угадывал также непорядки с прислугой: что от рук отбились, что двор неметен, что в печах дров жгут невпроворот, за садом не приглядывают; кирпич, тёс, кровельное железо без присмотра; ночной караульщик спит в садовой беседке, укрывшись для безмятежности овчинным тулупом…
Твердая рука господина Клементьева все враз направила: дворник, сторож, кухарка зашевелились, пришли в движенье; кирпич в сарай перетаскали немедля, штабелек тёса проволокой опутали, закрепили скобами; дрова научились беречь – осенью и осинка сойдет за милую душу, а дубовый швырок – к морозам рождественским, крещенским, сретенским… Зима, она долгонька, бог с ней!
Все превзошел, всего добился новый управляющий, и лишь одно оказалось ему не под силу, одного не мог побороть: дух дома. Какая-то тут была чертовщина в этом доме. Тут словно бы исключалось самое главное – расценка вещей и положительность в жизни. Пребывало же совершенно недопустимое, даже презрительное какое-то отношение к стоимости предмета и к вопросу: а как, пардон, в порядочных домах?
На сей последний вопрос семейство, живущее в доме, начиная с Терезы Ивановны и кончая малолетним Анатошкой, всем своим поведением отвечало решительно: а нам наплевать! А мы – сами по себе!
Но позвольте, позвольте-с!
В порядочном доме (ежели станем сравнивать) утром кушают чай, допустим, или кофей, затем занимаются всяк своим делом, затем обедают, затем… ну, сказать одним словом, чинно-благородно, и так далее, все по порядку.
Здесь же видим одни беспорядки и смятение.
Хозяйка встает рано, чуть свет, за кофеем сидит в одиночестве. Откушав, на утренний капот накидывает что под руку попало – старое пальто, халатишко – и бежит в сад, в беседку, где собаку ль, петуха ль, а то и чушку учит всякому вздору – кланяться, на задних лапах ходить или даже кверху ногами, – придумают же, господи, твоя воля! – то есть готовит артистов для супруга (для «майн Тола», как она его называет). У нее одно: «Тола сказал», «Тола выразил ферлянген», «Тола будет цуфриден»…
А девицы?
Неумойками, непричесанные, одна за пианино – тру-ля-ля! тру-ля-ля! – другая, турецкую чалму нацепив, выскочит на веранду с цыганским бубном – да в пляс! Ну, тут уж и маменька не вытерпит, бежит из сада: «Кляйнес медхен, де́вошки! Гимназиен пора!»
Нет-то нет, разберутся, да все бегом, бегом… Барышни – на Пятницкую, к фон Энгель, Анатошка – на Грузовую, в Чернозубовское реальное…
Ох, этот последний!
Намедни господин Клементьев, возвращаясь из мозгалевской лавки, прихватил младшего Дурова в чужой подворотне: дворового Полкана учил через палочку сигать… Кобелище – ужас, что твой телок, а слушается мальчишку, сигает, представьте!
Вот вам – атмосфера дома, ежели научно выразиться.
Господин Клементьев – воробей стреляный, а и то на первых порах растерялся. Но вскоре плоды его полезной деятельности были налицо: прислуга старалась, и обедать в доме стали каждый день.
ДУРОВ ЕДЕТ!
Обвальный грохот аплодисментов. Ярко освещенный манеж. Уходящие в полутемную вышину круглые ярусы цирка, вмещающие более ста миллионов зрителей всея России, – вот что такое жизнь знаменитого артиста!
Но еще и бесконечные дороги, еще поезда, гремящие по железным мостам, с ревом несущиеся по необозримым плоским пространствам полей; со свистом и скрежетом врезающиеся в лесную глушь; а не то – на горной крутизне ныряющие в черные дыры туннелей… Или, как возле Ростова, чуть ли не целый день бегущие у самой воды, по-над тихим Доном, застилая хлопьями пахучего дыма выгоревшую казачью степь…
ДУРОВ ЕДЕТ! – гудят телеграфные провода.
Стучат, стучат морзянки, передавая предписания, распоряжения, уведомления о принятии к сведению…
ДУРОВ ЕДЕТ!
Он любил эти поездки, эти бесконечные дороги. Грохот поезда, станционную суету, дребезжащие звонки, прощальные поцелуи, жаром пышущий паровоз, ландшафты, проплывающие за окном вагона.
Необхватная Россия лежала окрест.
Административно она делилась па губернии, которыми управляли штатские генералы, так называемые губернаторы. Они отвечали перед государем за благонамеренность мыслей и верноподданнические чувства во вверенных им губерниях. Таким образом, как по долгу службы, так и по личным соображениям им приходилось опасаться многих неприятностей – рабочих забастовок, мужицких бунтов, студенческих собраний, уличных беспорядков, не говоря уже о покушениях на жизнь собственных персон.
Однако кроме всего перечисленного выше господ губернаторов тревожили и беспокоили зловредные критиканы – газетные писаки и кухаркины дети, обучающиеся в гимназиях. Именно кухаркины дети почему-то казались носителями всех возможных зол, из коих наизлейшее – преступное посягновение на власть предержащую. Именно они были рассадником идей революционных – разных там марксизмов, социализмов, эмансипаций и прочее.
Но – боже ты мой! – как стремительно движение прогресса! Или как выразился однажды наш старый знакомец, отец Кирьяк: «В отделку особачились образованные господа!» И вот уже мало газетных писак и социалистов, мало студентов и жидков, – уже балаганные комедиянты, представьте себе, тщатся потрясти основы!
Чему – извольте полюбоваться – неоспоримое доказательство в виде пренахальной афишки, не где-нибудь налепленной, а именно на круглой тумбе, перед окнами кабинета его превосходительства:
АНАТОЛИЙ ДУРОВ —
значилось с одной стороны тумбы; но сделайте милость, господа, взгляните на другую:
ЖДИТЕ АНАТОЛИЯ ДУРОВА! —
аршинными буквами бесстыдно пялилась на вас, оглушительно горланила реклама.
Губернатор морщился. В новоизобретенный телефон предупреждал полицмейстера:
– Примите меры, Иван Иваныч… Чтобы не тово… знаете ли.
Иван Иваныч крякал с досадой и сквозь пушистую заросль бакенбард и подусников рычал стоящим ниже:
– Глядите в оба, сссукины дети!
А в цирке проданы все билеты, трещат, ломаются скамейки – и вот он, знаменитый артист, в сиянии своей огромной славы, в блеске золотых звезд и жетонов, красавец, франт! Бонвиван! – как затейливо аттестовал его крестный мой Иван Дмитрич.
Едва ли какая гастроль обходилась без участия полиции.
– Да, да! – смеялся Анатолий Леонидович. – В афишах печатают: «Дуров при участии дрессированных животных». Почему бы не добавить еще – «и полиции»? А? Реклама, черт возьми!
Его превосходительство морщился не без основания. Цирк начался, как только дуровский багаж выгрузили из вагона.
Странная процессия двигалась по главной улице приволжского города. Тут всякое видывалось – и военные парады, и крестные ходы, золоченые ризы попов, серебряные трубы полковых оркестров, масленичные гулянья, но такое…
Такое случалось впервые.
На причудливо расписанных тележках, запряженных красивыми гривастыми лошадками, везли ящики и клетки, в которых размещались дуровские «артисты». Сквозь щели и между прутьев высовывались, как бы удивленно оглядываясь – куда-куда это мы приехали? – головы кур, петухов, гусей; баран вертел головой туда-сюда, выражал недоумение перед ярким солнцем, пестрой толпой, горластыми мальчишками, бегущими за повозками; расправив огромные крылья, на одной из них преважно восседал, щелкал диковинным клювом невиданный в этих краях пеликан.
– Гля! Гля! – громко восхищались в толпе зевак. – Во, братцы, носяка! Страсть!
– Да чем же его кормют-то? – ахала бойкая бабенка, проталкиваясь к тележке с чудо-птицей.
– Да вот такими, слышь, как ты, балаболками!
В толпе заржали.
– У, шутоломный! – огрызнулась бабенка.
– Дуров приехал! Дуров! – веселились, орали мальчишки.
– Какой такой Дуров? Чего зевашь? – Благообразный старик в черной поддевке сердито замахнулся палкой.
– Разуй глаза, дяденька!
КЛОУН АНАТОЛИЙ ДУРОВ —
ярко, цветисто было намалевано на большом фанерном листе.
СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!
Колясочку с рекламой тащила большая розовая, с черными подпалинами свинья.
Молодцы в передниках, пристанская рвань, грузчики, чумазая мастеровщина скалили зубы:
– Ну, держись, начальство! Он вам, чертям, покажет…
– Кому это? – нахмурился старик.
– Да хоть тебе такому-то…
– Гляди, какой отчаянный нашелся! А вот кликну полицию…
– Чеши-ка, дяденька, знаешь куда?
– Ах ты!
Назревала ссора. Придерживая шашку, бежал городовой.
– Ррразойдись! Честью прошу, господа…
Представление начиналось уже на улице.
Всегда немножко сонный, словно одуревший после сытного обеда, город жил от ярмарки до ярмарки, помаленьку торгуя щепным товаром, проволочными решетами и иконами. Дважды в году ярмарка шумела многолюдством. Тогда из обеих столиц наезжали арфистки, цыгане и мелкое жульё. Ну, попито бывало, конечно, погуляно, посорено денежками. Но кончалась ярмарка – и город затихал до следующей.
Происшествий, благодарение господу, никаких не бывало.
В безделье тучнела администрация.
И вдруг…
Афишки запестрели на заборах – Дуров! Дуров!
Нахальные мальчишки засновали по улицам, суя в руки прохожим синие, красные, зеленые листочки со стишками:
Вот приехал я
И со мной свинья,
Козы, зайцы, лисы,
Петухи и крысы…
И тут начинались неприятности.
Писака, бумагомараки, чертово семя!
Собирался ведь некогда его благородие Антон Антоныч, небезызвестный городничий, ох, собирался ведь всех их узлом завязать да в муку стереть… Где там!
За утренним кофеем его превосходительство любил газетку просмотреть – где, что, – ну, война, допустим, или землетрясение, или еще какой непорядок.
Газетка способствовала пищеварению генерала. Он мурлыкал, просматривая свежий нумерок.
И вдруг – что это? Что? Что?
Нагло, дерзко с газетного листа глянула пошлая картинка в духе как бы юмористическом: с метлами в руках думские гласные мостовую метут, другие спешат вкопать новые уличные фонари… И надпись – боже мой! – «Грозный клоун в новой роли». Господин Дуров гарцует на хавронье, пальчиком грозит думцам: «Живей, живей, братцы! Я у вас в городе наведу порядки!»
Нуте-с?
Срам! Стыд! Клоун грозит пальчиком. Кому грозит, позвольте спросить? Ах, взять бы да узлом…
А что прикажете делать?
Он, представьте, в первый же вечер учинил пренеприличную буффону. Собрал всех своих чушек, заставил их визжать под балалайку – какой вздор, нимало не остроумно! Это называлось х о р о б р а з о в а н н ы х с в и н е й, а по причине якобы незнания публикой свинского языка оный скоморох свинячий визг звучным голосом перетолмачил в стишки, и выходило, будто хавроньи пели следующее:
Мы объехали полсвета,
Побывали мы везде,
Но такой, как город этот,
Не видали мы нигде.
Море грязи непролазной
Славим песнею свиной.
Не беда, что город грязный,
А беда, что в нем – Грязной!
Ежели теперь, милостивые государи, довести до вашего сведения, что именно господин Грязной Иван Емельяныч занимал высокий пост градоначальника, вам станет понятно, в какое щекотливое положение была поставлена губернская администрация…
Губернатор уехал, разгневанный, осаждаемый административными мыслями: связать в узел… стереть в муку… и прочее.
А представление между тем продолжалось.
Происходила смешная война животных. Множество поросят, куры, гуси, собаки и знаменитый рыжий козел затеяли такую свалку, что пыль поднялась над манежем, подобно разрывам артиллерийских снарядов.
– Война как война, милостивые государи! – Голос Дурова перекрывал шум зверей и хохот публики. – Солдатики воюют, интенданты воруют… а начальство…
Широкий жест в сторону: там знакомый нам Мишка, некогда сожравший монашескую овсянку, преспокойно сосал из бутылки сладкую водицу.
– А начальство…
– Пьянствует! – восторженно орали верхние ярусы.
Когда звериные войска загоняли в клетки, шум стоял невообразимый. Припадочно кудахтали куры, лаяли собаки, гуси хлопали крыльями, гоготали… Вошедший в воинственный азарт рыжий козел упирался, скакал, тряс низко опущенной головой, не желая уходить с манежа, ища противника.
– Ну, пойдемте же, пойдемте, ваше козлиное превосходительство! – уговаривал его Анатолий Леонидович. – Успокойтесь, еще завтра навоюетесь!
Схватив за рога, поволок упрямца к выходу, но тут уж козлище взыграл: вырвавшись из рук хозяина, кинулся сломи голову за кулисы и по дороге в конюшню сбил с ног некоего поручика, завсегдатая цирковых задворков и артистических уборных.
– Нахал! Шут! – подымаясь и отряхиваясь, рассвирепел незадачливый офицер.
– Бедный мой козлик! – засмеялся Дуров. – Не признал, кажется, тебя твой собрат по оружию…
– Клоун! – завизжал поручик. – Ты разговариваешь с офицером!
– Мелюзга, ты разговариваешь с дворянином, – спокойно и презрительно сказал Дуров.
– Ах, вот как! – Задыхаясь в бешенстве, поручик таращил глаза. – В таком случае… стреляться! Дуэль! Дуэль, милостивый государь! Я не позволю…
Анатолий Леонидович учтиво поклонился.
– Жду ваших секундантов, господин поручик.
Их пытались помирить, ограничиться взаимными извинениями, но пьяный офицер и слышать не хотел о мировой, кричал о чести мундира, о незапятнанном имени дворянина.
– Оставьте, господа, – сказал Дуров. – Это даже забавно: первая в истории дуэль офицера с клоуном…
И они действительно стрелялись.
Меня прямо-таки корчило от нетерпения. А крестный молчал, посмеивался.
– Ну и что же? Что же? – приставал я. – Что? Он, конечно, застрелил этого поручика?
Рассказывая, крестный набивал гильзы табаком. Он как-то чудно это делал, священнодействовал, колдовал. Самый способ набивки был необыкновенен, я потом всю жизнь не видывал, чтоб так набивали. Табак в т и р а л с я в гильзы, и гильзы приготавливались для этого специально в круглых пачках, опоясанных широкой бумажной лентой, на которой глазасто, крупно таращилась странная фамилия фабриканта: Катык.
– Так что же? Что?
– Экой, братец, ты торопыга! Ну, состоялась дуэль и все было, как полагалось по дуэльным правилам: секунданты отмерили шагами расстояние, противники сошлись, выстрелили почти одновременно… Офицерик схватился за щеку, однако оказалось пустяк, легкая царапина. Что Дуров? Абсолютно невредим. Ну-с, помирились, конечно, и даже будто бы, как ни в чем не бывало, вспрыснули в ресторане мировую…
Занятных историй, связанных с гастролями Анатолия Леонидовича, крестный знал великое множество. Именно от него я впервые услышал о берлинском скандале.
– Самому кайзеру Вильгельму, можешь себе представить, императорские баки набил!
Я видел Вильгельма на журнальных картинках: усы стрелками кверху, надменен, немецкая каска с острым штырём.
– Как… баки? – Я не понимал самого выражения.
– Фу ты, братец! Иносказательно, разумеется. Прелюбопытная, доложу тебе, история, – в ней весь наш милейший Анатолий Леонидыч: горяч, отважен, безрассудно смел… Да-с, не шутка, с самим Вильгельмом схватился, подумать только! А ведь с пустяка, собственно, началось, с ерунды… На границе, видишь ли, немецкие чинуши отказались пропустить дуровских свиней под тем предлогом, что свиньи из России, дескать, не заразны ли для немецких. А? Чепуха какая! Но ведь придрались – и хоть ты что! До министра, представь, пришлось дойти, – ничего, пропустили. Нуте-с, хотя дело и уладилось, но обидно же: какие-нибудь другие европейские свиньи – ничего, пожалуйста, а русские – эс ист тмутциг! А тут как раз в вокзальном буфете жандарм нахамил, сострил с чисто прусской грубостью что-то насчет руссише швайн… Все одно к одному, как говорится, – и задержка с багажом, и жандармский хамеж. И вот – цирк, первое представление. Публики – яблочку негде упасть, – ну, еще бы! Дуров на арене – этаким, знаешь ли, русским добрым молодцем: вышитая рубаха, поясок с махрами, сапоги гармошкой, – экзотика для заграничных простаков… Нуте-с, двух свиней выводит, зрители в восторге, хлопают, смеются, заранее предвкушая веселое зрелище. Анатолий Леонидыч уверял меня, между прочим, что немец на свинью не может смотреть равнодушно, у него будто враз слюнотечение начинается, он будто бы уже не свинью видит, не пошлое домашнее животное, хавронью, а словно некий символ, олицетворение, что ли, колбасы, сосисок, копченых окороков и прочее. Итак, смеются, аплодируют. «Ну, постойте, – думает Дуров, – сейчас преподнесу вам сюрпризик!» И ставит перед своими чушками два табурета: на одном – кусок хлеба, на другом – немецкая военная каска. «Милые свинки, – говорит, – выбирайте, что кому по вкусу!» Одна свинья, натурально, хватает хлеб, другая тянется к каске… Ты, конечно, спросишь – почему к каске? Хе-хе! Она, каска то есть, мучным клейстером была смазана – ловко? А он, волшебник-то наш, публике так объясняет, что одна свинья «вилль брод», то есть хочет хлеба, а другая – «вилль гельм» – хочет каску… Ты понимаешь, какая великолепная игра слов? Вильгельм – свинья!








