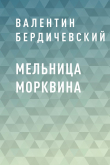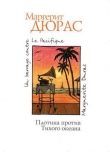Текст книги "Плотина"
Автор книги: Виталий Семин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 10 страниц)
– Документ!
Однако немец с неожиданной решимостью ухватился за пиджак. Несколько мгновений длилась борьба. Она мне казалась нелепой. Дело не в документе, а в том, на что решимся. Ванюша боролся с немцем, а я стоял с пистолетом и прислушивался к накоплению решимости. Сейчас Ванюша отклонится…
Но тут застучали по лестнице шаги, и Яшка Зотов крикнул:
– Патрульная машина! Американцы!
Когда подбежали к выходу, прожектор освещал его в упор. Затем свет сместился. Патрульную машину от дома отделял поворот аллеи. Щекой ощущая ослепляющее, раздевающее давление света, я пробежал клубящееся открытое пространство. За домом нырнул в алюминиевую темноту и ориентировался по чьему-то топоту и дыханию. Бежали в глубину кустов, я невольно отклонял лицо, но ни одна ветка не задевала меня.
Тот, кого я все время догонял, вдруг опустился на землю…
– Не могу! Все!
Это был Яшка Зотов. Он дышал со свистом. Сердцу не хватало места в груди, и мне тоже казалось, что бежим невыносимо долго. Но только теперь прожекторная слепота вдруг рассосалась и я стал видеть.
Вернулись убежавшие вперед Ванюша и Николай.
– Сил нет? – спросил Ванюша. – Ну, ничего. Пересидим здесь. Они нас дальше искать будут.
Он опустился на землю, и мы стали всматриваться туда, где сквозь ветки кустов и деревьев светился всеми окнами дом и медленно двигался ищущий свет автомобильных фар. Я помнил, как он высветил всего меня, как клубился далеко впереди, как пригибались впереди спины Ванюши и Яшки Зотова. Я тоже гнулся, потому что чувствовал себя на линии чьего-то взгляда.
Они не могли нас не видеть, потому что не могли не смотреть туда, куда были направлены фары их машины. Так почему же ни крика, ни выстрела?
– Наверно, успел позвонить, – сказал Николай. Его не оставляла веселость, которую я заметил в нем еще в доме.
– Похоже, – согласился Ванюша.
– Что же не задержали?
– Зачем ребятам из-за фашистов рисковать, – сказал Ванюша. – Они же не знают, что мы не будем стрелять.
– Они нас видели, – сказал Яшка. – Тут не найдут, поедут в лагерь, там будут ждать.
14
Вернуться в лагерь можно было только после шести утра. В шесть американцы снимали посты.
Вначале лагерь вообще не охранялся. Потом за пределами лагеря в караулке поселилось десятка два солдат. В лагере они появлялись редко. Рядом было футбольное поле. На нем они по правилам, которые мы не могли уловить, гоняли маленький мяч. Один подбрасывал, второй бил деревянной битой, третий чуть ли не на середине футбольного поля пытался поймать его во что-то, напоминающее огромную боксерскую перчатку. По сравнению с известными нам играми в мяч эта казалась нам громоздкой и малоподвижной. Однако америанцы горячились, раздевались по пояс, азартно кричали.
Кто-то из наших нашел покрышку от футбольного мяча, набил его тряпками и вынес на поле. На одной половине мы «в одни ворота» гоняли свой мяч, на другой американцы – свой. Потом стали переходить с одной половины на другую. В конце концов, на этом не просохшем от весенних дождей поле рядом со взорванной немцами радиостанцией состоялся футбольный матч между нами и американцами.
С обеих сторон играло человек по десять. Американцам не хватало футбольной сноровки, нам расстояние от ворот до ворот казалось огромным, земля вязкой, а мяч тяжеленным. Он не прыгал, а «прилипал» к ноге, даже надевался на нее. Мы показывали игру американцам, это была не их игра, и нас вело самолюбие, но воздух спекался в наших легких.
Конечно, мы выздоравливали: были сыты и воздух был прекрасным. Но слишком глубоко в наших телах засело истощение.
И со стороны было видно: разномастная госпитальная команда гоняет мяч с солдатами из отборной части. Кто мог раздеться до трусов, разделся. Но у кого-то не было трусов или они так истлели, что совестно было их показывать. Кто-то бегал босиком, потому что у него не было ботинок или он их жалел, а кто-то не раздевался, потому что стеснялся своей изможденности.
Мы выиграли, а может, выжилили мяч. Мы объявляли правила, мы их и истолковывали, судья был наш и болел за нас. Но запомнилось не это, а неожиданно растревоженная в нас больничная изможденность, воздух, запекшийся в груди, потому что легкие не успевали добывать из него кислород. Открывшееся на бегу ощущение нездоровья и было тем, что сильнее всего запомнилось от этой игры.
Впечатление молодой, даже младенческой откормленности было вначале главным от американцев. Немецкие машины грузли под тяжестью газогенераторных печек, им не хватало бензина. У немецких водителей была привычка к скорости, при которой главное – доехать. Американцы были озабочены самой ездой. В лагерь, сопровождаемый двумя или тремя машинами, часто приезжал американский комендант городка. Машины на такой скорости подлетали к бетонной стенке гаража, что на это страшно было смотреть. Конечно, водители машин были молодыми людьми. Война кончилась, а лихость осталась нерастраченной. Но одной молодостью эту лихость нельзя было объяснить.
Точно так же нельзя было не заметить вольные, неармейские позы, запах алкоголя и вообще отсутствие всего, что называется строевой подготовкой.
Немцы, французы, итальянцы, бельгийцы, голландцы, поляки должны были выработать у нас что-то вроде привычки к иностранцам. Но на американцев трудно было смотреть просто как на новых иностранцев. Нетронутыми они привезли свои машины, привычку к скоростной езде, незнание того, что стало общим для европейцев в эти годы. Это незнание тоже было молодым или даже младенческим. Оно мешало, но не отталкивало, потому что есть вещи, знание которых не красит и, уж во всяком случае, не прибавляет здоровья.
Нельзя было определить, кого привозил с собой американский комендант – помощников, подчиненных или приятелей, приглашенных на пирушку. Так они выпрыгивали из еще не остановившихся машин, такой смешной компанией шли по лагерю.
Комендант выступал перед нами в бараке, где была оборудована эстрада. Вернее, говорил переводчик, а рядом с ним на эстраде стояла компания жующих резинку американцев, и мы могли только гадать, кто из них комендант.
Разглядели мы его, когда американцы устроили для нас самодеятельный концерт. Переводчик объявил, что первым будет петь комендант. Комендант отделился от компании, принесли аккордеон, и комендант запел. Это был молодой верзила с обветренным от езды в отрытой машине лицом. Пел он будто для аккордеониста, а не для нас. Комендант был неумелым певцом, аккордеонист – аккомпаниатором; на эстраде не прекращалось хождение, слов мы не понимали, но видели, что артисты не то чтобы стараются развеселить нас, но сами веселятся. Потом еще кто-то пел и играл на аккордеоне. Вызывали на эстраду нас. И я помню свое очень сильное желание, чтобы кто-то вышел и спел или сыграл, и смущение в зале, вызванное тем же ожиданием. Выталкивали меня: «Сыграй на аккордеоне! Те же клавиши, что и на пианино!» Я ждал, что меня начнут выталкивать. Этот страх жил во мне с тех пор, как я рассказал, что учился в музыкальной школе. Всегда находился кто-то, кому хотелось уличить меня в хвастовстве. Но дело даже не в этом. Я ведь и перед школой два года занимался с учительницей, посещал уроки сольфеджио, носил черную папку с нотами, получал в школе на экзаменах переходные баллы и завидовал тому, кто, тыкая клавиши негнущимся пальцем, мог на любом разболтанном пианино подобрать самый простенький мотив. Противоречие было многолетним, ежедневным и, в конце концов, превратилось в мечту, которую знают глухие и слепые и которая относится к мучительному разряду «в один прекрасный день». В один прекрасный день я возьму в руки любой музыкальный инструмент – губную гармошку или гитару – и легко воспроизведу то, что слышу. Потому что свои музыкальные занятия я ненавидел, а музыку любил.
Годы потребовались мне, чтобы заметить это противоречие и чтобы оно стало досаждать. Вначале я просто ненавидел гаммы, этюды, многочисленные упражнения для пальцев и слуха и в музыкальную школу ходил, уступая родителям. Музыка была в патефонных пластинках, в концертных залах, но чаще на улице или во дворе в песенках под гитару. Она проникала в нашу квартиру с нижнего этажа, где прекрасно, как мне казалось, играли на фортепьяно братья Касьяновы. Она была со способными или талантливыми, кто ловкими или неловкими пальцами на знакомом или незнакомом инструменте мог подобрать любой мотив. В выученных мною наизусть пьесах она и не ночевала. И к музыкальной школе и моим занятиям в ней никакого отношения не имела.
Взрослого человека это, конечно, сразу стало бы удручать. Но взрослого родители не могли бы заставить жить не своей жизнью. С годами пальцы мои становились гибче, ноты я читал все более бегло, но от этого только чаще ударялся о ту перегородку, которая отделяла меня от музыки. Ничего тут обидного не было, если бы это не продолжалось годы. Война отменила мои ежедневные музыкальные занятия. Но досада на то, что «прекрасный день» и не наступил, не забылась. А в немецком лагере сделалась еще сильней. Она стала обидной с тех пор, как я получил кличку «музыкант» и надо мной стали пошучивать.
Среди замкнутых кругов, по которым в лагере ходила моя мечта, был и такой: я подхожу к фортепьяно (где оно и почему я к нему подхожу, придумывалось каждый раз заново), поднимаю крышку и, прежде чем мне успевают помешать, доказываю, что я не «русская свинья». У мечты были продолжения: мне дают сигарету, хлеба, разрешают приходить и играть. Соколик, Костик, Москвич обрадованы тем, что я так хорошо играю. Им тоже почему-то очень важно, чтобы в лагере кто-то оказался настоящим музыкантом.
У этой мечты было условие. «Прекрасный день» уже наступил, но я об этом догадываюсь, только когда подхожу к фортепьяно. Чем дальше заходила мечта, тем с большей досадой приходило отрезвление. Новый приступ мечты заводил еще дальше, досада усиливалась, и я понимал, что бьюсь о невозможность. Это была не единственная и не самая главная невозможность в моей жизни. Еще до войны у меня вдруг побелел левый сосок, на теле появилось несколько белых пятен. На пляже я позже всех снимал майку, потому что кто-нибудь обязательно тыкал мне пальцем в грудь и спрашивал:
– Ты чего разноцветный?
Я объяснял:
– Потеря пигмента.
Но спрашивающий хохотал.
– Цветной! – И звал других ребят: – Смотрите, пестрый!
Кто-то догадывался:
– Лишай!
И я получал изолирующую меня от ребят кличку:
– Заразный!
Почему эта болезнь обрушилась на меня, почему выбрала на моем теле такое место, я думал, когда другим было особенно весело. На пляже, в конце концов, забывали о моих белых пятнах, но я-то не мог о них забыть! Они не загорали под солнцем, не проходили сами собой и были в моей жизни первой мучительнейшей невозможностью.
За немецкой лагерной проволокой у меня появились новые невозможности, но и старые не оставляли меня. Это может показаться удивительным, но и о пятнах своих я не забывал. Голод, холод, каторжная работа – ничто на них не действовало. Они были на месте. А однажды Костик, увидев меня в умывалке обнаженным по пояс, захохотал:
– Цветной!
И удивительно было то, что голодный, изможденный лагерными заботами Костик смеялся над тем, над чем когда-то смеялись ищущие забавы пацаны.
Я уже понимал, «прекрасные дни» не наступают. Если природа не наделила музыкальным слухом или посадила на неподобающее место белое пятно, все так и останется: и музыкальная глухота, и белое пятно. Но и смириться с этим все равно что смириться с лагерной проволокой. По ту сторону мир! Семь лет ежедневных занятий обострили мое внимание к тому, без чего музыка не существовала, – к талантливости. Но только теперь я узнал ей цену. Талантливость насвистывала в бараках. Чтобы показать себя, ей достаточно было двух алюминиевых ложек, расчески, обернутой папиросной бумагой. Ее замечали сразу и сразу же тянулись к ней. Талантливому не надо было ничего объяснять или доказывать, его и так было видно. И не то чтобы ему каждый раз уступали лучшее место, но какие-то знаки внимания оказывали. Рассказав, что учился в музыкальной школе, я словно посягнул на чужое место. И сомневающиеся требовали от меня доказательств.
Меня выталкивали на эстраду. Я сопротивлялся:
– На аккордеоне не умею!
– Ты ж в музыкальной школе учился!
– Если бы ноты были, – оправдывался я.
Кто-то запустил в меня немыслимым ругательством; я вздрогнул и догадался – Костик.
В конце концов я отбился. Но усилился страх, что подойдет момент, когда не отбиться. Усилился и интерес к тем, кому достаточно двух ложек, чтобы сразу было видно – артист.
Да не в этом дело! Может то, чего ты не можешь, слышит то, чего ты не слышишь. И не все показывает. То, что показал, можно перенять, выучить наизусть, как я свои музыкальные пьесы. Но где берет он, ты не возьмешь. Надо ждать, пока покажет.
И ждут, и радуются, когда показывает. Сожалеют, если пропустили момент, расспрашивают тех, кто видел и слышал. Восхищаются:
– Во дал!
Пытаются изобразить, как «давал». И лишний раз убеждаются, что это по силам только тому, кто «давал».
Конечно, не только музыкальная талантливость была в цене. Меня угнетало и то, что ни срифмовать, ни отстучать чечетку, ни кого-то смешно переобезьянить я не мог. И не делалось легче оттого, что таких, как я, большинство, а умельцы все наперечет.
Завидовал я не только вниманию, которым они пользовались в лагере, но и сопричастности их тому, чему я не научился за годы музыкальных занятий.
Я взрослел и понимал, что надо чем-то расплачиваться с жизнью. Просто расти уже недостаточно. Должно быть, не только для меня это было остро. Вдруг ко мне подходили ребята из соседнего барака.
– Это ты в музыкальной школе учился?
– Я.
– И только на пианино и только по нотам?
– Да.
– Я знал одного, он и на пианино, и на гитаре, и с нотами, и без нот.
– Ну и что?
– А то…
Рассматривают враждебно, не уходят.
– Вам-то что?
– А то!
Ловят мою интонацию, как перед дракой. А ведь мы почти незнакомы. Никаких взаимных обид. Было бы понятней, если бы они были.
– Говорить не надо… Понял?
Как когда-то на пляже кричали: «Цветной!», так теперь говорят друг другу: «Музыкант объявился!»
– Пошел ты! – склоняю я разговор как раз туда, куда его клонит самый настырный.
Я очень хорошо представляю себе: только что он пообещал напарникам наказать самозванца. Они подхватились: «Пошли!» И вначале шли быстро, но вспомнили, что идут к военнопленным, и отвернули бы, однако увидели меня. Отступать было некуда, но решительность настырный растерял, а когда из барака вышел Ванюша, разговор совсем прекратился.
Запомнилась недоброжелательность, накопившаяся там, где я ее не ждал. Неожиданность ее была особенно неприятна. И в очередной раз пришло ощущение вины. То ли раньше надо было подальше послать настырного, то ли не надо было никому говорить, что учился в музыкальной школе, если музыканта из меня не получилось. Ведь виноват не виноват, а все равно нехорошо, что после стольких лет занятий музыкой не могу спеть или сыграть на аккордеоне хотя бы так, как эти американцы, которые, судя по всему, учились этому не в школе. Все в бараке были смущены тем, что никто из наших не поднялся на эстраду, не спел в ответ на песни американцев свою, не сыграл на аккордеоне, а я особенно.
Все-таки с невозможностями, с их непоколебимостью было не все просто. Американский комендант немецкого городка, поющий для нас в бараке, где совсем недавно собирались эсэсовцы, был самым поразительным тому доказательством.
Он еще дважды созывал нас в этот барак, но уже не на самодеятельный концерт, а для того, чтобы объявить свое недовольство. Какие-то вооруженные люди нападали ночью на бауэрские дома, уносили еду и одежду. Ограбленные жаловались коменданту. Они считали, что это были русские. Комендант в первый раз просил нас учесть эти жалобы, во второй запретил выходить из лагеря после одиннадцати вечера.
Один или два американца давно уже дежурили возле лагеря. Они не мешали нам выходить из лагеря и возвращаться в него. По европейским меркам, они вообще не походили на часовых. Садились на траву, приносили с собой раскладной стульчик, надолго отлучались с поста. Вначале вокруг них собирались любопытные. Один из этих часовых делился с любопытными бутылочкой виски, к которой прикладывался сам, давал подержать свою полуавтоматическую винтовку и даже стрелял из нее. Чтобы доказать, что это тяжелое оружие бьет без отдачи, он держал винтовку в вытянутой руке. Звали американца Курт, фамилия у него была немецкая, и сам он был по национальности немцем. Это мгновенно усилило наши подозрения, которые возникли с того момента, когда у входа в лагерь появился часовой.
Доступность часовых или их полное равнодушие нисколько не смягчали подозрений. Три года назад я своими глазами видел в нашем городе невооруженногонемецкого солдата перед воротами нашего школьного двора. Он не мешал не только входить во двор, но и выходитьиз него. Не отгонял и любопытных, близко подходивших к воротам, толпой стоявших на противоположной стороне улицы, переговаривавшихся с теми, кто во двор зашел. Двор был местом сбора евреев.
Невооруженный часовой мог оказаться предвестником событий более зловещих, чем крикливый полицай с винтовкой или автоматом, – вот что осело в нашей памяти. Вооружен часовой или не вооружен, важно, что он появился.
Среди американцев, живших рядом с лагерем, был русский по имени Алик. Родился он в Калифорнии, был сыном фермера, учился в американской школе с детьми фермеров, но по-русски говорил, как мы. Родители до сих пор называли себя киевлянами, хотя в Америку перебрались в начале века.
– Возвращаться собираетесь? – спросили мы.
– Нет, – ответил Алик. – Но дома говорим по-русски.
Мы спросили, зачем поставили часовых.
– Чтобы оградить вас от немцев.
– А этот Курт, он же немец?
– О! – сказал Алик. – Он герой войны.
Оказывается, Курт с ручным пулеметом первым перебрался через какую-то речку и скосил не то десять, не то пятнадцать немецких солдат. Чтобы уточнить, сколько их было, Алик обратился к другим американцам, и по тому, как они взволновались, мы поняли, что это известная история.
Пускали нас к американцам свободно, и мы приходили поглазеть на удивившие нас с самого начала двойные каски, на тяжелые полуавтоматические винтовки, на ножи, лезвия которых полностью прятались в рукоятке и выбрасывались пружиной, на Алика, который у себя на ферме в Калифорнии вырос таким высоким и толстым, что рядом с ним в лагере некого было поставить.
Необычные размеры Алика нас очень занимали. Мы росли, и ширина грудных клеток, сила рук, рост было тем, в чем мы все время сравнивались. Мы спорили о том, вырос бы он точно так же, если бы его родители оставались в Киеве.
– Черта с два! – говорил Костик. – У них ни голода, ни войны!
Пытались мы наладить с американцами обмен. Они владели самой стойкой «валютой» тех дней. Костюм можно было купить за сто пятьдесят сигарет. Столько же примерно стоили часы. Но никто из моих знакомых не расстался бы с сигаретами в обмен на часы или костюм. Костюм на сигареты – было бы понятной лихостью. Презрительный вопрос «Домой повезешь?» показывал наше отношение к вещам и времени. Загадывать далеко значило дразнить судьбу.
Стоит ли, однако, говорить, что ни костюмов, ни часов, ни сигарет у нас не было.
Обычное человеческое желание чем-то гордиться было очень сильно в нас. Мы гордились несчастьями, которые свалились на нас, знанием жизни. Но, может, больше всего я гордился тем, что мог полпайки поменять на табак. Пустить жизнь дымом!
Непривязанность к вещам мы считали едва ли не главным уроком, который эта жизнь нам дала.
Хвастовство этой непривязанностью принимало формы дикие, амбиционные. Я, например, в вагоне, которым американцы перевезли нас в нашу демаркационную зону, бросил свое единственное одеяло, за что был наказан множеством ночей на голом полу или на одеяле Костика.
Костик не осудил меня за эту вспышку, которую и объяснить-то по-настоящему нельзя. Ведь трудно понять, почему собственное одеяло топчут ногой и произносят: «Катись, откуда приехало!» Готовность к такой вспышке или способность ее понять была во многих из нас. Тут, повторяю, надо учесть, что речь шла не о вещах вообще, а о непривязанности к единственной вещи. По поговорке, к единственной рубашке, которую надо снять и отдать другу. Вот до какого состояния мы считали себя обязанными довести и, естественно, довести не могли. Это и давало редкие, дикие и не оправданные никакой целесообразностью вспышки.
В отсутствии целесообразности и был их блатной смысл. И в хлебе, обмененном на табак, тоже было что-то блатное. Жизнь во мне едва тлеет? Так я могу искурить ее сигаретой! Ведь главное блатное хвастовство – хвастовство непривязанностью к жизни.
В лагере естественно было бы бросить или хотя бы не начинать курить. Порвать, по крайней мере, с этой ложной зависимостью. Никто не бросал! Отказываться от табака я начал после войны. И все сокрушался – табачный дым перестал доставлять то поразительное удовольствие, которое я получал от него в лагере. Это была разница между целой сигаретой и «бычком».
У медиков могут найтись и другие объяснения того, почему истощенные люди так тянулись к никотину. «Вы психологизируете, – мог бы сказать мне врач, – а все дело в химии изнуренного организма». Мне же кажется, что химии мало, чтобы объяснить, почему самой стойкой валютой тех дней были сигареты и почему восторг и страх бессмысленного поступка был для нас в те дни привлекателен.
Какой же была та жизнь и какими в ней мы были сами, если белая сигаретная бумага вызывала у нас счастливые предчувствия, а цветом самого счастья был табак!
Когда пришли американцы, мы, конечно, захотели освободиться от наших каторжных лохмотьев. Но не переставали хвастать своей непривязанностью к вещам. Напротив, только теперь у нас для этого появилась какая-то реальная возможность. Однако американцы снабжали нас едой, а не одеждой. Не снабжали и табаком. Меновую стоимость своих сигарет они поняли очень скоро. А сигареты, которые мы растащили с эсэсовских складов, быстро кончились. Добыть одежду и что-либо для обмена на сигареты можно было только у немцев. Но еда, одежда, часы не интересовали американцев. Они покупали оружие. Мы об этом узнали не сразу. Пистолет – вещь тайная. Ее не покажешь тому, кто, по нашим представлениям, должен его у нас отобрать. Понятно, тайна эта лагерная. Мы знали тех, у кого есть оружие, и догадывались о тех, у кого оно может быть. И были встревожены и удивлены, когда узнали, что Сашка Эссенский продал американцу пистолет. Лагерной тайне был нанесен ущерб. К тому же было не очень понятно, зачем солдату, у которого есть казенное оружие, еще и собственный пистолет.
Однако постепенно все разъяснилось. Алик объяснил, что у солдата коммерческий интерес. Сигареты входят в армейский паек, а хороший бельгийский пистолет в Штатах можно продать. Сколько это будет стоить? На эти деньги можно прожить недели две. Алик говорил по-русски, а коммерсант кивал, словно соглашаясь с каждым словом. Многих американцев мы уже знали в лицо и по именам, а этого заметили впервые. У него было темноватое лицо мастерового. Будто он не только торговал пистолетами, но еще и починял и смазывал их.
Чем-то он был похож на немца парикмахера, который в вуппертальской тюрьме дал мне за хлеб ватные сигареты. И еще на Леву-кранка. Все томятся по дому, празднуют неожиданную безопасность и свободное время, говорят о том, что было, и уверяют друг друга, что не допустят этого вновь, а он ни на минуту не упускает своих целей. Из-за этого его вначале и не замечают. Но дом далеко, и наступает момент, когда такого человека не заметить нельзя. В этот момент почему-то чувствуешь себя дураком. Будто тебе вот-вот скажут: «Своя голова есть?»
Как бы то ни было, первый пистолет был продан. Вместе с этим обнаружилось, что американцы сочувственно относятся и к нашим пистолетам, и к тому, для чего мы их добываем.
Мы это помнили, когда шли ночью из кранкенхауза. Но понимали: прикажет комендант, и нас будут ловить. Раза два видели свет фар патрульной машины. Она петляла по коротким городским улочкам, а потом пошла по серпантину в гору, и свет ее прожекторов некоторое время мелькал среди деревьев.
– В лагерь пошла, – сказал Ванюша. – Поодиночке легче. И в лагерь не сразу идти. Пересидеть где-то часов до десяти.
У меня сердце сжалось, когда я представил себя одного на этих улицах или в лесу. Ванюше не ответили. Потом Николай сказал:
– Больше прошли, меньше осталось.
Я видел, Ванюшу это не убедило. Он посматривал по сторонам, словно готовился от нас уйти, но вновь об этом не заговаривал.
На гору мы поднялись без помех. До утра сидели в здании аппаратной взорванной радиостанции. Бетонное здание напоминало дот. Оно уцелело, несмотря на взрыв, такие толстые у него были стены. Из лагеря сюда ходили как в тир. Внутри поднимали стрельбу, пули с визгом рикошетировали от каких-то медных приборов, а снаружи ничего не было слышно. Бетонные стены и толстая металлическая дверь не пропускали звуков. Сейчас сидели тихо. К утру Николай затомился.
– Пойду разведаю.
Когда дверь за ним закрылась, Ванюша усмехнулся.
– По Марусе соскучился.
И правда, минут через двадцать Николай вернулся с женой.
– Тихо, – сказал он. – И ночью шума не было.
– Я всю ночь прислушивалась, – сказала Маруся, – никакого шума не было.
По возбужденному припухшем лицу ее было видно, что она гордится ожиданием, выпавшим на ее долю, и тем, что Николай привел ее сюда.
– Хозяину дома, – сказал Николай, – не очень-то и хотелось, чтобы нас поймали. Доктора Леера – или кто у него в подвале прятался? – тоже вытянули бы на белый свет.
Он вытащил из кармана два блестящих предмета, при виде которых мне сразу стало нехорошо.
– Я же говорил, забудешь, – сказал он, протягивая мне губные гармоники. – Смело на них играй, никто за ними сюда не придет.
Это был не единственный мой ночной трофей. У немца, которого мы приняли за доктора Леера, Ванюша вырвал-таки пиджак. Забрал и брюки. И все отдал мне, когда мы возвращались в лагерь.
– Ты первый немца увидел, – сказал мне Ванюша.
Пиджак я сразу же надел. Он висел на мне как халат. Но это только чуть уменьшало мою радость. Когда рассвело, на пиджаке и брюках рассмотрели ржавые пятна. Это была Ванюшина кровь. Пиджак и брюки он тянул порезанной рукой.
– Холодной водой замоешь, – советовал Ванюша. – Носи, не беспокойся.