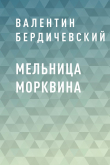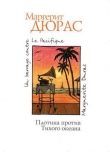Текст книги "Плотина"
Автор книги: Виталий Семин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц)
4
Это во мне и кричало! Летчик, который вместе со мной едва не отстал от поезда, уехал бы следующим. Госпитальную сестру все равно выпустили бы из комендатуры. И даже отец, пока комендант ему этого не сказал, не догадывался, что для меня есть только один выход.
Дыхание судьбы слишком тяжело, чтобы ощущать его непрерывно.
В тот город, в котором отец меня нашел, нас везли через Берлин.
На берлинских улицах водители наших грузовиков останавливались, чтобы узнать дорогу, а мы выпрыгивали из кузовов, рассматривали развалины. Все мы переживали чувство невесомости, не знали, куда везут, были заняты своим, но берлинские развалины поражали и наше привычное воображение. Артиллерийские мы отличали от авиационных, узнавали натеки копоти от пожаров. В этом мы стали специалистами. Знали, где много разрушений – мало людей. Гибнут люди или уходят – кирпичное крошево становится пустыней.
День был жаркий, августовский, гимнастерки солдат выбелило солью. Над берлинскими улицами стояло марево, а сквозь память что-то упрямо проступало. Какие-то поблескивающие стекла, мостовые, сиреневый дым между домами.
Может, осенью сорок второго года вот эти улицы промелькнули перед моими глазами. С высокой железнодорожной эстакады, по которой шел поезд, были видны закопченные паровозным или фабричным дымом дома, четкая брусчатка мостовой. И все лоснилось, смоченное мелким, не останавливающим движение дождем.
И в этом сиреневом дыме, мелком дожде, промышленном нагромождении жилых домов и фабричных зданий, в поблескивающих стеклах и плащах было несомненное ужасное единство.
«Берлин», – прочел или догадался кто-то, и это обрубило все.
За стуком эшелонных колес надежда наша давно перестала поспевать. Но самое ужасное было в том, что город этот действительно существовал. И ни одного метра железной дороги нельзя было вернуть, чтобы он опять ушел из моей жизни. Не потерей надежды – потерей самой судьбы это было.
В вагоне нас больше сорока. Но и на миллион свою вину не разложишь. А от общей потери только тяжелее.
Сколько сил я потом затратил, чтобы вернуть себе власть над собственной судьбой! Но вот мы опять едем через Берлин, город разрушен, а соединения с собственной судьбой не произошло. И это чувствуют в нас даже самые молодые солдаты в выцветших гимнастерках. Даже те из них, которые попали в Германию уже после войны…
Из городка, где нас застало освобождение, первыми уезжали французы. Они начали готовиться к этому сразу же после того, как немцы были выбиты. На главной улице стояли изуродованные, сожженные, выведенные из строя машины. С ним-то французы и начали возиться. Оказалось, что не вся эта техника безнадежно испорчена. И однажды колонна автомашин тронулась на запад.
Французы где-то раздобыли духовые инструменты, машины украсили цветами, оркестр играл что-то бравурное, а у меня было щемящее чувство упущенной возможности, зависти к простоте, с которой решается и такая проблема. Был даже какой-то страх. Упущенные возможности – это ведь недостаток чего-то. Повторившись, они опять могут оказаться упущенными.
И возвращение домой будто отдалилось, а не приблизилось после отъезда французов. Тогда и явилось ощущение судьбы. Кому выпало уехать, тот уехал. А нам надо ждать.
Потом удивили поляки. Прошел слух, что они едут в Канаду. Мне всегда казалось, что поляки держатся замкнутее нас. Значит, более привязаны друг к другу и к дому. Было непонятно, как они решились и почему в Канаду. Но еще больше потрясло, что после стольких лет такой разлуки они решаются уехать от дома еще дальше. И никаких разъяснений нельзя было получить, потому что не было разъяснений, которые хоть как-то могли нас удовлетворить.
В ходу были такие разговоры:
– Дали бы миллион, остался бы?
– Ни за какие миллионы!
Никто, конечно, не предлагал, но дело было не в ограниченности нашей фантазии. Ничего не могло противостоять тяге домой. Не оставались даже те, кому ехать было до первого нашего пограничника, до первого офицера фильтрационной комиссии. Кого от возвращения домой должен был удерживать инстинкт самосохранения. По больным глазам этих людей было особенно заметно, что это за тяга.
Косоглазому власовцу в первый же день освобождения надели на шею блестящую бляху немецкого жандарма. Пообещали:
– Снимешь – убьем!
Дня два носил он на груди эту железку, а потом сбросил. Вначале его не трогали, потому что он словно сам подставлялся под руку – лез туда, где больше людей. Потом его перестали замечать или отталкивали раздраженно: «Да отойди ты!» Зеленую свою форму он сменил на серые брюки и пиджачок. Ждали, что теперь уйдет из лагеря. Но он не уходил.
И постепенно удивление – не ушел еще! – стало переходить в некое смутное чувство, некое ожидание. Никто ведь не сторожит, не удерживает. Неужели не чувствует, как накапливается на нем обреченность? Или – странно! – сам на нее идет.
Он, конечно, валял дурака. Но от чего это спасает? И вокруг него и еще двух-трех таких же образовывалась пустота. С каждым днем она становилась все устойчивее, все тверже, и все меньше было желающих переступить ее черту.
Они не общались друг с другом, не пытались сбежать и вообще как-то уклониться от судьбы, словно были парализованы ею. И вид бесполезного заискивания перед судьбой, завороженности ею был так тяжел, что никто их и не трогал. Хотя желающих «тронуть» не надо было искать. Они находились сами.
К моему смущению и удивлению, скоро и косоглазого власовца захотелось защитить от тех, кто увязывался за ним, пинал, следил, чтобы не снял шутовской жандармский жетон. В ослепительной вспышке страстей, которую вызвали первые дни свободы, жажда возмездия и природная жестокость на минуту совместились. Но мы хорошо знали друг друга. Ночью в нашем бараке со звоном разлетелось окно. Что-то грохнуло об пол. Кто-то зажег фонарик, и тут же раздался крик:
– У кого есть сигареты?! Сейчас начнем обыск.
На полу валялся топор, его кидали в темноту, и только чудом он никого не задел. Это был подарок блатных.
Жестокость грозила лагерю, а не только власовцу.
Утром узнали, что той же ночью в женский барак нагрянули американские солдаты. Привел их голландец, работавший на горячих вальцах «Вальцверка». Солдаты и голландец были пьяны.
Было почему-то особенно досадно, что наводчиком оказался именно он. Силой и красотой голландца все восхищались. Да и дружелюбным он казался. Память на это дружелюбие и обжигала.
Я и сам дал захватить себя страстям тех дней (говорю «дал», потому что было во мне нечто, сопротивлявшееся им. Но у страстей был ясный язык: «Тебе что, эту власовскую суку жалко?» А у того, что сопротивлялось, как будто и не было слов).
Из окна барака я высовывался с винтовкой и целился в немцев, идущих по мосту, под которым был наш лагерь. Это была мстительная игра. Винтовку заметили, и обращенная к лагерю сторона моста опустела. Игра требовала какого-то продолжения, когда наверху показалась воскресно одетая семья. Немец в зеленой шляпе с пером, немка в светлом пальто и мальчик в белых гетрах. Им крикнули или они сами заметили, но мать и сын шарахнулись в сторону, а немец в шляпе, окаменев от вызова, продолжал идти…
Болельщики были, конечно, и у немца, и у меня. И палец на спусковом крючке одинаково давило внимание и тех и других.
Несчастную свою глупость я в этот момент понимал прекрасно. Видел, что немец выдержит до конца. И не знал, как выйти из игры.
В те сумасшедшие дни все могло случиться. Память на то, как мальчики в белых гетрах бросали в нас камни, а женщины в светлых пальто не останавливали их, была слишком свежа. К тому же еще шла война, а немец вел семью на прогулку в холмы – на ту сторону моста по воскресеньям ходили гулять.
Три года натягивалась пружина. Была потребность не просто сбросить унижение, а дать знать об этом городку, который окнами домов все эти годы сверху смотрел на нас. И возмущенные крики мальчишки в белых гетрах и немки в светлом пальто действовали на меня совсем не так, как можно было бы предположить.
Не крики спасли меня от выстрела. Я затеял игру блатных, а сам их ненавидел так же, как полицаев.
Когда блатные первыми принялись за власовца, я подумал, что в эти дни и их проняло. Но зло кивало на зло. У них были другие цели и страсти. Власовец оказался только доступнее остальных.
Вот какая мысль омрачила радость тех дней. Зло и не догадывается, что его разгромили на поле боя. Оно тут как тут. И звать не надо, само наготове.
С того момента, как я попал в эшелон, ненависть моя между полицаями и блатными делилась поровну. Блатные были лагерной сверхтяжестью. Как кровососущие насекомые, они ни на минуту не давали забыть, где мы находимся. Их не умеряло ни общее горе, ни чья-то болезнь. И дело не в том, что однажды побили. Побои были хуже полицейских. Противоестественней.
Блатная жизнерадостность расцветала на несчастье. И главным в ней было предательство. В сорок втором году его невозможно было не ощутить.
Это было сознающее себя предательство. Веселящееся этим сознанием. Предавались не только родина и ближайшие товарищи, но и главные законы жизни. В этом замахе и было блатное веселье.
Поражения и победы на фронтах никак не меняли их отношения к жизни.
И все утверждалось, доказывалось или подкреплялось невероятной жестокостью. То, что не было подкреплено жестокостью, в глазах блатных как бы не имело цены.
Формировала ли этих людей лагерная жизнь иди в лагерь они попадали уже блатными, но они очень быстро находили друг друга. Мгновенное это узнавание было их отличительной чертой. И не писать о них можно было бы только в том случае, если бы они не занимали так много места в той нашей жизни.
Иногда мне казалось, что таких, как Соколик, держат в плену противоестественные мысли. Увы! В лагере я узнал, что мысли эти распространены, что и по ним люди находят друг друга и даже быстрей сколачиваются в компании.
Странные это были компании. Взаимное унижение должно было их взрывать. Но от вспышек жестокости, от непременного взаимного унижения они только укреплялись. И это подростков и притягивало. Вспыхивала, казалось, не жестокость, а оскорбленная честь. Именно она вслепляла в такой вспышке. Казалось, человек той же мерой предлагает измерять и свои поступки.
Здесь-то и был вызов! И когда я вел винтовку вслед за немцем, надеясь, что он все-таки испугается, я понимал, что палец на спусковом крючке напрягается не только от жажды расквитаться, дать немецкому городку почувствовать унижение, которому нас подвергали три года, но и потому, что в эти радостные и сумасшедшие дни я заразился той самой жестокостью, которую сам же ненавидел. И удержать меня от нее может лишь то, что есть во мне самом.
Но за мной следили. В глазах Костика не было любопытства. Он давно научился вытравлять его из глаз. Костик смотрел так, будто его утомила возня с немцами, идущими по мосту, и он на время доверил винтовку мне. И снисходительно ждет, когда же я выстрелю.
– Сука! – сказал он о немце. – Гитлеровские усы не сбрил! – и усмехнулся презрительно. Отмерил снисходительность, с которой ждет от меня выстрела.
Нарочитое равнодушие Костика раздражало меня. Оружия в руках не держал, не стремился его добыть, глаза только научился делать ледяными, но и это давит на меня.
Колька, по прозвищу Блатыга, высунувшись из окна, кричал немцу:
– Пацырь! Дрюкки порум! Дрюкки шнорум!
Никто из нас не поручится, что на самом деле есть такие слова. Блатыга работал с голландцами и принес словечки в лагерь. Считалось, что это особо оскорбительные голландские ругательства. Произносить их надо, выбрасывая руку вперед. Блатыга и грозит немцу кулаком.
На носу у Кольки темные очки. Он глядит поверх стекол. Манжет рубашки охвачен ремешком наручных часов, которые Блатыга уже где-то раздобыл. Брюки подвернуты и заправлены в носки. Фикса у Блатыга довоенная. Чтобы она была на виду, он постоянно презрительно кривит губу.
За эту привычку он и получил прозвище. Но только теперь видно, как он его оправдывает.
– Положи его! – кричит он мне. – Чтобы не ходил!
Совсем недавно Колька лишь для смеха откликался на свою кличку. И коронка на зубе не казалась фиксой. А теперь запенилась слюной.
Только что он разбил грузовик, на котором в первый день освобождения мы приехали в лагерь. Я услышал крики, увидел двигающийся рывками «ЗИС», разбегающихся людей. Потом грузовик скрылся за бараком, опять появил'ся на горке и врезался в бетонную стойку лагерных ворот.
Всем было жалко грузовик, но Блатыге дурацкий этот подвиг прибавил сил.
Его всегда отличали широкие плечи и жизнерадостность. Да еще уверенность, что удача выпадает удачливым. Нас истощала фабрика, а он на работу и с работы ходил один – был грузчиком у немца, владельца грузовика. Почти все такие машины мобилизовала армия, а хозяину Кольки повезло – его оставили в распоряжении городских властей. Немец в рассказах Блатыги был чем-то похож на самого Блатыгу. Сын к нему приехал с фронта в отпуск на две недели и тоже оказался весельчаком и ругателем. Получалось, весь отпуск потратил на соревнования с Блатыгой в ругательствах и физической силе.
Главный выигрыш Блатыги у судьбы был в том, что работа оставляла ему охоту для соревнований. Энергия эта светилась в Колькиных глазах.
Нас угнетало лагерное и фабричное однообразие, и Колькины поездки с немцем шофером казались роскошью. Но чем веселей и хвастливей были Колькины рассказы, тем больше мы удивлялись, почему хозяин не учит Блатыгу своему ремеслу. Проездить столько времени на машине и не уметь ее водить – это было понятное всем унижение.
– Обещал! – хвастал Колька.
Но теперь было ясно, что хозяин ни разу не сажал Блатыгу за руль. А Колька, уцелев в катастрофе, настроился на что-то большее.
– Дай ему! – кричал он мне.
Щеки его раздулись. Губа над фиксой дрожит, как у волка. Раньше он ее задирал, чтобы напроситься на кличку, которая чем-то льстила ему. Теперь он настоящий Блатыга. Это видно хотя бы по тому, как он меня заводит. Не берет винтовку сам – ищет дурнее себя.
Эти дни всех нас поменяли.
Колькин час пробил, когда полупереодевшиеся, нервничавшие солдаты сгоняли нас к насыпи перед мостом, а лагерный полицейский, который привел их, вызывал:
– Кто понимает по-немецки?
Брюки у Кольки были по-клоунски заправлены в носки. Цепочка свисала из брючного кармана. Темные очки он уже где-то раздобыл. Мы все примерно одинаково понимали по-немецки. Но шагнул вперед Колька.
– Я! – сказал он.
Солдаты, которые видели его в первый раз, и полицейский, который знал его, что-то заподозрили. Но они торопились.
– Две минуты! – истерично стучал по часам полицейский. – Оружие сдать! Через две минуты стреляем! Блатыга поглядел поверх очков.
– У кого оружие, приготовьтесь, – сказал он.
Освещенный солнцем, в дурацких очках, в клоунски заправленных брюках, он паясничал под направленными на него винтовками.
Таким он запомнился не мне одному. За эту фразу об оружии ему и простили разбитый грузовик. Правда, когда все бросились за убегавшими солдатами, Колька остался на месте. Блатному не положено делать то, что делают все.
Когда ночью в наш барак влетел топор, я различил Колькин голос. Блатыга требовал сигарет и грозил обыском…
– Пацыр! – сказал он мне, заметив, что я не решаюсь выстрелить в немца.
5
В сорок первом году, уходя в армию, отец оставил запертым один ящик письменного стола. Стол был с массивными тумбами. В них хранились бухгалтерские справочники, конторские книги, американские журналы с фотографиями счетных машин на толстой глянцевой бумаге. Когда в квартире гас свет, отец на ощупь лез в верхний левый ящик, доставал огарок свечи, отвертку, волосок расплетенного электропровода и направлялся к щиту с пробками. Ящик этот, естественно, интересовал меня, но центральный, запертый просто разжигал любопытство. Иногда мне удавалось заглянуть в него. Отец сам показывал большую готовальню, логарифмическую линейку, коробку из-под канцелярских кнопок с набором перьев «рондо», складной нож в замшевом чехольчике. Ручка ножа была из желтеющей слоновой кости. Почему-то отдельно от всех в этом ящике хранилась старая фотография: любительский оркестр. Пятеро мужчин в косоворотках навыпуск с балалайками в руках. В одном из них улавливалось сходство с отцом. Однако сам я этого сходства не заметил бы.
– Твой родной дядька, – со странной усмешкой сказал мне отец. И, увидев, что я жду объяснений, добавил: – Мой брат. Старший. Во Франции живет.
Странная усмешка и относилась к этому «во Франции».
Но меня поразила даже не Франция, а балалайка. Франция далеко, но балалайка в каком-то смысле может оказаться еще дальше. К тому времени я довольно бегло играл на фортепьяно и даже благополучно переходил из класса в класс музыкальной школы. Но именно из-за ежедневных музыкальных занятий, к которым мать принуждала меня, я рано догадался, что есть нечто, чего никаким прилежанием не достичь. Отца я себе с балалайкой представить не мог. И потому спросил, был ли дядька способным.
Отец удивился. Он ничего об этом не помнил.
– Может, фотографировался за компанию, – сказал он.
Во Францию дядька попал с русским экспедиционным корпусом в империалистическую войну, женился на француженке и не стал возвращаться домой. Теперь я вглядывался внимательнее. Когда против воли везут, и во Францию попасть легко. Но, чтобы жениться на француженке, надо убедить ее, что ты лучше знакомых ей мужчин. А как этого добиться, не зная французского языка? И я вглядывался в фотографию, на которой человек, отдаленно напоминавший отца, сжимал балалайку привычной рукой.
Заметив, что возбудил мое воображение, отец сказал:
– Ты об этом… не очень… распространяйся.
– Почему? – спросил я и сразу вспомнил, что о заграничном родственнике до сих пор ни от отца, ни от матери не слыхал.
– По-разному можно истолковать, – сказал отец. – Люди разные.
И опять запер фотографию.
Когда отец ушел в армию, этот ящик и остался закрытым. Ключ от него лежал там, где хранились свечи и слесарный инструмент. Шла война, город бомбили, а я никак не решался нарушить отцовский запрет.
Увы! В ящике, когда я его открыл, в том же порядке лежали готовальня, утратившие для меня интерес перья «рондо» и ножик в чехольчике, лезвие которого оказалось сломанным. Дохнуло на минуту отцовским запахом, но и это рассеялось.
В наш дом попал снаряд, в город вошли немцы. После конторских книг на подтопку уходили американские журналы. Я сам стал от матери запирать в ящик гранаты РГД, запалы от гранат, четырехгранный штык. Но каждый раз, когда я поворачивал ключ, руке что-то передавалось.
Среди того, что вернула память, когда я увидел отца под Берлином, было и смутное чувство вины. Я удивился, когда догадался, в чем дело. После трех каторжных лет мне и в голову не приходило, что я так связан с собой довоенным. Я ведь изо всех сил отбивался от того слабого, презираемого, не знающего жизни мальчишки и только по ночам давал ему волю. Да и какое значение после всего мог иметь тот давний отцовский запрет! Не то что стола – нас самих могло не быть на свете.
Отцовская глуховатость всегда у меня как-то связывалась с тем, что отец знает о жизни. Теперь у меня не было сомнений, что я знаю больше. Но, словно давний запрет не утратил силы, наши отношения складывались так же, как и до войны.
Не мог я, например, рассказать ему о том, как целился в немца, как в ночь перед тем с Костиком, белорусом Саней и Василием Дундуком воровали кроликов.
Клетки с кроликами я давно заметил метрах в пятистах от лагеря на пустыре рядом с сараями. Риска не было никакого, но я взял с собой пистолет и все время держал его на взводе, пока Василь и Саня ломали клетки, а Костик подавал советы им и мне.
Свой парабеллум с легкостью, к которой я так и не мог привыкнуть, дал мне Ванюша.
– Приятелей своих позови, – сказал он, когда я предложил ему сходить вместе. – Костика, Саню… как его… Дундука. Сами сходите.
Это было как раз то, что мне хотелось самому.
– Тогда дай свой пистолет, – сказал я.
Когда ждешь заведомо отказа, просить нельзя. Но я не удержался. Я ждал, Ванюша скажет: «Ни к чему это». Или: «У тебя свой есть». Или что-то в том же роде. Но он встал из-за стола, сунул руку под матрац, протянул:
– Возьми.
Пронзительная эта легкость всегда была для меня каким-то упреком. Она казалась болезнью, роднящей Ванюшу с Москвичом. Тот тоже, не глядя, через плечо отдавал окурки, сигареты каждому, кто попросит. И Ванюша не знал затруднений, естественных для других. Была тут для меня какая-то обида. Я с таким напряжением решался попросить, а он так легко отдавал, что напряжение выпадало в душевный осадок. Не давала мне покоя одинаковая непривязанность к своим вещам этих двух разных людей.
Москвича, казалось, она унижала. Когда ему везло, он на всякий случай заискивал перед всеми и перед судьбой. Так думал я и понимал, что это не вся правда. К Ванюше же она не имела никакого отношения. Москвич чаще протягивал руку, чтобы попросить, чем для того, чтобы дать. Ванюшу просящим я не видел никогда.
Его даже дележка хлеба не возбуждала.
– Живот меньше, чем у других, – объяснял Ванюша это своим ранением. И если кто-то, завидуя или шутя, говорил, что ему выпал большой кусок, Ванюша тотчас предлагал: – Меняемся!
Вначале это казалось блатным высокомерием (и что-то, наверно, тут было). Потом вызывало ревность. В лагере были специалисты просить. Их узнавали по вкрадчивости, по липучести, по тому, как тянули руку ко рту закурившего или получившего окурок, по нечувствительности к упрекам. Покурив в одной компании, они тотчас переходили к другой.
– Убери руку! – говорили им.
Они продолжали тянуть или многозначительно продували пустой мундштук, пока раздраженный человек не отдавал окурка.
На них очередь курящих всегда обрывалась. За ними не занимали – брезговали.
Может, их сжигала какая-то болезнь. Такой голод всегда был в их глазах и так жадно втягивались их щеки, когда они дорывались до окурка.
Об одном из них говорили, что он дым пускает глазами. И правда, когда курил, голубые, навыкате глаза его задымливались.
Ванюша не отказывал и таким.
– Откуда ты знаешь, – говорил Ванюша, когда я его убеждал, что он делится с недостойным, – может, я хуже их.
– Брось ты! – возмущался я, а Ванюша смотрел на меня своим невыносимо пристальным взглядом и добавлял:
– Или ты.
Я старался вспомнить, чем перед ним провинился, пугался и умолкал. И потом никогда не мог разобраться, шутил Ванюша или говорил серьезно. Я даже специально присматривался к попрошайкам. Но отвращение к мужчине с задымливающимися глазами, к его развинченной походке, безотчетный страх перед самим его приближением, перед пустотой его глаз мешали мне хоть как-то понять Ванюшу. В голубых, навыкате глазах жизнь вспыхивала только в тот момент, когда попрошайка догадывался, какое отвращение внушает. Человек, казалось, торжествовал. Тянул руку к чужому рту, и окурок ему отдавали, как отмахивались. Но он не уходил. Вставлял окурок в мундштук и, неприлично всасывая щеки, затягивался.
Эти люди обладали проницательностью на слабость и доброту. Настойчивость их не ослабевала, пока можно было что-то выпросить. Я ревновал, считая, что Ванюша жертвует моими интересами.
– Ты на минуту задумайся, а потом отдавай, – говорил я ему.
Ванюша смеялся.
– Подумаю – не дам. Я жадный. Лучше не думать.
За три года я прочно усвоил, что всем оставляют докурить, добытым сверх пайки делятся с друзьями, попрошаек гонят, а высокомерие вроде Ванюшиного «Меняемся!» позволяют себе по праздникам.
Костику, Дундуку, мне или другим малолеткам такие праздники почти не выпадали. Мы были недобытчиками. Костик к тому же не курил, но никогда не упускал случая сказать попрошайке: «С длинной рукой под церковь!» Мне тоже этими же словами хотелось отшить того, с задымливающимися глазами. Но было в этих словах такое, обо что самому можно обжечься. Будто на себя же накликал. Словно открывался предел, за который я из страха не давал себе заглядывать, за который мне чудом удавалось не переходить.
Но я так часто и так близко к нему подходил, что давно догадался: за тем пределом главный источник душевных бед и доблестей. Споря с Ванюшей, я завидовал ему. Я бы завидовал и Москвичу, если бы он был другим человеком.
Однако пистолет не был обыкновенной вещью. Его нельзя отдать, не передав с ним слишком многого. Мне нужны были остерегающие или ограничивающие слова. Я это почувствовал, потому что они не были сказаны.
Я, конечно, хотел похвастать Ванюшиным доверием перед Костиком, Саней и Дундуком.
За день перед тем Колька Блатыга и его дружки избили Ивана Шахтера.
Это был длинный унылый человек лет тридцати. Прозвище он получил за темное, в пороховых крапинках лицо, за вечно грязную шею. Лежа на матраце у себя на втором этаже, он незлобно отбивался от тех, кто упрекал его в нечистоплотности.
– Не смывается. Уголь! Я же в шахте работал.
– А умываться пробовал? – оттачивал кто-нибудь на нем свое остроумие.
– Так что пробовать? – лениво отзывался Иван. – Это же антрацит.
– А с койки чего не встаешь?
– А на что силы тратить?
Ему на койку приносили докурить, сюда же приходили, чтобы взять «бычок».
И в выражении его лица и в фигуре была та же унылость, которую острякам не терпелось растревожить. Однако, если очень донимали, унылость его исчезала и становилось видно, что это крепкий и нетрусливый человек. Не я один позавидовал, когда в первый день освобождения увидел в его руках большой офицерский «вальтер». Иван принес его после того, как бегал догонять немецких солдат, врывавшихся в лагерь. Днем Иван охотно показывал свой пистолет, а на ночь спрятал его не в бараке, а под крышей лагерной уборной. У всех остались опасения, что ночью кто-то придет и обыщет.
За этим «вальтером» блатные к нему и пришли. Ивана вызвали из барака. Блатыга ему сказал:
– Покажи ватаргу!
Иван не понял. Он не знал, что это воровское слово означает пистолет.
Блатыга закатил истерику:
– Пропала ватарга, а он неграмотного корчит!
Тщеславное желание этих ребят считать себя шпаной Иван знал давно, но удивления преодолеть не мог. Он удивлялся темным Блатыгиным очкам, брюкам, заправленным в носки, клоунским манерам его дружков. Все-таки это были старые знакомые, и Шахтер попытался объясниться. На него закричали:
– Кончай темнить!
Тогда он повел их к тайнику, достал «вальтер», показал Блатыге. Тот закричал:
– Мой!
На Ивана бросились разом. Никто Блатыге не поверил, но выворотная жестокость не могла не ошеломить. Нормальному человеку трудно представить, что бьют потому, что дорвались.
– Это не все! – сказали Шахтеру. – Мы тебя умоем!
Витек (все они звали друг друга уменьшительными именами), за блеклость волос и ресниц прозванный Сметаной, пригрозил нам:
– Берегитесь, падлы! У меня тоже такая машина пропала. Лучше сами отдайте!
Мне бы выпалить в его блеклые глаза – в кармане у меня лежал револьвер-гирька. Но ведь и Шахтер только что держал в руках пистолет, из которого мог перестрелять всю эту сволочь. Не было у меня доказательств, что Блатыга врет, но ведь и сомнений не было. Колька брал на воровскую наглость: «Ты видел?!» Все знают, что хуже всех будет тому, кто вмешивается, когда не трогают его самого. Да не в этом дело! Разве можно выстрелить в своего на том же самом месте, где всего несколько дней назад немецкие солдаты едва не перебили нас всех! Ведь это Блатыга вышел тогда вперед. К тому же он мой приятель. Он и сейчас не отказывается. Вертя в руках отнятый у Шахтера «вальтер», светит мне фиксой. Ему и в голову не приходит, что сердце мое отбивает: «Выстрелить – не выстрелить!» И каждый удар выпадает в душевный осадок. Мы ведь останавливаемся там, где блатные не оглядываются.
Пистолет Блатыга не просто крутит в руке. Как бы ненароком направляет на кого-то из нас.
– Шахтер, – говорит Блатыга Ивану, – тебе же он все равно не нужен.
Блатыга доволен и готов что-то смягчить, но дружки распалены его удачей.
– Опусти руку! – говорю я, когда Сметана опять замахивается на Шахтера.
Сметана поворачивается ко мне, но Блатыга останавливает его:
– Хватит!
Блатыге надо закончить с Шахтером и указать Сметане его место. Он учитывает, что я дружу с Ванюшей, хожу к военнопленным, которые еще неизвестно как на все посмотрят. К тому же он навешивает на меня должок. Такие уступки блатные ценят дорого.
Главная блатная добродетель – жестокость. Оправдывая свою кличку, Блатыга пожалеть Шахтера не может. Он может «уступить» его мне или Сметане. Тут все навыворот. Меня Колька уже не вправе «уважать». Однако сейчас ему так выгодно повернуть.
Нормальному человеку кажется, что жестокость не просуществует. Что совесть и ум не потерпят ее рядом с собой. Но главный обруч, скрепляющий блатных, названная жестокость. Не в один день я это узнал. О «блатных» законах слышал и раньше. Но думал, что это уличная болтовня. Преступления совершаются из жадности и из злобы. Опасных размеров злоба или жадность – такое же уродство, как горб. У кого-то он есть. И ничего с этим не поделать. Но у других-то нет! Однако у Костика, когда он прибивался к блатным, уродства я не замечал. У Блатыги тоже. Их тянули «блатные» законы, «права».
Как это могло быть, я не понимал. Я чувствовал злобность Соколика, которую тот сам сдерживал, злобность Сметаны. Но ни Костик, ни Блатыга злобными не были. Они учились злобности. Зачем это слабому Костику, еще можно догадаться. Но зачем злобному смешливому здоровяку Блатыге?
Не в первый раз блатные обижали людей, не в первый раз я об этом думал. Но случай сейчас был особый. Лагерные репутации создаются не в один день. Они никуда не записываются, но не становятся от этого менее прочными. Иван Шахтер, несомненно, был уважаемым. Не сразу и разными путями попадают в это число. Но и выпадают из него редко. Некоторые странности Ивана делали его еще и симпатичным. А это много значит. Иван позволял смеяться над собой. Однако пределы смеха определял сам.
Как сказали бы теперь, он был составной частью лагерного фольклора. Он был из тех, кто делал нашу жизнь немного веселее. Блатыга, Сметана и их дружки знали это прекрасно. Им ведь тоже от этой веселости перепадало. Возможности и пределы своей репутации человек в лагере ощущает довольно точно. И другие тоже ощущают эти возможности. На такого человека, как Шахтер, блатные еще не замахивались.
Тут было еще одно. Блатыга, Сметана могли искать оружие, там где его взял Иван, но предпочли отнять у своих.
Их лихости и мстительности, казалось, сейчас было где развернуться. Может, впервые людям этого типа история дала несколько дней для проверки легенд, которые они сами о себе создают. Выпал случай показать, что за душой у них есть хотя бы примитивное деление на своих и чужих, а не только похотливая жадность и злоба. Когда они в первый день свободы принялись за косоглазого власовца, я подумал, что на очереди комендант и полицаи. Но ни Блатыга, ни Сметана не спешили выходить за лагерные ворота, хотя теперь они были открыты.