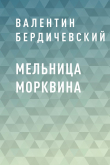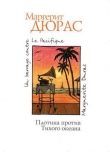Текст книги "Плотина"
Автор книги: Виталий Семин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 10 страниц)
– Господин комендант говорит, что ты уже не работаешь в литейном цеху. Что ты там делал и откуда у тебя картошка?
– Товарищ дал, – сказал я, отчаянно увеличивая количество опасной неправды.
– Камрад, – перевела Светлана.
Я услышал крепнущий от раздражения голос коменданта:
– Какой камрад?
– Из литейного цеха, – сказал я, – не знаю, как зовут.
Светлана переводила «не знает», «литейный», а я надеялся, что ей станет страшно за меня, она скажет что-то вроде «он болен», «истощен» или «я его давно знаю». Но она вторила коменданту. Слова она перевести не могла – переводила мимику, интонацию. Это было особое переводческое щегольство. Вначале я невольно на нее рассчитывал, хотел все объяснить и попросить совета, но вовремя удержался.
– Господин комендант, – сказала она, – говорит, что у многих русских ожоги на руках и ногах. Он спрашивает, откуда так много ожогов?
– Не знаю, – сказал я, – У меня освобождение из-за температуры, а не из-за ожога.
– Температур, – перевела Светлана, и я почувствовал, что впервые соврал удачно.
– Какая температура? – спросил комендант.
Я сказал, что около тридцати девяти, и почувствовал, что выныриваю, что, кажется, на этот раз обошлось, комендант, который до этого сидел, все более наклоняясь вперед, словно готовясь вскочить, откинулся на стуле назад. Повторяя его движение, Светлана закинула ногу за ногу, и я воочию увидел, как пополнели ее ноги. И тесный шелк, и обнажившаяся полнота, и забытая поза, в которой я давно не видел ни одной русской женщины, всё было незнакомым, как оживление после разговора, который я прервал своим появлением. Никакого оживления не могло быть – для этого они слишком плохо понимали друг друга.
Светлана была года на три старше меня. Девчонкам в нашем классе классная руководительница делала замечание, если они садились, закинув ногу за ногу. Среди маминых знакомых, закинув ногу за ногу, садились обычно курящие родственницы. Об этом говорилось с таким же выражением, как и о том, что они курят. Поза Светланы показалась мне такой же вызывающей, как и сигареты и шелковые чулки. Все было не свое, как и должность переводчицы. Сменится комендант или ему надоест ее плохой немецкий язык, и ее тотчас отправят на фабрику. Ожог тогда останется у нее от шелковых чулок.
Но самым безнадежным было то, что она не одна, а с матерью. Позор не делился на двоих, а стократно усиливался тем, что был семейным. О старшине Гришке можно было думать, что где-то у него добрая жена, мать или дети. Он их позорит, но тут нет безнадежности, потому что они ни при чем и за него не отвечают. О нем легче было думать, чем о Светлане и ее матери. Однако до всего этого мне не было бы никакого дела, если бы Светланин позор какой-то стороной не задевал меня. Это было первое, что я почувствовал, увидев ее за комендантским столиком. Словно мне рассказали, что я во сне или в беспамятстве совершил что-то непоправимое. Или стал сообщником совершившего непоправимое. Мысли мои о Светлане никогда не были серьезны. Так же мечтательно, как о ней, я мог думать о других взрослых женщинах. Мне было бы стыдно, если бы они догадались, как я думаю о них. Но если бы об этом догадался Костик, стыдно не было бы. А тут я заледенел от страха, что кто-то в мужских бараках узнает о моих мыслях о Светлане. Коменданта и врача я боялся больше, но только потому, что разоблачения, которыми грозили они, были ближе.
– Господин комендант, – сказала Светлана, – отпускает тебя. Он говорит, чтобы ты шел в барак, быстрее выздоравливал и возвращался на фабрику.
Не глядя на меня, комендант кивал в такт ее словам. Потом коротко взглянул и, как бы закрепляя и подтверждая то, что сказала Светлана, спросил:
– Ны?
Я кивнул. Словечко было понятно и без перевода. Оно означало примерно: «Не так ли?»
Он отпустил меня не из-за ловкости моих ответов. Они казались мне такими неправдоподобными, что я ждал взрыва каждую секунду. Больше всего боялся быть избитым на глазах Светланы. Но, может, он не захотел бить именно на ее глазах. Может, запутался в плохом переводе или испугался заразности моей болезни. Блатыга отмахнулся бы: «Обошлось!» Я мог быть доволен собой. Лагерные уроки я усваивал – тянуть надо до последнего.
И не нужно доискиваться, почему обошлось. Надо отдыхать от страха. Потому что здесь страхи не отпускают тебя, а только перегруппировываются. Станешь искать – до настоящего страха докопаешься.
Я шел в барак и боялся, что кто-нибудь дознается о моих мыслях о Светлане. И через много лет этот страх не кажется мне смешным. Не было мыслей, которыми я не делился бы с Костиком. И, если меня посещали «нечистые» мысли, делился и ими. Мысль являлась сама. Тут было много удивительного. Она приходила ко мне, но от меня как бы не зависела. Значит, и принадлежала не только мне.
Другими словами, я проговаривался и раскаивался в этом потому, что Костик высмеивал меня.
Узнавая мои мысли, он получал власть надо мной. Проговорившись, я тут же просил: «Никому не говори!» Он посмеивался: «Ладно!» Или дразнил: «Скажу!» Только в этот момент я понимал, что мысль – мое продолжение. Тут было противоречие, с которым я не справлялся. Мысль являлась незваной. Я не ждал ее, не добивался, чтобы она пришла. Она могла прийти в очереди к Гришкиному раздаточному окну, на работе, во сне – в самый неподходящий момент. И в первую секунду радовала, удивляла или поражала меня. Меньше всего в это время я думал, что отвечаю за нее. И только в тот момент, когда делился ею с Костиком, понимал, что отвечаю за нее так, как если бы она была моим продолжением.
То, что я думал о Светлане, на что надеялся, и было моим продолжением.
К тому времени я уже мучился тем, что совершенно не защищен от нечистых мыслей. И наказывал себя тем, что рассказывал о них Костику. Я, конечно, не мог заранее определить, какие мысли нечистые. Но, когда они являлись, я по страху, что о них догадаются другие, сразу их узнавал.
Со страхом и неприязнью к себе я заметил, что мне не по силам поступки, которые полностью соответствовали бы моим же мыслям и чувствам. Ярость и ненависть слишком часто подводили меня к самому главному, чтобы я мог этого не заметить. Я упустил десятки случаев достойно погибнуть и, значит, жил недостойной жизнью. Ни малейших сомнений в этом у меня не было. Я был обязан убить фоарбайтера Пауля, но удерживался, хотя не ярость это уже была, а наваждение. Словно ждал еще большей ярости и большего наваждения. И не для того, чтобы вернее направить их против Пауля, чтобы самому легче было умереть.
Мысль о гибели была мне известна в самых разных оттенках.
Чтобы выжить, не надо ставить себе цели. Я пытался справиться с инстинктом самосохранения.
Не имело значения то, что ночами я еще звал маму и плакал от жалости к себе. Слезы не залечивали ран, которые я получал днем.
Ужас состоял в том, что днем происходило то, чего не могло быть, а я не мог признать это тем, что есть и может быть. С этой болью нельзя было жить. Ярость была только наиболее яркой вспышкой этой боли. Против лагерных и фабричных полицаев она была бессильна, но давала надежду победить страх. Не сладость мести представлялась мне, а сладость освобождения от боли.
То, что другим было не лучше, чем мне, ничего не меняло. Боль была такой силы, что от нее нельзя было отвлечься. К тому же я не знал, что испытывали другие. Костик смеялся, когда я предлагал ему вместе бежать: «Как ты дорогу домой найдешь? По шпалам?»
Когда я боролся с желанием ударить Пауля киркой, я боролся с наваждением отделаться от боли. Удерживал меня страх темноты. Я ждал, что боль вот-вот его пересилит.
Ужас состоял еще и в том, что боль не была бессловесной. И самые страшные слова не надо было произносить, потому что они были обращены к самому себе.
Такую боль нельзя перетерпеть или занянчить. Когда отливала ярость, я не испытывал облегчения, потому что приходило чувство вины.
Только что я боялся, что комендант и Светлана догадаются, как я обжег руку, отвлекался страхами и помельче, а главная боль не отступала ни на секунду. Как голод, она накопилась в мышцах и мозгу, текла по сосудам. Излечиться от нее можно было, только убив коменданта, полицаев или Пауля. Это была единственная чистая мысль. Все остальные были нечистыми.
Никакого значения не имело то, что я сам изуродовал себе руку и избавился от работы. Надо было решиться, чтобы причинить себе даже такую боль. С теми, кто на это не шел, я не стал бы прибедняться. Но сам-то знал, что это мелкая уступка тому, на что действительно надо набраться сил.
Как рассказать о том, как почти ничего не знающий о таких болезнях подросток заболевает ненавистью, как поражается тому, что от нее нет отдыха и что самый жестокий приступ может настичь, например, за баландой, когда ненависть смешивается со слезами и жалостью к себе?
На что же рассчитывали те, кто не просто возбуждал в нас ненависть, а доводил ее до болезни и заботился о том, чтобы болезнь не ослабевала!
Однако нечистыми были не только те душевные движения, которые вызывались страхом полной темноты и помогали выжить в невозможных условиях. Нечистым был интерес к Матильде и Светлане. Нечистой – симпатия к Альфреду. И вообще все то, от чего бы я охотно, избавился, не пустил бы в свои мысли. Но отвернуться от интереса к Матильде или Светлане, к Инге или Христе было так же трудно, как истребить в себе страх темноты.
И вообще оказывалось, что справиться с мыслями, которые я не звал, а потом долго отталкивал, не легче, чем преодолеть каторжную усталость или восторжествовать над голодом.
Нечистой была мысль, у которой не хватало силы заявить о своем появлении. Это было главным…
В бараке меня ждали кранки.
– Ну что? – спросили меня.
Я рассказал, и все вздохнули с облегчением. Здесь тоже не заглядывали далеко. Пронесло – и слава богу. О Светлане и не спросили. Ее никто и не знал.
В комнате кранков стоял сладковатый запах гниющей плоти. Сутки я не трогал повязку, которую наложила Матильда. Потом размотал бинт, снял марлю с мазью, а рану накрыл резиной. У всех таких кранков, как я, под бинтом была резина, а не марля с мазью. Под резиной рана не заживала. От этого и шел сильный запах гниения. Марлю с мазью возвращали на место, когда отправлялись на перевязку.
Гниющие раны – еще одна тайна, о которой знали многие.
12
В день освобождения вечером военнопленные позвали девушек за праздничный стол. Вспомнили, когда хлеб был нарезан, побежали в женский барак, кого-то привели, тут же знакомились. То есть все знали друг друга. Виделись на фабрике, в колонне, но все-таки знакомились в первый раз.
Соседка сказала:
– Тебя зовут Сергей.
Меня сжигали возбуждение и азарт этого дня, тревожила темнота за окнами барака, тревожила поллитровая кружка с ромом, которая по кругу приближалась ко мне. Я хотел рассказать Ванюше, как отбился от немцев, когда катил в лагерь добытую на фабрике пищевых концентратов бочку со смальцем, и не запомнил, как зовут соседку.
Стоя, как делали все, принял кружку и, выдохнув воздух, спешно пошел на улицу, чувствуя, что барачный пол с неприятной скоростью стал наклоняться. Но и проваливаясь с порога, испытывал недоверие к лагерной темноте. Слишком многое в ней накопилось, чтобы даже такое опьянение могло погасить тревогу.
А утром со страхом и стыдом узнал, что ночью в женском бараке побывали пьяные американцы. Ощущение было, как после разговора со Светланой, будто я во сне совершил что-то непоправимое. Недаром полицаи грозили: «Освобождения вам не будет!»
Солдаты знают или догадываются, за что с них не взыщут. Вот чем это обожгло. Их было человек десять, да и голландец не прятался. Не боялся быть узнанным.
Мы навидались насильников, не боявшихся, что их завтра узнают, и знали, что это означает. Это значило, что завтрашнего дня надо бояться нам.
А ведь ничто, казалось, не предвещало этого налета. Вчера американская танковая разведка оставила нашим раненым двух санитаров. До подхода моточасти они провели в лагере несколько часов. Правда, и танкисты, и солдаты на «джипах» не проявляли особого радушия. Но ведь они ехали туда, где стреляют. И хотя холодок, идущий от вооруженных людей, замечается и запоминается, мы могли его понять. Нам не мешали толпиться вокруг открытых машин, удивляться белым пятиконечным звездам на дверцах, ветровым стеклам, откинутым на капот, тому, что из-за одинаковой формы нельзя понять, кто офицер; что солдатские каски как две капли воды похожи на наши, но самих касок две: металлическая и пластмассовая. И не поймешь, легкая нижняя каска на солдате или тяжелая верхняя.
Это были враги наших врагов. Нам не хватало ответа на наше ликование, радости одинакового понимания смысла войны. Но ведь нас самих и нашу войну они знали слишком мало. Достаточно было того, что с их приходом открылись лагерные ворота.
Конечно, нам пришло в голову, что ночью в лагере побывали американские блатыги и сметаны. Но слишком много угроз шло от недавнего прошлого, слишком густо было растворено в воздухе насилие и слишком много мы в нем знали, чтобы забыть другие возможные его причины.
На следующую ночь девушки выносили матрацы на улицу. Прятались и на третью ночь, не хотели ночевать в бараках. Не спали и мы.
Лицо у Костика было осунувшимся и загадочным, когда он спросил меня:
– Соньку знаешь?
– Да.
– Предлагала ночью лечь с ней.
– Сама?!
– «Будешь делать что хочешь…» – усмехнулся Костик. – Говорит, американцы не трогали тех, с кем на койке был парень. – И Костик повторил заставившие его осунуться слова: – «Будешь делать что хочешь, только ляг со мной».
– А ты?
Костик стал еще более осунувшимся и загадочным.
– Зачем она мне нужна? Стасик ее позорил…
Я понял его смущение. Он не решился принять предложение, которое никогда не повторится, потому что не повторятся эти события.
Мое сердце ухнуло. Предложили Костику – могут предложить и мне. Никто, однако, не предлагал.
Следующие две или три ночи прошли тревожно. Но никто нас не трогал. Надо было привыкнуть к мысли, что и у американцев есть солдаты с уголовными наклонностями. Однако, когда в лагерь вдруг явился комендант, мы это невольно связали с ночным налетом. Нам труднее было поверить, что он просто выполнял американский приказ: «Всем явиться к месту работы».
Ночные дела правдивее дневных – вот о чем говорит наш опыт. Мы не сразу растерзали коменданта и даже помедлили, прежде чем его схватить. А когда американцы приехали его выручать, мы опять подумали о ночном налете.
И, когда нас из городского лагеря перевели на гору, в бараке бывшей эсэсовской охраны радиостанции, мы опять думали с опасением: удаляя от города, не готовят ли нас к новой, куда более суровой ночи? Мы ведь знали, что может быть. Нет ничего, о чем с уверенностью можно было бы сказать: этого не будет просто потому, что не может быть.
Опасения тенью шли за опьянением свободой. И усиливали жажду расплаты, желание расквитаться, которое куда-то отодвинулось, пока у нас перед нашей совестью возникали новые долги.
– Ты когда-то работал в кранкенхаузе, – сказал мне Ванюша. – Дорогу знаешь?
От волнения, нетерпения и неуверенности у меня сразу пересохло во рту.
– Да, – сказал я.
Чтобы задать свой вопрос, Ванюша вывел меня из барака. Сердце мое ударило: наконец-то! А неуверенность был потому, что в Ванюшином вопросе было условие. В кранкенхауз я ходил не сам, меня туда водили, и конечно же, дорогу я помнил смутно.
– В темноте найдешь? – спросил Ванюша и успокоил: – Ладно, будем соображать вместе. Вчетвером пойдем. Мне сказали, что в доме врача прячется доктор Леер.
Захватить Геринга, Геббельса, Гиммлера было мечтой тех дней. Зло в каждом из них было так сконцентрировано, что захвативший их разом решал множество своих проблем. Доктор Леер тоже был из каких-то гитлеровских начальников. Но надо было напрячь память, чтобы вспомнить из каких.
– Кажется, министр труда, – сказал Ванюша. До мечты это недотягивало. Но все равно было так прекрасно, что этого просто не могло быть.
– Министр или не министр, – сказал Ванюша, – прячется не прячется, узнаем. А пока молчи себе знай. Никому ни слова.
Если вам нет восемнадцати и жалостливые слова блатной песенки «И никто не узнает, где могилка моя…» трогают вас до глубины души, вам не расстаться с надеждой на какой-то случай, который все изменит. Я был слаб, жалостливые слова меня трогали, а надежда на какой-то поворот судьбы была со мной так давно, что я успел к ней присмотреться. Для дневных мыслей она не годилась. И я подумал, что никакого доктора Леера нет. Слухи разносят люди. Сколько же нужно людей, чтобы такойслух пришел к Ванюше, который даже не знает, как пройти к кранкенхаузу!
Но Ванюша что-то затевал, а я привык доверять Ванюше. К тому же, чтобы тебе не сказали «Боишься?», сомнения надо держать при себе.
И кто ж откажется от такого волнения! А вдруг на самом деле…
Конечно, можно сообщить американцам. Но мы-то тогда при чем! И неизвестно, как они поступят. Лагерфюрера они освободили. Может, и слухи так легко просачиваются, что доктор Леер не боится.
– Николай с нами, – сказал Ванюша, – и новичок один. А больше нельзя. Вчетвером и то заметно.
– Николай? – удивился я.
Ванюша засмеялся.
– Жена отпустила.
– А Петрович, Аркадий?
– Никто не хочет!
В рысьих глазах зажглись лампочки. Ванюша ждал, пока я переварю это «никто не хочет». Переваривать надо было не только то, что и у других оказались те же сомнения, что и у меня, но и главное, что не мне первому Ванюша делает это предложение. Он смотрел на меня, как бы испытывая меня ревностью. Потом усмехнулся.
– В кранкенхауз дорогу знаешь ты один.
Вызывая мое недовольство, Ванюша почти никогда не пытался его смягчить. «Решай как знаешь» – вот что в такие минуты говорили его глаза. А вспыхивавшие в них лампочки поддразнивали.
– Там все тихо надо делать, – сказал Ванюша, считая, что главные свои стадии моя ревность уже прошла. – Дом рядом с больницей. Из больничных окон свет на него падает.
– А если?..
– Я ж говорю: больница рядом, телефоны, комендатура.
13
Вышли из лагеря порознь. До темноты собрались у вокзала. Дорогу сюда знали все, и каждый мог прийти самостоятельно. Дальше должен был вести я. Однако в кранкенхауз меня водили из лагеря, а не от вокзала. А я помнил, как водили. То есть не то чтобы помнил, а надеялся, что, по мере того как будем проходить одну часть пути, я буду вспоминать другую.
По Ванюшиному плану, к кранкенхаузу надо было подойти после полуночи, когда там все заснут. Комендантский час начинался в девять. Часов до одиннадцати надо было прятаться в привокзальных развалинах или на самом вокзале, который после девяти тоже переставал работать.
Часа два, прислушиваясь к тому, что делается на улице и в соседних купе, мы просидели в полуразбитом пассажирском вагоне, к которому нас привел Ванюша, а потом, не встретив патрулей и не слишком проплутав, подошли к тому месту, откуда дорога была уже ясна. Тут начиналась каменная лестница, выложенная по бокам камнем-ракушечником. Такие неширокие декоративные лестницы с короткими маршами сооружаются в парках. Тут же было что-то вроде парка, который по скату холма поднимался к кранкенхаузу. Лестница переходила в аллею, которую я прекрасно помнил. Я здесь разравнивал граблями песок и мелкий ракушечник.
Стараясь не хрустеть ракушечником, мы подошли к больнице. Дальше повел Ванюша. Он вел так уверенно, будто недавно сам здесь побывал, а не знал это место по чьему-то описанию.
Свет из окна больницы на двухэтажный дом не падал. Да и не было его в больничных окнах. Зато во всех окнах двухэтажного дома горело праздничное электричество. При этом было видно, какой чистоты, плотности и прозрачности каждое стекло в окнах этого дома.
– Не спят! – поразился я.
– Может, не тот дом? – спросил Николай.
Словно сверившись с какими-то приметами, Ванюша сказал:
– Этот…
Пытаясь заглянуть в окно первого этажа, обошли вокруг дома. Окна были зашторены, и заглянуть не удавалось. Лишь кое-где сквозь щели в шторах можно было увидеть рисунок обоев на стенах, ножку стула или стола, часть паркета. Мы всматривались в щели, стараясь сквозь них уловить хоть какое-нибудь движение. Но в доме ничего не было видно или слышно.
– Подождем, пока погасят, – предложил Николай. И мы еще некоторое время выжидали и прислушивались. Ванюша посмотрел на часы.
– Без десяти два. Будем ждать, назад не успеем вернуться.
– Может, у них гости, – сказал Николай.
– Боятся, – сказал Ванюша. – Спят при свете.
Ванюша попробовал открыть окно, но, как и остальные, оно было плотно закрыто. Ванюша натянул рукав пиджака на сжатый кулак.
Я открываю окно, подсаживаю Сергея. Он сразу на второй этаж, а мы с Николаем осматриваем первый.
Кулаком, на который был натянут рукав, Ванюша ударил по стеклу. Раздался звон. Ванюша ударил еще раз, просунул руку внутрь, нащупал задвижку и открыл окно. По тому, как он сморщился, я понял, что он порезался, но меня подтолкнули, я оказался на подоконнике, спрыгнул на хрустнувшее под ногами стекло, смутно увидел перед собой пустую комнату, а сквозь открытую дверь лестницу на второй этаж, услышал за собой тяжелое дыхание Николая и побежал наверх.
Никто не крикнул, не спросил, что происходит. Комнату и лестницу освещали несильные лампочки. Внутри свет не казался таким праздничным, как снаружи. Но усилилось ощущение чужого богатого уклада, который на мгновение отразился в зеркальной глубине со всеми его обоями, черной деревянной лестницей и абажурами, смягчающими ночной свет.
На втором этаже я толкнул застекленную дверь, при молочном свете настольной лампы увидел большую спальню, повернутое ко мне бледное женское лицо, мужчину, наклонившегося к телефону.
– Руки! – крикнул я, а он, словно не слыша, продолжал крутить диск. Не решаясь приблизиться, я прицелился и крикнул еще раз, но в эту минуту пробежавший мимо меня Николай выхватил у мужчины телефон и швырнул его так, что оторвался провод.
– Успел дозвониться? – спросил он меня.
– Не знаю.
Немец был одет. Или, по крайней мере, не был раздет. Мы это тоже посчитали признаком того, что он давно нас услышал.
Он поднялся с кровати и оказался выше и шире Николая, который мне всегда казался рослым человеком. Николая это словно развеселило.
– Сядь! – толнул он немца к кровати. – Сядь!
Немец упирался, показывая на разбитый телефон.
– Уходите! – говорил он и грозил: – Скоро приедут!
– Не боится! – сказал Николай и вдруг боднул немца головой в живот. Тот сел, будто его срезали под коленки. Женщина закричала, а Николай сказал мне: – Напугай их! А я скажу Ванюше про телефон.
Он убежал, а я почувствовал уже испытанное бессилие. Немец не боялся пистолета. Показывая, что пистолет заряжен, я передернул затвор и выбросил на пол целый патрон. Но, должно быть, у хозяина дома была храбрость врача, привыкшего иметь дело с разными больными. Когда я поднимал пистолет, немка еще больше белела лицом и начинала кричать, а немец говорил:
– Уходите скорее! У нее больное сердце.
Три года я мечтал увидеть этих людей боящимися меня, а вот теперь ненависть немки была мне тяжела, а страх заражал чем-то нехорошим. Я хотел объясниться, сказать, что ей бояться нечего, но немец опять поднялся с кровати и направился ко мне.
– Стреляю! – пригрозил я и позвал: – Ванюша!
Ванюша появился с лицом сморщенным, как при зубной боли. Сплюнул кровью – отсасывал порезанную руку. На кулак он намотал проступавшую красным белую тряпку. Этим же кулаком уперся немцу в грудь.
– Доктор Леер?
– Есть кто-нибудь внизу? – спросил я его.
– Пусто, – сказал Ванюша.
Я был уверен, что Ванюша немца испугает. Но тот опять сказал:
– Уходите! У нее больное сердце.
Ванюша толкнул раздвижную дверцу большого шкафа, в котором висело множество женских костюмов и платьев. Пошевелил их здоровой рукой. Немка закричала:
– Это мои последние вещи!
Не обращая на нее внимания, Ванюша еще шире раздвинул дверцы. Немец опять торопил:
– Уходите! Скоро приедут.
Ванюша подтолкнул его здоровой рукой к двери, вывел из спальни, показал на запертый шкаф.
– Может, там доктор Леер? Ключи!
Немец отрицательно покачал головой. Он относился к нам, как к больным. С этого его нельзя было сбить. Ванюша направлял пистолет, считал: раз… два… три! Николай замахивался. Немец твердил:
– Уходите!
– Черт с тобой! – сказал Ванюша. – Сломаем!
Немецким ножевым штыком попытался открыть дверцу. Она не поддалась. Шкаф был из тех, которые называют встроенными. От удара штыком на фанере остался только слабый след. А главное, раздавался страшный грохот. На каждый удар немка из спальни отвечала криком.
– Больная! – спросил Ванюша. – Сердце болит?
Немец кивнул.
– Давай ключи, быстрей уйдем!
– Уходите!
Штык согнулся, но дверца не поддалась. Сбегали в подвал, принесли кочергу и топор. Кочерга гнулась, топор не входил в узкую щель, а бить им по дворце не решались – опасались грохота.
Когда дверца открылась, поняли, почему согнулся штык. Запиралась она длинным металлическим стержнем, который входил в верхний и нижний пазы. В шкафу в бумажных пакетах висели меховые шкурки. Они нам были ни к чему.
Дважды прибегал дежуривший на улице новичок.
– Скоро?
В темноте для него время шло медленнее, чем для нас в освещенном доме. Новичка звали Яшка Зотов. Он был из концлагерников. На немца смотрел с такой ненавистью, что я испытывал облегчение, когда Зотов возвращался на улицу. Услышав, как немец говорит: «Уходите, у нее больное сердце!» – он задохнулся. Будто у самого что-то с сердцем произошло. Схватился за грудь, зашарил в воздухе руками, потянулся ко мне, к моему пистолету.
– Сердце, говоришь? Фашистов прячешь?!
Он один был без оружия. Ванюша поосторожничал. С самого начала договаривался: «Возле дома подежуришь». Вспышке этой Ванюша не мешал, смотрел на немца, а когда Зотов вышел, сказал:
– Видел? Ключи давай!
Было еще два шкафа, и мы хотели их открыть. Но немец твердо сказал:
– Уходите!
Доктора Леера мы не нашли. Еды тоже.
Николай сказал мне:
– Внизу, на подзеркальнике, кое-что интересное для тебя.
Я спустился по лестнице, взглянул с надеждой: баночки, флакончики… и две губные гармоники. Я догадался: Николай запомнил мой рассказ о том, что я окончил пять классов музыкальной школы. Такая нелепость! И где меня нашла! Эти-то пять лет и убедили, что музыкального слуха у меня нет.
– Будем уходить, возьму, – сказал я, решив гармоники «забыть».
– Забудешь! – сказал Николай. – Сразу в карман положи.
Ванюша сказал:
– Спустись в подвал. На куче кокса бутылки с вином. Поройся в коксе. Там что-то запрятано. Может, вино. Может, еще что-то.
Подвал был освещен. Справа за лестницей над нависающим потолком кокс. Сверху, прямо на коксе, две или три длинные бутылки.
– Вина не бери, – сказал Ванюша. – Найдешь покрепче, возьми пару бутылок.
Я взобрался по осыпающемуся коксу, сунул пистолет в карман, сел на корточки и очень скоро нашел еще несколько бутылок. Я успокоился и даже не оглянулся, услышав за спиной шаги.
– Ванюша? – спросил я и замер, не услышав ответа. Тот, кто подошел, молчал. В неудобной своей позе – сверху давил потолок и не давал разогнуться – я обреченно повернулся. Но тот, кто подошел, был поражен не меньше меня и не мешал мне доставать пистолет. Кое-как я вытянул его из брючного кармана.
Человек поднял руки, и только теперь я разглядел его в смутном подвальном свете. Ему было лет под пятьдесят. Чтобы поднять руки, ему пришлось ссутулиться. Он был еще более рослым, чем хозяин дома.
– Ванюша! – крикнул я. – Он здесь! Сюда! – И скомандовал немцу: – Назад!
Я увидел дверь, из которой он вышел. То есть я и раньше видел ее. Но Ванюша и Николай побывали в подвале до меня, и я не ждал никаких неожиданностей. Немец пятился, а я, стараясь сохранить между нами шага два, шел за ним и звал:
– Ванюша! Николай! Он здесь!
Пятясь, немец прошел соседнее подвальное помещение и оказался в крохотной каморке, освещенной низкой лампочкой без абажура. Лампочка висела над железной кроватью, занимавшей почти всю каморку. С кровати на меня смотрела женщина примерно того же возраста, что и мужчина.
Я был заранее готов к тому, что никакого доктора Леера нет. В доме врача получил этому подтверждение. И вот оказалось, что кто-то все-таки прячется. Этот пожилой немец никак не мог быть работником хозяина дома. И никак не мог жить в глухой подземной каморке. Он мог здесь только прятаться.
Лампочка висела так низко, что я чувствовал от нее тепло. Свет отражался в глазах немца и немки. А я не знал, что делать дальше. Они сидели рядом и смотрели на меня.
– Гад! – сказал я и потряс пистолетом. Я разогревал себя, хотел, чтобы до появления Ванюши немца не оставил страх, который заставлял его так легко мне подчиняться.
Ванюша прибежал. Я пропустил его в каморку.
– Доктор Леер? – спросил он меня и наклонился к немцу: – Доктор Леер? Фрау Леер?
Немка и немец молчали, и я подумал, что их парализуют не только наши пистолеты, но и гробовая теснота каморки, и эта лампочка на длинном шнуре.
– Отвечай! – схватил Ванюша немца за грудь своей перевязанной рукой, тут же сморщился, но не отпустил. Я понимал, что перевязанной рукой Ванюша пугает немца. И гримасой боли тоже. Перевязанная рука чем-то страшнее здоровой. Ванюша тоже не знал, что дальше делать с немцем.
То есть мы, конечно, знали. Однако не было уверенности, что перед нами доктор Леер. То ли мы когда-то видели его портрет, то ли, собираясь сюда, каждый представлял его по-своему, но этот огромный старик не был похож на человека, которого мы ожидали увидеть. Несомненно, у него были важные причины прятаться от американцев. Гитлеровский министр или нет, но, должно быть, он был очень большим злодеем. И, скорее всего, чиновным. Ведь американцы защитили даже нашего лагерного коменданта.
Чутье говорило нам, что мы напали на что-то очень важное. Уж больно этот немец не помещался в подвальной каморке.
– Имя! – требовал Ванюша. – Документ!
А мне пришло в голову, что смелость хозяина дома не врачебная, а какая-то другая. И поступить с ним надо так, как с этим немцем. Однако времени, чтобы все это сообразить, оставалось слишком мало. А мысль была страшной.
Напряженное внимание в глазах немки и немца вдруг показалось мне лукавым. Будто своим профессиональным чутьем они в какой-то момент оценили нас с Ванюшей и уловили, что мы не решимся на то, чем угрожаем. Ощущение было обжигающим. Мешая мне, Ванюша наклонился к стулу, который стоял рядом с кроватью. А когда отклонился, в глазах немки и немца опять был тот же неживой электрический блеск.
На сиденье стула лежали сигареты и зажигалка. На спинке висел пиджак. Сигареты и зажигалку Ванюша отдал мне: «Возьми!» – а сам потянулся за пиджаком.