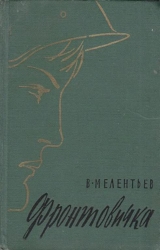
Текст книги "Фронтовичка"
Автор книги: Виталий Мелентьев
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 21 страниц)
6
Полковнику Андрею Петровичу Голованову не повезло на милой лесной речушке Жиздре. Бои шли на Волге, а на Жиздре немцы держались стойко. Их оборона была неуязвима. Командир дивизии Голованов несколько раз переправлялся со штурмовыми группами на недоступный берег, терял людей, поседел, скрывал два легких ранения и контузию, но приказа так и не мог выполнить. В одном из отчаянных по ожесточению и безнадежности боев его тяжело ранило, и он попал в тыл.
Железное здоровье кадрового военного и физкультурника помогло ему, он стал быстро поправляться. Он понимал, что за последнее время постарел, что его чистое лицо избороздили морщины и седина, переметнув виски, просочилась в темный чуб, посеребрила детский пушок на неожиданно проступившей плешине. И все-таки он видел, что еще красив сухощавой, будто резцом на мореном дереве вырезанной, собранной мужской красотой. Невольное безделье, сознание, что еще не все потеряно, уверенность, что он еще будет драться и еще покажет себя, заставили его вспомнить то, что он не вспоминал все время войны, – женщин.
Он стал приглядываться к медичкам, и кое-кто безмолвно пошел ему навстречу. Уже перед самой выпиской из госпиталя он заметил странную девчурку с реденькой челочкой, выглядывающей из-под пестрого платочка. У нее был высокий лоб, прямой нос, великолепно очерченный рот и ровный, едва заметный румянец на щеках. И отличная фигурка. Девушка ходила по палатам и пела раненым под гитару. Пела задушевно, с затаенной грустью, приятным, но несильным голоском, и слушали ее с удовольствием. За свою офицерскую жизнь полковник Голованов встречал немало таких хорошеньких девушек, которые, мечтая стать актрисами, вначале познавали закулисные тайны, а потом решали, что этого с них вполне достаточно…
Голованов решил действовать смело. Он попросил девушку зайти к нему, в его отдельную палату. Она взглянула на него, и в ее больших серо-зеленых холодных глазах полковник не увидел ничего, кроме спокойного любопытства. Казалось, она знает что-то такое, что ставит ее выше полковника, делает ее старше и опытней пожилого человека.
«Коллекционерка, что ли?..» – почему-то смущенно подумал Голованов. Но отступать он не любил и поэтому повторил приглашение.
Девушка опять посмотрела на него, и Голованов почувствовал, что она понимает, зачем он приглашает ее в свою палату, и ему стало не по себе, словно он не только решил, но уже начал что-то красть. Но девушка сказала очень просто:
– Хорошо, я зайду.
И эта холодная простота, без примеси кокетства или испуга, тоже озадачила Голованова, но он постарался быть бодрым. Тем лучше, что она все понимает… Меньше будет хлопот.
Она зашла в его палату такой ровной, четкой походкой, что гитара в ее руках слегка гудела. Прошла к столу, села без приглашения и спросила:
– Что же вам спеть?
Полковник решил быть галантным, потому что ощущение собственной нечистоплотности нужно было чем-то перебить. Андрей Петрович открыл бутылку вина, пододвинул яблоки и кусок госпитального пирога. Девушка не отказалась ни от вина, ни от яблока. Голованов вздохнул свободней: «Да, конечно, это просто коллекционерка мужских сердец».
И эта мысль окончательно вытеснила ощущение греховности. Забыв, что он в госпитале, что на нем застиранный госпитальный костюм, Голованов опять почувствовал себя красивым, сильным и обаятельным, каким знал себя всю жизнь. Он присел на кровать, положил ногу на ногу, и ему показалось, что на начищенных сапогах вспыхивают яркие блики, оттеняя змейку канта. Он выпрямил корпус так, чтобы свет мог поиграть и на примерещившихся блестящих пуговицах, на ремне, на орденах и медалях.
Девушка посмотрела на его госпитальный костюм, равнодушно тронула струны и опять спросила:
– Так что же вам спеть?
Он рассмеялся мягко, покровительственно, точно устанавливая незримую дистанцию интимной снисходительности, сократить которую он приглашал свою гостью. Весело блеснув глазами, он сказал:
– Вы очень удачно решили петь для раненых. И вы знаете, им это очень нравится.
– Да, я это знаю, – просто ответила девушка. – Поэтому я и пою.
– А кто же вас надоумил, если это не секрет? Может быть, это комсомольское поручение?
– Нет, это не секрет, – затаенно, краешками ярких губ усмехнулась девушка. – Это, скорее, пионерское задание.
– Не понимаю, – развел руками Голованов и качнул ногой.
Девушка покосилась на его госпитальный шлепанец, держащийся на самых кончиках пальцев, и уже совсем весело, доверительно сказала:
– Видите ли, у меня есть сестра Наташка. Она член совета дружины. Вот она-то и решила, что я ничем не помогаю фронту. А это, по ее мнению, бесчестно. Она заставила меня прийти вместе с пионерами в госпиталь и выступить в концерте. Меня пригласили прийти еще раз. А я разохотилась – и хожу теперь очень часто.
Голованов заметил, что она так и не сказала, комсомолка она или нет, и решил, что в данной ситуации это неважно: она и сама, видимо, понимает это.
Он очень мило пошутил над такой великовозрастной пионеркой и сказал, что ей, вероятно, и сейчас был бы к лицу пионерский галстук. Неудачно скаламбурив насчет красного галстука и красного вина, он предложил выпить еще, но девушка отказалась. Он поднялся и прошелся по палате, как ему показалось, четкими, упругими шагами, ощущая, как в нем нарастает бодрящая смелая сила. Она делала тело гибким, фигуру подтянутой. Ему нравилось это, и он все ходил по палате, круто поворачиваясь в углах и съезжая пятками с госпитальных шлепанцев. Он видел, что девушка присматривается к нему и ее холодные серо-зеленые глаза теплеют, поблескивают. Он понял это по-своему.
Голованов подошел к девушке сзади и легонько обнял ее за плечи. Она подалась, но в ней не дрогнул ни один мускул. Полковник сжал ее сильней и, слегка задыхаясь, приник своей щекой к ее – прохладной и нежной. Он очень любил подходить к женщинам сзади, не по словам, не по взгляду, а по дыханию, по движению тела отгадывая их решимость любить. В этом были своя прелесть и свое удобство.
Девушка не шевельнулась. Похоже, что это была покорность. Но когда он припал губами к ее теплой, слабо пульсирующей шее, пьянея и смелея, он услышал ровный, холодный голос:
– Скажите, полковник, вы знаете, что таких, как вы, называют сорокотами?
Опьянение ее телом еще не прошло, и Голованов не сразу понял вопрос. А когда понял, то вначале не поверил, что его могла задать эта чересчур холодная и, по всему видно, многоопытная девушка. Он оторвался от ее шеи и зачем-то посмотрел на дверь. Неудобное положение, в котором он стоял, вызвало ноющую боль в ране, и Голованов рассердился.
Он решительно выпрямился и, выйдя из-за ее спины, сел напротив, на койке, забросив ногу на ногу. Шлепанец ритмично закачался.
– По-моему, вы забываетесь! – строго сказал он.
Он опять выпрямил корпус, точно ощущая на себе всю официальную суровость знаков различия, ремней и наград. Девушка посмотрела на шлепанец, поднялась и, положив свободную руку на гитарные струны, наклонилась, всматриваясь в него своими нестерпимо холодными глазами, и резко, как команду, бросила:
– Подберите шлепанцы!
И сейчас же ушла четкой, ровной походкой. Прижатые струны гитары не гудели.
Андрей Петрович вначале опешил, потом возмутился и, вероятно, догнал бы эту дерзкую девчонку, но чувство собственной греховности, которое, казалось, он победил, вдруг окрепло, и он понял, что был, прежде всего, смешон. Смешон уверенностью в своей неотразимости, смешон в каждом своем наигранном, взятом напрокат из прошлого слове, смешон во всех своих жестах. Он вспомнил, как он пыжился, сидя на кровати, положив ногу на ногу, как он подтягивался, когда ходил по палате. Он не понимал, что живет прошлым, не видел, что на нем стоптанные шлепанцы без задников, плохо проглаженные белые госпитальные брюки со стандартно удлиненным мешковатым гульфиком, белая, из грубой рогожки госпитальная куртка-пиджак, из противно кокетливого кармашка которой торчит бурая, тусклая расческа. Он забыл о своей седине, о своих морщинах, о нездоровой бледности когда-то загорелого лица. Он жил прошлым и не заметил настоящего.
Голованов рывком схватил зеркало, подвинулся к окну и понял, что он просто стар. И это окончательно сломило его. Он повалился на кровать и долго лежал без движения, почти без мыслей, страдая оттого, что он был смешон, и оттого, что он незаметно постарел. Он опять взял зеркало, посмотрел на свои еще бледные, плотно и обиженно сжатые губы и вдруг ощутил на них трепет ее шеи – нежный, волнующий и нестерпимо желанный сейчас, когда ее не было и не могло быть. Он опять повалился на кровать и скрипнул зубами.
7
Осень выдалась красной.
Красными были восходы и закаты, красными казались бульвары, клумбы и цветники. Были в этой красноте и багровости и еще могучие желтые и зеленые тона, но даже в желтизне, даже в зелени поздних листьев и стеблей просвечивали оранжевый и розоватый оттенки.
Сливаясь с багрянцем, киноварью и ржавостью увядших трав, они окрашивали окружающее красноватым светом, который так хорошо сливался с тревожно-огненными плакатами и лозунгами, главной темой которых был приказ: «Убей врага!» И только высоко, под самым розовым небом, освещенные последними лучами зашедшего солнца серебряными спутниками красной земли поблескивали капельки аэростатов заграждения.
Большинство прохожих на улицах были в военной форме. Они словно не замечали тревожных и пышных красок окружающего, не видели странно пустынных московских улиц, не понимали всей тяжести нависшего над страной несчастья. Военные шли бодро, глядели смело и независимо, даже как будто вызывающе, точно отвечая на немой упрек прохожих. Особенно смелыми, даже дерзкими казались девушки и женщины в форме, словно они добровольно приняли на себя ответственность за все неудачи и твердо знали, что исправят положение.
Валя смотрела на них и завидовала. А чтобы не выдать этой зависти, не показаться смешной, она держалась, как когда-то в строю, подчеркнуто прямо и ногу ставила твердо. Поэтому каблучки ее потрепанных парусиновых туфелек стучали резко, громко, а гитара отзывалась легким, сдержанным гудением.
Когда Валя вышла из госпиталя, ею овладел злой и торжествующий смех: сорокалетнего щеголя – «сорокота» – она отбрила удачно. Будет помнить и в другой раз не станет нахально приставать к девушкам. Но смешливое настроение пропало. Все-таки ей ни в чем не везет. Ведь когда этот красивый седеющий полковник с такими уверенными и сдержанными манерами, с таким вдумчивым и в то же время ярким взглядом темных, чуть навыкате глаз обратился к ней, она даже обрадовалась. Она не раз замечала полковника в коридоре госпиталя. Он почему-то казался ей знакомым, чем-то напоминал полузабытого отца. И у нее невольно зародилось что-то вроде дочернего уважения к нему. Она шла к нему с той хорошей тревогой, с какой ходят проведывать заболевшего учителя или знаменитого человека. Ей хотелось поговорить с ним, как с человеком, который сам воевал и знает причины, породившие трагедии у Харькова, на Дону и в иных местах.
А вместо настоящего разговора – откровенное, плоское ухаживание. Даже не ухаживание, а приставание. Она поняла это с той минуты, когда полковник, сидя на кровати, начал пыжиться. Вначале ей стало просто смешно, потом противно, что этот все еще красивый и, по всему видно, достойный человек так неумело играет смешную роль.
Но сейчас, когда госпиталь остался позади, ей почему-то стало грустно. Может быть, не следовало так откровенно смеяться над ним? Ведь вот все-таки приятно какой-то частичке души, что он ее заметил? Значит, она интересная, значит, лесная беда не сломила ее…
«Но как заметил? – сурово сказала она себе. – Как заинтересовался? Вот в чем вопрос. Как откровенно податливой девчонкой – вот как».
Она опять задумалась. Неужели в ней есть что-то такое, явно вульгарное, что даже немолодой (теперь она не могла почему-то назвать Голованова пожилым) мужчина, не страшась разницы в летах, требует, а не ищет ее любви, причем, по всему видно, даже не допускает мысли, что она может отказать? В чем дело?
Валя невольно пошла медленней, походка у нее стала шаркающей, расслабленной. Она пыталась представить себе свой облик и с удивлением убеждалась, что посмотреть на себя со стороны не может. Она сразу же представила мать, Наташку, отца, Севу, Аню – всех, даже гардеробщицу из института. Они стояли перед глазами как живые, а вот свой облик она представить не могла. Она знала, какие у нее глаза, волосы, фигура, знала все, но ничего этого не видела. Растерянно удивляясь, она не замечала прохожих и вначале даже не видела, что рядом с ней очутились двое военных, и один из них, хитро и понимающе поблескивая озорными глазами, проникновенно говорил:
– Не стоит, барышня, гулять одной. В одиночку, знаете, даже снайперы не действуют. У вас такая симпатичная гитарочка, что мы можем замечательно провести вечерок.
Когда смысл его слов дошел до Вали и она увидела своих непрошеных спутников, она разозлилась, ее каблучки опять застучали уверенно и резко. Она посмотрела на того, кто шел справа: курносое, обветренное и загорелое лицо, светлые, лукавые глаза уверенного в себе острослова, медаль на груди. Значит, фронтовик. Слева – глупо и смущенно улыбающееся, еще более курносое, еще более обветренное и светлоглазое лицо, а на груди орден. И это почему-то еще больше разозлило Валю. Она прищурилась и спокойно отрезала:
– Послушайте, вместо того чтобы учиться подсыпаться, советую научиться воевать.
У парня справа погасла улыбка, глаза стали острыми, пронзительными. Он схватил Валю за руку и, остановив, резко повернул к себе:
– Ты, задрипочка… – начал он угрожающе. – Ты сначала сама туда сунься, а потом…
– Брось, Колька, – перебил его товарищ. – Брось. Неудобно.
Колька, не отпуская Валю, возмущенно ответил:
– Нечего бросать! Ходят тут с гитарочками, песенки поют. А когда тебя ранило, кто тебя вынес из боя? Сам выполз. Воевать учиться… – протянул он с презрением и вдруг оттолкнул Валю так, что она чуть не упала. – Пшла вон! – и зло, почти с отвращением рубанул: – Красавочка…
Как она бежала домой, как взбегала на третий этаж, Валя не помнила. Швырнув гитару на диван, она металась по комнате:
«Что же это? Как же это так? Да как он смеет?..»
Но чем больше она растравляла себя, тем уверенней звучал в ней другой, очень спокойный голос: «А что, собственно, случилось? А? Два хороших парня честно предлагали провести вечер – что в этом плохого? Тебе не хотелось? Ну так бы и сказала. Почему же ты упрекнула их в неумении воевать? Ведь они умеют. У них награды».
Сопротивляясь этому голосу, Валя почти вслух выкрикнула:
«Да, но почему именно ко мне? Почему на улице? Разве я давала на это право?»
«Да ты-то кто? – возразил внутренний голос. – Девчонка, которая попала в передрягу и испугалась так, что чуть с ума не сошла. Подумаешь, принцесса Турандот… Герой Советского Союза выискался. Где же им было знакомиться с тобой? В благородном собрании, где собираются «хорошие семьи»? Повод, видите ли. Просто ты смазливая девчонка, да еще с гитарой – вот и весь повод, – внутренний голос примолк и вдруг насмешливо протянул: – Гитарочка… Немцы на Волге, на Кавказе, люди плачут, а она с гитарочкой расхаживает, песенки поет. Выбрала род оружия».
Пораженная этим упреком, Валя остановилась. В затылке затеплилась страшная точка, но Валя усилием воли погасила ее и мысленно повторяла: «Да-да… А кто ты есть? Ты кто? Живешь на сомнительные капиталы от неразоблаченной трусости. Разве на свою зарплату ты могла бы прожить? Презираешь мать, а ешь ее хлеб, оскорбляешь военных, а сама палец о палец не ударяешь, чтобы помочь им. И ты еще считаешься комсомолкой, ты еще думаешь, что удивительно честна, и серьезно беспокоишься, красива ты или нет? Кто ты есть? А? Кто? Ну, отвечай же, отвечай!» – требовала от себя Валя и, как недавно не могла представить себе свой облик, так и не могла ответить на этот вопрос.
В комнату вошла Наташка и, не глядя на Валю, безразлично сказала:
– Слушай, жиличка из двадцать третьей квартиры заболела. Я сказала, что дежурить на крыше будешь за нее ты.
Это окончательно взорвало Валю. Еще и эта девчонка, эта вланжевая соплячка смеет не только распоряжаться ею, но еще и презирает ее. Она, не сдерживаясь, почему-то визгливо закричала:
– Мне надоело, Наталья! Кто тебе разрешил распоряжаться мной?!
Наташа с интересом и некоторой долей презрения посмотрела на сестру, пожала худенькими плечиками и раздельно, подражая матери, сказала:
– Пожалуйста, без истерик. Не умела воевать, сумей хотя бы дежурить.
Не помня себя, Валя бросилась на сестру, крича что-то отчаянное. Наташка поняла, что дело не в истерике, и испугалась по-настоящему. Ее великолепное детское презрение, сознание своего превосходства и Валиного ничтожества мгновенно исчезли, и она, бросившись к двери, завопила:
– Мама-а! Мама-а!
Валя не стала догонять, круто повернулась и побежала в свою комнату.
Рано утром она пришла в райком комсомола и сказала:
– Я прошу послать меня на фронт.
– А как с контузией? – участливо спросил заведующий военным отделом.
– Все прошло. Посылайте куда угодно и кем угодно. Только скорей.
8
Сухиничи, Думиничи, Козельск и Мосальск… Названия городов, знакомых только по сводкам Совинформбюро. Они где-то рядом, а попасть в них не удается. Дивизия беспрерывно кочует по заснеженным лесам, по пустым, будто вымершим деревням. Скрипят сани, весело тарахтят полуторки и солидно, как «юнкерсы», подвывают «ЗИСы». Где-то совсем близко – за кромкой ли леса, за дальним ли увалом, за вот тем ли взгорком – передовая. Дивизия все время ходит вдоль передовой. Иногда на дорогах рвутся снаряды, бывает бомбежка. Но все это как-то несерьезно, ненастояще. Словно после того, как выстояли на Волге, все – от командира дивизии до последнего ездового – поняли: немец сломался.
– Луснулся, – как говорят дивизионные остряки.
Они же называют и себя и своих сослуживцев «кочевниками». Иногда попадаются встречные люди из «болотной» дивизии, иногда и «лесники». Каждая дивизия получила негласное, но прочное прозвище. Об этом знают все – в армии и даже во фронте. Знают и молчаливо, весело поддерживают прозвища. Вообще, первое, что поразило Валю Радионову на настоящем фронте, была неизвестно как сложившаяся и непонятная ей веселая деловитость. Вместо командиров – «бати» или «хозяева». Нет ни полков, ни складов – есть хозяйства. Командиры не только спорят по сугубо теоретическим вопросам войны, но и много и охотно смеются. Бойцы норовят попасть в дома отдыха, которые вдруг выросли в брошенных деревнях, ходят в чайные, открытые во всех «хозяйствах», пристраиваются к банно-прачечным отрядам, перешивают гимнастерки, потому что воротники стали узковатыми, подгоняют по росту шинели. Если б не редкие выстрелы, можно подумать, что идет спокойная, хорошо налаженная жизнь.
Валя ждала не этого. Она хотела подвига, очищения от собственных мнимых и настоящих слабостей. Но на фронте она попала в дивизионный ансамбль.
Всему виной была гитара.
Уже когда все было готово, когда мама поплакала и перекрестила, когда на дорожку посидели и Валя взялась за вещевой мешок, новенький, с поперечными лямками, вчера только выданный, молчаливая Наташка не выдержала.
– Захвати гитару, – сказала она. – Пригодится.
В ее голосе было столько скрытой насмешки, неверия, так откровенно смеялись ее большие светлые глаза, что Валя почти с ненавистью выхватила из ее худеньких, с синими жилками рук свою гитару и бросила на аккуратно убранную и сиротливо ненужную кровать.
– Если кто тронет, голову оторву! – процедила она сквозь зубы и совершенно неожиданно закончила: – Задрипочка.
Наташка рассмеялась, но в глазах у нее не было ни веселья, ни прощения. Горячие, огромные, они светились насмешкой и жалостью.
Елена Викторовна всплеснула руками, будто отряхивая с них что-то липкое и неприятное, и обиженно, разочарованно протянула:
– Валентина… – но она сейчас же поняла старшую дочь и впервые не прижала руки к груди, а беспомощно опустила их перед домашним начальником. – Наташа, как ты можешь, в такую минуту…
– Ах, да оставьте вы, пожалуйста, – рассерженно, не глядя на мать, ответила Наталья. – Все обойдется.
Валя уничтожающе посмотрела на сестру и, стуча сапогами, ушла.
Нелепое прощание не огорчило ее – она уже успела убедить себя, что никогда больше не увидит ни московской квартиры, ни родных. Она ушла на фронт не для того, чтобы возвращаться. Правда, теперь она не собиралась умирать, но верила и почти знала, что ко всему прошлому, даже институту, она не вернется. И потому что она так настойчиво убеждала себя в этом, она вспоминала только о гитаре и скучала по ней.
Из запасного полка ее направили в Н-скую стрелковую дивизию машинисткой в разведотделение – места переводчика там не было. Штаб дивизии она застала в пустой лесной деревушке. Все жители из двадцатипятикилометровой прифронтовой зоны были выселены.
Комендант штаба направил ее в женское общежитие – стоящую на отшибе большую пятистенную избу. Темнело. Снега лежали голубые, плотные, а устланные лапником дороги резко чернели. Валя, робея, скользила в колеях, искоса посматривая по сторонам. В сумерках мельтешили серые фигуры в шинелях, в запачканных и потому тоже серых полушубках, слышался вызывающе счастливый девичий смех. Это показалось странным: в сумерках все серые фигуры казались мужскими, а смех – только женский. И это почему-то насторожило Валю. Среди разведчиков она была единственной девушкой, что как-то выделяло ее, утверждало право быть хоть чуть-чуть, но не такой, как все. И в запасном полку это ощущение не исчезло, потому что девушек в нем было немного и все они как-то быстро уходили. Здесь, в дивизии, в непосредственной близости от фронта, девичий смех показался Вале обидно ненужным. Она нахмурилась и вошла в сенцы указанного ей дома. Но и за дверью пела девушка.
Валя рассердилась и, не постучав, толкнула дверь в избу.
Освещенная ярким пламенем русской печи, стояла полная, краснощекая девушка в ватных шароварах. Прямые, сально блестевшие светлые волосы падали на потный розовый лоб. Маленькие глаза быстро и безжалостно ощупали Валю с головы до ног. Девушка отвернулась и, поддев рогачом чугун с розовеющей на огне свежевымытой крупной картошкой, бросила через плечо:
– Выдь-ка, ноги обмети. Не в клуб, в дом вошла.
Валя не сразу поняла, в чем дело, с недоумением рассматривая ширококостную, упитанную и сильную девушку, раскрытую ляду подполья и непривычную, ярко освещенную горловину русской печи. Будь Валя крестьянкой, она сразу бы поняла, что девушка у печи человек жадный. Возле брошенных домов было много дров, и стряпуха обрадовалась дармовщинке: навалила непомерно большой костер, от которого печь могла расщелиться. Но Валя была горожанкой и относилась ко всему, что происходит в деревне, с благочестивой убежденностью в его совершенной необходимости и справедливости. Девушка у печи поняла это и визгливо крикнула:
– Ноги, говорю, обмети!
Валя выпрямилась и посмотрела на стряпуху. Во взгляде серо-зеленых холодных глаз стряпуха увидела что-то такое, что не позволило ей закричать снова. Она отвернулась от Вали и, растерянно и зло пришептывая, опять полезла ухватом в печь. Валя положила на пол вещевой мешок, взяла из угла возле печки старенький банный веник и вышла в сени.
Когда она вернулась, вещевой мешок уже лежал на лавке, и стряпуха, красная, сердитая, упруго потряхивая большой грудью, выпирающей из-под тесемок, которыми был связан разрез на мужской рубашке, выставляла на чистый, добела выскобленный стол кружки и хлеб. Она отрывисто спросила:
– В штаб назначили?
– Да.
– Это ж куда? У нас вроде все места заняты.
– В разведотдел.
– А-а, машинисткой, – с едва заметной мстительной усмешкой протянула стряпуха, и на ее розовом, сальном лице появилось выражение собственного превосходства. – Ну, не завидую тебе, девка. Нет. Я туда ни в жизнь бы не пошла.
– Почему?
– Ты разведчиков еще, видать, не знаешь. Это ребята такие – оторви и брось. Машинистки у них каждые полгода меняются. Стучала на машинке или не стучала, а в декрет – пожалуйста.
Валю покоробили не слова, а тон, которым они были сказаны. В нем было и обидное сочувствие, и некоторое восхищение лихими разведчиками, и почти нескрываемое превосходство над теми, кого они обманули и к кому девушка причисляла, видимо, и Валю.
– Это почему же так? – спросила Валя.
Стряпуха налила чай из огромного, выщербленного чугуна и придвинула кружку Вале.
– Пей, что ли… – сказала она и стала громко прихлебывать чай. – Тут, видишь, какое дело. Ребята они, конечно, стоящие, – она наклонила розовую потную голову, и на полной шее обозначились розовые, вальяжные складки. – И потом они, знаешь, на жалость бьют. Все, понимаешь, там где-то. Ну, сидят и сидят. А эти здесь живут. Вроде привычные, вроде свои. Видишь их всегда. И вдруг ушли на ночь, а утром смотришь: двух, трех нет. Жалко. Жалость у нас хуже любви. Ну а как удача, все с ними носятся, как с писаной торбой. Тоже приятно. Потом, как ни говори, а они у немца бывают – то часики, то ручки всякие, а то просто духи или еще что притащат. Оно и в самом деле девкам нашим завлекательно. У нас же в военторге ни черта нет. – Она осуждающе покачала головой. – Это ж что делается, милая…
Она вдруг осеклась и посмотрела на Валю. Ее безбровое полное лицо совершенно не изменилось. На низком лбу не прорезалась даже крохотная морщинка, но маленькие, светлые и очень цепкие глаза быстро и подозрительно ощупали Валю, беспокойно забегали по сторонам.
«Испугалась, – усмехнулась Валя. – Лишнее сболтнула».
– Ты комсомолка? – строго спросила девушка.
– Да.
Глаза у стряпухи забегали еще быстрее, и в них мелькнуло что-то загнанное, злое. Но губы уже ласково улыбались, и она заискивающе протянула:
– Ну и что ж ты чаек-то не пьешь? Может, думаешь, чугун грязный?
Валя молчала, насмешливо разглядывая стряпуху. Та потупилась, сорвалась с места и побежала в другую, переднюю часть избы. Вернулась она с баночками и туесочками.
– Закомарничалась я тут возле печки, совсем ум вышибло. Ты ж с дороги, есть хочешь. Вот маслице, консервочки. Сейчас картошечка поспеет.
Валя молча встала из-за стола, прошлась по кухне, заглянула в переднюю и увидела висящую на давно не мытой и не скобленной бревенчатой степе новенькую, покрытую светлым желтым лаком гитару. Валя потрогала струны и решительно сняла гитару со стены.
– Не трожь! – строго крикнула стряпуха. – Это ансамблисток.
Но Валя уже наклонила голову к деке и обхватила тонкими пальцами еще не обтертый, шершавый гриф.
– Не трожь! – срываясь с голоса, злобно крикнула стряпуха и протянула было руку к гитаре, но, встретившись с немигающим взглядом очень холодных Валиных глаз, дернулась и уже растерянно сказала: – Вот еще черт… навязалась.
Она ушла в кухню. Валя отвернулась к завешенному мешковиной окну и перебрала струны – медленно и нежно. Они зарокотали. Дека под ладонью отозвалась легкой слитной дрожью.
Керосиновая лампа с разбитым, но чистым стеклом была заправлена бензином с солью, и фитиль подавал горючее неровно, толчками. Тени на мрачных, истрескавшихся стенах то суживались, то расширялись. Валя поставила ногу на лавку, приникла щекой к гитаре и стала рассеянно следить за этими пульсирующими тенями. Их размеренное то просветление, то сгущение рождало в ней особый, неизвестный раньше ритм. Потом легко и бездумно пришла мелодия, теплая и грустная, до боли щемящая и в то же время нежная. Валя подчинилась ритму теней и, не открывая рта, чувствуя, как приятно щекочет нёбо, вплела в струнный перезвон необыкновенную мелодию.
Ей не хватало слов, и вначале это немного смущало – песня без слов всегда смущает. Но потом неудобство исчезло, и Валя запела свою песенку. Она думала о Москве, о детстве, о своем первом неудачном походе и своей первой неудачной любви. Когда вспомнила двух солдат, обругавших ее на улице, она печально и, как ей показалось, старчески-разочарованно, но все-таки чуть-чуть злорадно усмехнулась. С этой минуты потребовались слова. Она уже не видела пульсирующих теней на стенах, рожденный ими ритм ушел, и она запела любимую песню дедушки. Когда она дошла до слов:
А на штыке у часового
Горит полночная звезда,
вспомнился отец, и с болезненной ясностью она представила себе угрюмое здание тюрьмы с темными провалами зарешеченных окон и глухих «намордников», заиндевевшего часового в большом и тоже черном тулупе, из-за воротника которого, как жало, как луч, тянется вверх острый штык. На кончике штыка вспыхивает и гаснет, вспыхивает и гаснет яркий и трепетный световой блик.
Горло перехватила судорога, и она замолчала. В комнате было тихо. За окном слышались торопливые шаги, поскрипывание снега и чистый, веселый девичий смех. Она вспомнила лес, цепочку трупов и, привычно ожидая боль в затылке, откинув назад голову, глубоко вздохнула.
– А ну-ка, спойте еще, – грубовато приказал невидимый мужчина.
Валя вздрогнула, обернулась и только после этого опустила ногу со скамьи. Гитара глухо загудела. Боль в затылке так и не пришла.
Сзади, прислонившись к притолоке, стоял невысокий командир в растоптанных, огромных валенках, в новеньком снаряжении и с шапкой-ушанкой в руке. Его лица Валя не разглядела. Когда он вошел, Валя не заметила, и это особенно смутило ее. Она потупилась и ответила:
– Ведь я, собственно, не пою…
– Спойте, спойте! Я сам слышал, – сказал командир все так же требовательно, подождал несколько секунд и уже совсем сердито добавил: – Что же, приказывать нужно? Да?
Она не знала, как ей вести себя в таких случаях, но твердо помнила, что приказ командира – закон для подчиненного. И хотя этот неприятный мужчина был как будто бы и не ее командиром, она все-таки растерянно пожала плечами и подняла голову.
– Спойте что-нибудь современное. Лариса, иди-ка, послушаем.
Мужчина уселся на один из топчанов, а напротив него присела уже одетая в гимнастерку безбровая и розовая стряпуха.
«Подумать только! – мысленно усмехнулась Валя. – И она-то Лариса!»
Валя присела на лавку, забросила ногу на ногу и начала было песню о синем платочке, но мужчина досадливо перебил ее:
– Ну, это избито…
Валя пожала плечами и, мельком взглянув на Ларису, чуть не расхохоталась: та сидела, скрестив руки на массивной груди, и, плотно сжав губы, не сводила с Вали маленьких, осуждающих глаз.
«Попадись такой…» – подумала Валя и, неожиданно успокоившись, легко и просто, как когда-то в госпитале, запела шевченковскую песню:








