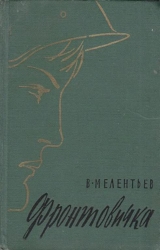
Текст книги "Фронтовичка"
Автор книги: Виталий Мелентьев
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 21 страниц)
Фронтовичка
Часть I
1
За полночь вызвездило.
На выходе из оврага командир группы разведчиков остановился, взглянул на окруженные лучистыми венчиками звезды и выругался. Бывший студент-математик Сева Кротов подался вперед и загородил собой Валю Радионову, словно надеясь, что ругань разобьется о его широкую грудь и Валя ничего не услышит.
Но Валя услышала, отвернулась и посмотрела на мерцающие сугробы, на темные пятна кустарников. Она хотела поправить волосы, но они были спрятаны под ушанкой, прикрытой капюшоном маскировочного костюма. Валя опустила руку и шумно, обиженно вздохнула. Командир повернулся лицом к группе. Сева предупреждающе кашлянул. Командир метнул бешеный взгляд на выдвинувшуюся из-за Кротова Валю и стиснул зубы: опять эта девчонка. Из-за нее нельзя начать настоящий мужской разговор.
– Вот не ко времени, – сказал он шепотом. – И ведь новолуние.
Только тогда вся группа посмотрела вверх, на вздрагивающие, холодные и кажущиеся очень близкими звезды. Вправо вставал молодой месяц. Левее еще висела плотная туча, согнанная ветром со здешнего, подмосковного неба, и звезд там не было. Как и все, Валя поняла, что к неизвестному лесу придется идти по ровному полю меж занятых немцами деревень.
Она еще никогда не видела ни этих полей, ни леса, в котором следовало укрыться. Она была коренной москвичкой, хорошо знающей окрестности Таганской площади, прекрасно ориентирующейся в подмосковном Хотькове, где жила тетя; она никогда бы не заблудилась в Гагре, где когда-то отдыхала. Но все, что лежало западнее Москвы, было для нее отвлеченным географическим понятием.
И все-таки она знала, что впереди – голое поле на самом юру. А за полем – смешанный лес, рассеченный просеками на квадраты. Она знала это потому, что перед первой в своей жизни боевой операцией все участники разведывательной группы тщательно изучили по карте маршрут движения, вызубрили названия деревень и местных предметов в районе предстоящих действий. И потому, что она представляла себе и поле, и лес, она поняла, почему так яростно ругается командир.
Группа получила задание уйти в тыл врага, но мешала погода – переменная облачность, новолуние. Командир ждал сплошной облачности и по возможности – метели, чтобы провести свою группу через линию фронта, через утыканный немецкими постами и секретами район как можно незаметней. Он дождался такой погоды. Метеосводка обещала превращение переменной облачности в сплошную, с последующей метелью. Группа вышла на задание. Но в сложные и путаные движения воздушных фронтов вкралась ошибка, и вот – вызвездило.
Идти по полю, на виду у немцев, было опасно. Очень опасно. Валя понимала это и уже не вздыхала. Она опять, как при выходе на задание с милой и уютной подмосковной дачи, ощутила в груди холодную пустоту, в которой резко колотилось сердце. Лоб покрыла испарина, и он зачесался под ушанкой. Валя сняла варежку и все-таки поправила волосы. Это почему-то успокоило.
Командир, поглядывая на компас, молчал. По оврагу тянул пронизывающий, сквозной ветер, и по спине поползли мурашки. Валя поежилась и взглянула на командира.
Чего он тянет? Почему молчит? Ведь все ребята – добровольцы, они прекрасно знают, что идут не на прогулку, а, может быть, на смерть. Опасно? Ну и что ж… На то и война. Просто нужно действовать – и действовать решительно и смело.
Как и в тот день, когда она пришла в райком комсомола с просьбой послать ее на фронт, Вале и сейчас все казалась ясным и понятным. Сердце уже не колотилось, и в груди потеплело. Валя презрительно надула еще по-детски пухлые и яркие губы и, как показалось ей самой, усмехнулась очень ехидно.
Она не любила командира – краснолицего, с темными, немного сумасшедшими, яростно горящими глазами, неуравновешенного и всегда злого. Он то медлил, мямлил, то торопился, подгонял всех и ругался. Ругань слетала с его губ беззлобно, как присказка, и ребята с самого начала полюбили его именно за это.
– Свой парень! – говорили они. – И выругает – так не обидно, за дело. А похвалит, так чувствуешь – заработал.
Только Сева Кротов молчаливо и настойчиво воевал с командирской бесшабашностью в словах. Сева то кашлял, то многозначительно посматривал на командира, и тот, понимая эти взгляды, старался избавиться от своей дурной привычки, но не мог, не умел этого сделать и злился на себя, на Кротова и на Валю, злился потому, что, хотя сама Валя, казалось, не замечала его крепких слов, все знали, что Сева ведет борьбу с командиром только потому, что бережет ее девичью стыдливость.
Командир все думал. Стали поскрипывать лыжи – люди меняли положение.
«Просто растерялся или струсил… – размышляла Валя. – Сейчас начнет искать оправдания в уставе или выдумает какую-нибудь инструкцию. Нужно проскочить поле, а не получится – принять бой».
И в райкоме комсомола, и во время занятий в группе Валя представляла себе войну как лихую и обязательно короткую стычку, из которой, если только не побояться, несомненно выйдешь победителем, потому что враг, чтобы там ни говорили, все-таки трусоват и слабоват и бить его следует, не задумываясь и, главное, не жалея, что он тоже человек.
И все же, несмотря на такую уверенность, в душе ей казалось, что если она и попадет когда-нибудь впросак, так только потому, что пожалеет обманутого вражеского солдата. Иногда, правда, очень редко, она даже мечтала о том, что ей удастся открыть глаза такому обманутому немцу – обязательно молодому и красивому, – и он потом станет ей настоящим другом. Ловя себя на таких мыслях, она сердито доказывала себе, что ненавидит немцев, никогда не остановится ни перед чем и будет беспощадна. Но воспитанная с детских лет жалость к обманутому офицерами вражескому солдату, неясные мечты о необыкновенной дружбе все-таки продолжали жить в ней.
Мечтая о дружбе, Валя предусмотрительно не думала о любви, потому что первая ее любовь к десятикласснику окончилась трагически. Она сама, своими глазами, увидела, как человек, которого она любила «всеми фибрами своей души», целует другую – свою одноклассницу.
И сейчас, внутренне издеваясь над командиром, Валя совершенно забыла ту холодную пустоту, которая так неожиданно рождается в груди, когда не выдуманная, а настоящая опасность приближается и оказывается совсем не такой, какой она представлялась в мечтах. Прячась за широкими плечами Севы Кротова, Валя чувствовала себя такой же сильной, такой же спокойно смелой, каким всегда бывал Сева – великолепный математик и отличный боксер, скуластый парень с теплым, веселым взглядом.
А командир все молчал.
Сквозной ветер потащил за собой первые снежинки, и овраг закурился. Ветер посвистывал между лыжными палками, вокруг деревянных колец завивались сугробчики. Над кромкой оврага поднялся рожок месяца, и Валя ясно увидела, что палки отбросили смутную, дрожащую от поземки тень. Но она не придала этому значения. Внутренне напрягаясь, сжимая автомат, ремень которого привычно давил на шею, она сердилась на командира.
«Ну, чего он медлит? Чего он ждет?»
Теперь Вале очень хотелось боя, схватки, нечеловеческого напряжения, о котором она так много читала и так долго мечтала. Затаенно, в глубине души, она надеялась, что это отчаянное напряжение сделает ее цельной, сильной, всегда готовой к бою. И – беспощадной.
Командир тоскливо посмотрел на звезды, на их вздрагивающие венчики и вздохнул.
– Все-таки придется проскакивать, – с горечью сказал он. – Метель-то будет – поземку потянуло. Но когда? А нам к утру нужно прибыть на место.
Бойцы молчали. Валя подумала: начинается оправдание. Кто-то сказал весело и уверенно:
– Так мы проскочим, товарищ лейтенант. Ну, а если… Так что ж?..
Валя чуть не крикнула: «Правильно! Колебаться незачем».
Но сдержалась: короткая, очень короткая армейская школа уже приучила ее сдерживать свои чувства, подчинять их общему делу и воле командира. Она только улыбнулась и покосилась на Севу. Его лицо показалось ей сумрачным, недовольным, хотя она надеялась найти в нем отсвет своей улыбки. Сева отвернулся и посмотрел на командира. Тот выдержал его взгляд и оглядел бойцов. В неверном свете месяца и звезд он не столько увидел, сколько угадал настроение большинства ребят – молодых и нетерпеливых, – и, едва заметно пожав плечами, взглядом ответил Севе: «Сам видишь, какой народ…»
Сева наклонил голову и, не глядя, шепотом сказал Вале:
– Проверь крепления. Отодвинь предохранитель с автомата. – Помолчал и поправился: – С рукоятки затвора.
Никогда он не говорил с Валей так отрывисто, и никогда еще так сухо, отчужденно не звучал его голос. Она хотела спросить Севу, почему он так изменился, но не смогла этого сделать. В груди опять образовалась холодная пустота, и Валя услышала стук своего сердца. Она подумала: «Неужели боюсь?»
Но сейчас же сжала зубы и мысленно повторила одно из командирских ругательств, обратив его против себя. Это обозлило ее, и она успокоилась. Потом посмотрела на звездное небо, отыскала Полярную звезду, мысленно сориентировала карту и определила точку своего стояния. Теперь она знала, что чистое поле тянется два с лишним километра.
«Это не так уж много», – словно оправдываясь, подумала она и почему-то доверчиво взглянула на командира.
2
Поле прошли спокойно. Неясные, расплывчатые тени скользнули по торчащему из-под снега жнивью и пропали в кустарнике на опушке леса.
Люди выпрямились: пока шли, всем хотелось быть как можно меньше, и поэтому все горбились; люди шумно и радостно вздохнули: пока шли, все невольно затаивали дыхание.
Лес показался милым и домашним. Терпко и свежо пахло смолой, прелыми листьями и тем необыкновенным – свежим, чистым и слегка горьковатым, – чем пахнет смешанный лес зимой.
Командир подозвал Севу и спросил:
– Ничего не заметил?
Сева помолчал, склонил голову набок и сознался:
– По-моему, фашистские патрули залегли.
– Похоже… Значит, заметили. – Командир помолчал и сказал: – Нужно проскакивать как можно скорее.
В просветах между деревьями звезды лучились ярче. Свет месяца зажигал на ветвях зеленоватые снежные огоньки, тонкими, слабыми лучиками пробивался сквозь сучья. Все казалось ненастоящим и почему-то радостным. И только мороз все настойчивей обжигал лица, и клубы пара изо рта оседали изморозью на капюшонах маскировочных халатов.
Бойцы приваливались к стволам и доставали папиросы, ожидая разрешения закурить. Минувшая опасность породила уверенность, что такое разрешение обязательно будет. Но командир резко сказал:
– Отставить! Нужно поднажать и проскочить лес.
Бойцы нехотя подобрали палки, на всякий случай ослабили крепления лыж, а папиросы спрятали под ушанки, у виска.
Ветер все увереннее раскачивал верхушки деревьев, они поскрипывали успокаивающе, солидно. Привычно шуршал снег под лыжами, и тело, втягиваясь в общий ритм движения, становилось легким, невесомым. Поэтому думалось легко и спокойно.
Валя думала о том смешном положении, в которое поставил себя командир, слишком затянувший принятие решения при выходе из оврага, думала о Севе. Она не знала, почему он так заботливо и так ласково относится к ней. У него есть девушка – тоже студентка. Черная, строгая, с тонкими губами и властными черными глазами. Однажды она приезжала к разведчикам, и Валя, проходя как-то мимо них, сидящих на диване в вестибюле, слышала, как она допрашивала Севу:
– Но ты не пьешь водку? Ты ведь понимаешь, что стоит только втянуться и ты рискуешь стать алкоголиком?
Валя не могла не засмеяться: Сева Кротов – алкоголик? Вот уж что действительно совершенно исключено.
Студентка осуждающе взглянула на Валю, на смущенного Севу и спросила:
– Но ты хоть немного занимаешься математикой? Нельзя забывать, что это все-таки для тебя главное.
Валя посмотрела на нее и поняла, что студентка просто хочет быть серьезной и строгой, больше ведь она ничем не может взять – худенькая, смуглая, высокая. Только одни глаза – большие, черные – можно было бы назвать красивыми.
Потом Валя с удовольствием рассматривала себя в большом зеркале. Высокий, без единой морщинки лоб, серовато-зеленые глаза под длинными ресницами. Прямой нос – тонкий и красивый. Хорошо очерченные, почти вишневые губы. Если бы они были бледные, вялые, то потерялись бы среди мягкого румянца на щеках. А так румянец только подчеркивал их свежесть и припухлость. Хороши и волосы – темно-русые, почти коричневые. О фигурке говорить нечего. Валя знает, что фигурка у нее хороша. Единственный Валин недостаток – маленький рост. Было бы лучше, если бы она была повыше. Но, в конце концов, это и не так важно. Она уже знала, что ребята не очень обращают внимание на рост – была бы хорошенькая.
Сева был некрасивым, но очень приятным парнем, спокойным, собранным. Возле него было уютно и бездумно. А он рядом с Валей всегда оживлялся и шутил – мягко и очень метко. Но он никогда не ухаживал за ней, как другие, не назначал свиданий в коридоре, не пытался подсадить на турник так, чтобы прижать грудь. Нет. Он просто был отличным товарищем… Только ли товарищем?
Валя опять и опять вспоминала мельчайшие подробности их отношений, взгляды, жесты, тон, которыми были сказаны те или иные слова, и от этого копания в прошлом она показалась себе очень старой, уже пережившей любовную трагедию и поэтому никогда-никогда не смогущей полюбить другого. Это опечалило ее, и она услышала поскрипывание стволов, шуршание снега. Стало совсем грустно, и она решила, что все эти мысли – чепуха.
Передние лыжники часто скрывались за деревьями, задние угадывались по сдержанному дыханию. Все было по-прежнему призрачно, как-то ненастояще, но уже не радостно, не празднично. Ощущение грусти усиливалось. Скрип стволов казался жалобным, предостерегающим. И само движение – молчаливое, торопливое – усиливало поднимающуюся тревогу. Валя старалась побороть ее, но тревога только росла, и Валя все чаще стала посматривать по сторонам и поэтому отставать. Шедший сзади Сева отрывисто шепнул:
– Нажми.
Она пошла быстрее и ударила палкой о ствол. Звук удара в морозном воздухе прозвучал очень резко, и она опять услышала собственное сердце.
С этой минуты все ее чувства обострились, и она, кажется, могла определить, какое дерево треснуло, чья лыжа скрипнула. Но думала она уже о бое. Думала отрывочно, неясно, совсем не так, как когда-то. Тогда бой представлялся ей чем-то стройным, стремительным. А сейчас он казался ей бесформенным, смутным, как это приглушенное движение в призрачном лесу. Страха она все равно не ощущала, потому что слишком долго внутренне готовилась к схватке, мысленно не раз убивала себя и примирилась с этим. Ведь она пошла не по приказу, а добровольно. Ведь ее не хотели брать – ей лишь недавно минуло восемнадцать лет, – однако она настояла: она комсомолка и не имеет морального права сидеть в тылу, когда Родина в опасности. Тем более она знает немецкий язык. И ей поверили так же просто, как она верила в то, что говорила.
Хотя ощущение тревоги все росло и усиливалось, а чувства обострялись, сознание того, что она поступила правильно, уходя на фронт (мелькнула даже мысль: «Что ж… я уже пожила, пора и заплатить по счету»), как-то успокоило ее, и она даже умудрилась, не отставая и не меняя ритма движения, поправить автомат, сдвинуть на живот гранатную сумку: бой мог начаться каждую секунду.
И он начался.
Начался как раз в ту секунду, когда его меньше всего ждали, – перед самой опушкой, отсвечивающей среди темных стволов полянки. Немцы пропустили разведчиков мимо себя и ударили плотным автоматным огнем в спины. Валя помнила, что она прежде всего освободилась от лыж и, отбросив их, сразу же утонула в снегу. Она видела пульсирующие струйки голубовато-оранжевого пламени, молниеносные росчерки трасс. Потом она увидела, как пошатнулся стоящий перед ней Сева, как он рванул на себе маскировочный халат, и в следующее мгновение почувствовала, что он упал на нее, вздрогнул и, вдавливая ее в мягкий, сыпучий снег, затих.
Все произошло слишком быстро, чтобы она могла понять что-либо. Она лежала на спине, и на ней лежал тяжелый, обмякший Сева. А лес гудел выстрелами, хрипом и руганью. И эта ругань слегка отрезвила ее. Она попыталась сдвинуть Севу, приподняться и не смогла. Она слышала, как стучали автоматы, как звонко лопались разрывные пули, попадая в деревья, и как глухо звучал их разрыв, когда они попадали в тело. И то, что она поняла это, ужаснуло ее.
Ей казалось, что прошло очень много времени. В борьбе с мертвым Севой она обессилела. Внезапно наступившая тишина испугала ее еще больше, чем выстрелы. Она поняла, что все кончено. Ею овладело полное безразличие, и только боль в неестественно подвернутых ногах напоминала, что она жива. Потом пришло яростное, бешеное возбуждение.
Она должна выбраться из-под мертвого! Она должна драться!
Валя выпростала одну ногу, потом вторую и начала нащупывать под снегом твердую землю, чтобы опереться руками и сбросить мертвого. Но когда правая рука наконец добралась до земли, рядом раздались возбужденные голоса, выстрел, потом второй, третий. Валя замерла. Стреляли из пистолетов. Немцы разговаривали все смелее и даже смеялись. Прислушиваясь к их разговору, Валя поняла, что они ищут недобитых, беспокоятся, не ушел ли кто в лес. Вскоре она услышала, что лыжных следов, идущих в сторону, немцы не нашли. Значит, погибли все. Валя бессильно обмякла. Севин труп шевельнулся, и Валя услышала, как какой-то немец обрадованно сказал:
– Еще трепыхается…
Тотчас же раздался выстрел. Пуля разбила череп Севы и прошла рядом с Валиной головой. Но, даже мертвый, Сева снова прикрыл ее собой.
Потом все тот же немец громко сказал: «Они без документов – разведчики». Вале стало ясно, что немцы уже обыскали трупы и теперь, наверное, не найдут ее, вдавленную в пушистый, глубокий снег.
Она лежала под трупом, то загораясь от неясной надежды, то холодея от ужаса, совершенно отчетливо чувствуя, как волосы на голове шевелятся, словно в них забрались муравьи. Кожа, особенно на висках, почему-то воспалилась, и в затылке огнем жгла медленно блуждающая точка. Это жжение становилось все нестерпимей, все ужасней. Оно заполоняло мозг, и он, казалось, начал трепетать. Это было так страшно, так противоестественно, что Валя не выдержала. Она хотела закричать пронзительно, бездумно – так кричат только сумасшедшие:
– Аа-а-а-о-о-аа-а!
Но она не закричала, а замычала – ей не хватало воздуха.
Она рвала и грызла Севин маскхалат, раскачивала Севу и наконец столкнула его с себя, поднялась и бросилась было в лес, но затекшие ноги не слушались. Она упала лицом в снег и затихла. Ее била мелкая дрожь, во рту было горько, но огненная точка в затылке исчезла, и мозг успокоился. Валя прислушалась к самой себе и постепенно стала понимать, что жива.
Это подняло ее на ноги.
Брезжил рассвет. Деревья стонали и натруженно скрипели. Снег кружился между ними и медленно, устало оседал на ветки, на сугробы, на трупы в белых маскировочных халатах. Запорошенные снегом пятна крови на них стали серыми.
Проваливаясь в сугробы, дрожа всем телом, Валя пошла от трупа к трупу. Они лежали так же, как шли живыми, – цепочкой, змейкой, и почти у всех на белых капюшонах чернели входные отверстия пуль. Немцы были аккуратны. Они для верности простреливали головы даже мертвым. И никого, никого не пожалели.
Валя вспомнила страшные звуки: звонкий разрыв – в дереве, глухой – в теле. Огненная точка в затылке разгорелась, испуганная Валя закричала в голос и упала в снег.
3
Елена Викторовна Радионова всегда подчеркивала, что она из хорошей семьи. При этом она подтягивала живот, выставляла вперед грудь, как солдат по стойке «смирно». Тонкие, уже желтеющие пальцы она крепко сжимала, так что белели суставы, и помещала их между грудью и животом. Седая, все еще красивая голова откидывалась несколько назад, и глаза смотрели строго, испытующе. Елене Викторовне казалось, что эта поза лучше и надежней, чем слова, утверждает значимость «хорошей семьи» – с достатком, со своим московским домом, своим кругом знакомых (она очень любила эти слова: «В нашем кругу», «Человек моего круга»). Но она умалчивала, что собственного дома у них никогда не было, что отец ее был консисторским чиновником, а после революции счетоводом, что он не любил мать, которая умела приторговывать из-под полы.
Но Елена Викторовна отмечала, что отец очень ее любил. Поэтому он покупал ей очаровательные вещицы, которые однажды чуть не погубили ее.
Возвращаясь с Кузнецкого моста, она шла мимо Малого театра. Ее остановил рослый парень и попросил уделить ему минутку. У него были такие отчаянные глаза, что Леночка подчинилась. Они отошли в сторонку. Подошли еще двое, деловито притиснули Леночку к облезлой стене и, деланно, громко смеясь, стали ловко и привычно выворачивать ее карманы, снимать сережки. Она оцепенела от страха, от неожиданности и даже пыталась улыбнуться, но закричать не могла.
Парни уже кончили свое дело, когда к ним подошел четвертый – слегка скуластый, остроносый, с прекрасно очерченными губами и нежным, матовым румянцем на щеках. Из-под лихо заломленной солдатской фуражки выбивался темно-русый чуб. Не вынимая правой руки из кармана шинели, он спокойно сказал:
– Отставить. Положить на место.
Парни сразу поняли, в чем дело, и один из них коротким, отлично отработанным приемом ударил розовощекого головой в лицо. Заливаясь кровью, тот отшатнулся. Трое оставили Лену и бросились наутек. Розовощекий быстро оправился, настиг одного и сбил с ног ударом левой руки, потом выхватил из кармана наган и выстрелил вверх. Второй покорно и привычно остановился. Третий все-таки удрал. Прибежал милиционер, собралась публика, пошли в милицию составлять протокол. Сережки пропали, часики и деньги остались. Леночкиного спасителя звали Виктором, и она увидела в этом предзнаменование. Виктор проводил ее домой, зашел выпить чаю, познакомился с отцом и сразу же подружился с ним.
Отца подкупила необычность его биографии: воевал в Красной Армии, был командиром и вдруг демобилизовался, собираясь стать актером. Глаза отца влажно заблестели, он сбегал к швейцару и притащил самогонки. Подвыпив, отец вдруг рассказал незнакомому человеку то, что он скрывал от всех, – как, мечтая играть на сцене, стал чиновником консистории.
Потом охмелевший отец заснул, и Лена отчаянно целовалась с Виктором. Через пять дней она сказала матери, что вышла замуж. Мать возмутилась. Виктор решил:
– К черту. Надо уходить.
Они ушли и зажили своей жизнью. Она была интересной. Виктор поступил в театр, имел успех. Елена Викторовна была занята дочкой, новым блестящим, обществом, в котором не стеснялись щеголять дворянским происхождением и рассказами о былой, привольной жизни. У Елены Викторовны не было такого прошлого, и она, вначале бессознательно, словно защищая положение мужа, стала выдумывать свою биографию. Отец превратился в гражданского генерала, а мать чуть ли не в миллионершу. Это было так красиво и заманчиво, что Елена Викторовна, ловко перелицовывая на свой лад услышанные от знакомых рассказы, в конце концов сама поверила в них. И чем дольше жила, тем больше верила.
Виктор Иванович, казалось, не замечал этих превращений. Он все сильнее привязывался к дочке, стал брать ее на репетиции в театр.
Валю ошеломили огромные холодные кулисы, пыль, странный запах клея, краски и старого тряпья. Она забилась под исцарапанный рояль и молча смотрела, как ее отец превращается из усталого и немного печального в веселого и бесшабашного моряка-«братишку». Это превращение захватило Валю. И вдруг прекрасную сказку нарушил лысый капризный человек. Высоким фальцетом он закричал:
– Не так, Радионов! Не так. Ведь это бездарно, – и страдальчески поморщился.
Виктор Иванович опять стал самим собой – усталым и печальным. Он отошел за кулисы, но вскоре вернулся. Он опять был «братишкой», весело пел «Яблочко», но двигался разухабистей и часто сплевывал. Вале не совсем понравился этот «братишка». Он напоминал ей тех дядей с бульвара, которые постоянно мешали играть Вале и ее подружкам. Но лысый человек опять закричал фальцетом:
– Поймите же, Радионов, вы должны играть революционного матроса. Это колосс, поднявшийся над условностями мира. Его душа – как море. Он – вне мира. Он – над ним. Он плюет на всех и вся. Он топчет проклятый мир, презирает и ненавидит его. А выиграете слюнтяя. Вы органически не можете войти в роль!
Впервые Валя увидела отца злым. Румянец пропал, глаза стали узкими, холодными. Голос звучал металлически, звонко.
– Вы ошибаетесь, товарищ режиссер. Революционный матрос – человек. Он не будет плевать на мир.
– Перестаньте читать политграмоту! – закричал лысый. – Мне совершенно безразлично, кем вы были и где вы там воевали. Вы бездарны в искусстве. Вы не умеете воплотить мой замысел. Вы мешаете искусству. Вам нужно понять, что вы мешаете мне…
– Вы мне тоже, – сказал отец.
Валя выскочила из своего укрытия, бросилась к отцу и обняла его за дрожащую ногу. Он поднял Валю, и она увидела, что в его таких милых, таких прекрасных серых глазах собираются слезы. Она заплакала. Отец дрожал.
Они пришли к дедушке. Отец с дедушкой пили водку, и Валя сидела на коленях то у одного, то у другого. Дедушка, который давно уже был членом профсоюза совторгслужащих, стучал по столу и кричал:
– Нужна еще одна революция, чтобы убрать эту пакость. Как поганки, расплодились!
– Папа, – сказала Валя, – а ты не ходи больше туда. Почему он так кричит?
Отец печально улыбнулся. Дедушка опять стукнул кулаком по столу:
– И верно! Хватит с ними возиться. Верно, внучка! Им не искусство нужно. Им опять хозяйчика захотелось.
Отец ушел из театра. Елена Викторовна вначале отнеслась к этому снисходительно. Все-таки ее муж коммунист. Ему дадут подходящую должность, и все будет в порядке. Но отец неожиданно поступил на завод, и Елена Викторовна растерялась. Одно дело быть женой актера, другое – слесаря. Она почувствовала себя не только обманутой, но и оскорбленной. Пропадало ее «блестящее» прошлое, ее «хорошая семья».
Валя не понимала этого. В школе она знала, что быть дочерью рабочего даже более почетно, чем дочерью актера или учительницы.
Однажды после очередного скандала отец ушел и больше не возвращался. Елена Викторовна плакала, тискала дочку, ругала мужа, и Валя затаила все усиливающуюся боль отчуждения от матери. Отца, оказывается, снова призвали в армию, и он служил где-то на Дальнем Востоке.
Как раз в это время Елена Викторовна научилась подбирать живот и выпячивать грудь, как солдат по команде «смирно». Не смущаясь тем, что сама развелась с мужем, она ревновала его к дочери, потому что он писал Вале милые и смешные письма, а ей только высылал деньги.
Валя видела, что на той самой подушке, где лежала темно-русая голова отца, последовательно появлялись три другие головы – светло-русая, вланжевая, как насмешливо определила ее цвет Валя, лысая и иссиня-черная. К этому времени у Вали появилась сестренка. Валя откровенно невзлюбила мать и старалась во всем досадить ей.
Елена Викторовна считала дурным тоном шумное веселье и песни. Валя старалась шуметь и как можно больше петь. Как нарочно, у нее оказался хороший голосок. Елена Викторовна считала гитару пошлостью, Валя настояла, чтобы дедушкину гитару не продавали, и выучилась играть на ней – у нее был приличный слух. Елена Викторовна считала, что ей нужно знать французский язык, и даже нашла для нее учительницу. Валя стала лучшей ученицей по немецкому языку. И так во всем.
Но младшую сестренку она неожиданно полюбила и возилась с ней постоянно. И Наташка тоже полюбила сестру, потому что дети любят тех, кто с ними возится. Между дочерью и матерью началось ревнивое, страстное, глухое соревнование. И Елена Викторовна впервые задумалась.
Она уже не могла избавиться от выдуманной ею биографии, потому что о ней знали слишком многие, но она поняла, что жизнь просмотрела. И тут только заметила, что Валя разительно похожа на своего мягкого и упрямого, грустного и веселого отца, а заметив это, поняла, что любила она только одного его, а все остальное – ложь. Ложь самой себе, окружающим, дочери…
Тогда она заново полюбила дочь, полюбила в ней Виктора, своего отца, полюбила все то лучшее, что было в ней и что перешло к дочери.
Но Валя не могла ее полюбить. Елена Викторовна не понимала, что дети могут простить все: опорки и немазаную картошку, холодную квартиру и латаные штанишки. Они простят даже отказ в деньгах на кино и на ириски. Простят и, когда вырастут, будут гордиться трудными днями и любить своих родителей за то, что они сохранили в них главное – чистое сердце.
Но дети никогда не простят лжи, кривлянья. Даже тогда, когда лгущий родитель сам верит своей лжи. А женщины забывают, что дети не жалеют матерей. Они следят за ними ревниво и настороженно, всегда и везде. Жизнь матери – это постоянный экзамен перед людьми и, главное, детьми. Они не прощают матери ни одной слабости, ни одного увлечения. Годы смещают понятия, но главного – любви, уважения – они не приносят.
Елена Викторовна не могла понять Валю. Но она чувствовала женской, даже под слоем лжи и житейской накипи матерински тонкой душой, что Валя права. И она покорилась дочке. Валя стала хозяйкой дома. Она командовала матерью, грубила ей, ругала за невнимание к Наташке.
И только однажды Елена Викторовна попробовала взбунтоваться.
Это было в 1938 году. Неожиданно иссяк ручеек папиных денег и писем. Елена Викторовна привычно возмутилась. Но вскоре узнала, что Виктор Иванович исключен из партии и арестован. Ей не сказали за что – ведь она была разведена с ним. Елене Викторовне показалось, что и это несправедливо: речь шла о ее бывшем муже. Она дошла уже до того периода своей жизни, когда с удовольствием могла бы и пострадать. Как раз в эти дни у нее появился новый жест – до боли сжимать пальцы в кулачки и прижимать их под выпяченной грудью.
Наконец, настрадавшись, она торжественно сообщила дочери:
– Ты знаешь, что твой отец – государственный преступник?
Валя знала и уже сообщила об этом в комитет комсомола, где после долгих споров ее – безмолвную, с запавшими глазами – решили оставить в комсомоле. Ведь она жила с матерью, а отец – это же знали все – бросил их. Но Валя поднялась и сказала, ни на кого не глядя:
– Как хотите, а я не верю, что отец враг народа. Не верю, и все.
В комитете долго спорили, но все-таки вписали ей строгий выговор за недостаточную политическую стойкость. На этот раз она промолчала. Она уже понимала, что личные чувства и сомнения нельзя переносить на общественные дела. И хотя отношение к ней почти не изменилось, Валя болезненно ощущала это «почти». Но она не обиделась. Она понимала, что, будь она на месте товарищей, у нее было бы свое «почти».










