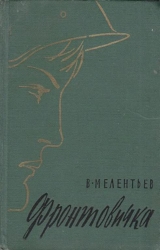
Текст книги "Фронтовичка"
Автор книги: Виталий Мелентьев
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 21 страниц)
Я как увижу это, так у меня все внутри переворачивается. Как же это, думаю, так? Мою и кто-то другой приголубливает. Днем еще ничего. Старики меня гоняют, покоя, роздыха не дают, а как лягу, ну, не могу спать. Вьюном по сеннику вьюсь, как червяк под лопатой извиваюсь. Как представлю, что у нас с ней было, как подумаю, что в этот же самый час такое же у нее с другим идет, веришь, Валя, волосы кровью наливаются, дыбом встают, до подушки не дотронешься, а в затылке, как, скажи, огнем кто жжет.
– А… в затылке?.. – испуганно вскрикнула Валя.
Старший сержант будто впервые увидел ее, уже лежавшую на животе, с аккуратно разведенным по обе стороны бедер снаряжением. Даже в зеленоватой темноте хорошо были видны ее широко открытые, испуганные глаза, реденькая челочка. И все ее тонкое девичье лицо казалось таким жалким, тронутым такими горестями, углубленными неясными тенями, морщинками, что Осадчий запнулся и подумал: «А может, не стоит бередить ей душу?» Но потом решил: «Стоит!» – и кивнул головой:
– В затылке. Жжет – и удержу нет.
Воспоминания опять нахлынули на него, и он, увлекаясь, заговорил все тем же, необычно чистым для него, почти свободным от привычных словечек языком.
Валя придвинулась ближе и, заглядывая ему в лицо, подперла голову ладонями.
– И вот тут я, Викторовна, прямо-таки с ума сошел. Драться начал. Как увижу кого с разлюбезной моей, так драться. Ну, раз побил, другой раз побил, а потом меня волтузить начали. Ободранный хожу, побитый, в синяках, а дома еще отец подбавляет. Как чуть что не по его, так сейчас ремнем и смажет, а то и просто затрещину влепит: «Не порти чужую жизнь, не лезь, куда не просят». И смех и грех. Ведь здоровый парень был, а отцу поначалу не перечил. Молчал. А потом до того дошел, что и на него с кулаками полез. А он мужчина крепкий, не мне чета. Это я в детстве глотошной болел, думали, не выживу, и потому по сравнению с отцом или с братьями вроде недоросточком вышел. Так вот и про это забыл. Полез с отцом в драку. Почитай часа два с ним, как два сохатых, толклись. Морды в крови, тело ноет, дышим так, что, наверно, на перевале слышно, а не покоряемся. Старших братьев не было, так мать вокруг нас бегает, то плачет, то озлится и кого попало – то меня, то отца – палкой, которой всякую рухлядь перед зимней закладкой выбивали, дубасит. Бьет, бьет, устанет и давай в голос реветь.
Соседи, правда, поглядывали, но решали так: двое дерутся – третий не мешайся. Не убьют, дескать, друг друга, а раз так, что ж… дело семейное. Додрались мы, Викторовна, до того, что оба на ногах стоять не можем.
Растащила нас мать, приголубила палочкой, а мы и отругаться не можем, сипим только, да и все. К вечеру братья сошлись. Было меня не убили, да отец не дал: наше, говорит, дело. Сами разберемся. Ну, мы пока лежали, мать все время пропадала. Потом стала спрыскивать меня святой водой – разжилась где-то. Выскребся я после этакой драки на улицу, а на меня все пальцем показывают и смеются. Как же меня только не называли: и прибитком, и порышом, и семискульным – это у меня на морде столько шишек повспухало, – и еще пообидней. Может, потому, что много уж слишком прозвищ понадавали, ни одно так и не привязалось. Да…
Затылок у меня после драки вроде прошел, волосы поулеглись, но расчесываться, однако, больно было, так кудлатым и ходил. А на сердце лег тяжелейший камень и давит. Это правду в песнях поют, что, дескать, камень на сердце. Я сам такой носил. И от того камня стал я как будто порченый. И с лица спал, и умом тронулся. Что ни скажут сделать – забуду. Начну работать – брошу все, уставлюсь в одну точку и стою, как баран. Отец махнул на меня рукой, кряхтит, а и за меня и за себя воротит. И вижу я это, а сам думаю: «Ну и пусть, пусть. Раз я никому не нужный…»
Валя вздохнула и закрыла лицо руками. Осадчий не видел этого. Он смотрел в чащу леса, где медленно кружили нечеткие, смазанные тени от деревьев, – над близкой передовой стали взлетать осветительные ракеты. Движение этих теней, бесшумное, призрачное, чуть освеженный вечерним холодком, но все еще застойно-пьяный воздух, неумолчный, натруженный гул самолетных моторов, который как бы заглушал истеричные автоматные трели, – все входило в души и делало их чуткими.
– И вот в такой час мать меня и уговорила сходить к семейским. У нас, в наших то есть местах, церквей или, скажем, молелен почти что и нет. Народ у нас все больше ссыльные, золотишники, таежники – крутой народ, тертый, до бога не очень ласковый. А вот у семейских, это у староверов нашинских, у тех всё чин чинарем – и молельни, и святые, и все такое. Ну, скажи мне мать, что лезь ты, Андрюша, в преисподнюю и достань хорошую сковородку, которую грешники лижут, я б в тот час полез бы. Мне ведь все равно было. Пошел я к семейским. Они недалеко жили. Село у них богатое, народ они справный, сытый. Да и то сказать, табаку не курят, вина не пьют, чего ж им болеть-то? Ну, волховали надо мной какие-то там ихние святые. Спрыскивали и с уголька, и со святой лампадки, и еще чего-то делали, а я говорю те слова, что они мне подсказывают, а сам думаю: «Ну и пусть, ну и пусть. Никому я не нужный».
До того я, Викторовна, вбил эту блажь в свою постылую голову, что на второй день ходки домой решил: чем так маяться – лучше сгинуть. Иду и приглядываюсь, куда свою ненужную жизнишку сунуть. В ту ночь даже костер не разжигал, может, думаю, сонного либо медведь задерет, либо рысь обласкает. Так нет же, медведь в ту пору сытый, да он и голодный на человека в редкости нападает, а рыси, как назло, не попадалось. Встал я на третий день и пошел тропой. А красота кругом такая, Викторовна, что вам, людям российским, даже в самом расхорошем сне не приснится. Тайга кругом чистенькая, будто выметенная, подстилочка в ней сладкая от ягоды всякой, кедры, как, скажи, в театре каком заграничном, в высоту уходят, лиственницей так пахнет, что аж голова кружится.
А мне, понимаешь, не до красоты. Я себе другое место выбираю и выбрал под конец. Тропка голец огибала, что как чертов палец небу грозился, а под тем пальцем каменья осыпью накатились и речушке дорогу-то и преградили. Вода рассердилась, бьется и через ту запруду вниз кувырком летит. Шум стоит глухой, сердитый, а в струйках, понимаешь, птички купаются. Серенькие, юркие. Нырнет в воду – и пропала. Потом опять появилась. И шум этот, и птицы эти совсем меня с толку сбили, и полез я на тот голец. Лез и думал: «Сигану вниз, на каменья, и – дело верное. Не разобьюсь, так утону». Сам, понимаешь, не в себе, а все ж таки примечаю: здесь до меня кто-то прошел. И неумелый. Потому и осклизи на траве есть и заломки на кустишках. И вот что смешно: ведь умирать же лезу, а как увидел следы, так ружьишко свое все-таки из-за плеча на руку перекинул. Может, дескать, обороняться придется – в тайге иной раз с лихим человеком встретиться не диво. Особенно в такую вот предосеннюю пору. Видать, жизнь из меня не насовсем вышла.
Да-а. Ну, поднялся я на приступочек такой, снизу он вроде и незаметный был, осмотрелся и встал. Стоял, стоял, глаза протер, головой, как оглушенный, помотал и опять смотрю и думаю: «Ну вот, Андрюшка, и готовый ты. С ума начисто спятил». И глаз прикрою и другой зажмурю – нет, не проходит наваждение, сидит на той приступочке моя разлюбезная, спиной к гольцу привалилась и смотрит на меня жестокими, сухими глазами.
Долго мы молчали, друг на друга глядючи, но первый, однако, я не выдержал. «Ты?» – спрашиваю. «Я», – отвечает. «Чего ж ты тут делаешь, на верхотурье-то?» – «Да вот тебя, дурака малахольного, ожидаю». Я даже вспотел разом и не то что говорю, а вякаю: «А чего ж ты наверх-то влезла?» – «А чтоб тебя не проглядеть, отсюда больно шибко видно». Огляделся я и понял: с того гольца вся-то тропка на полдня дороги просматривается.
Опять мы молчим. А у меня, Викторовна, в сердце камень-то мой прямо жерновом кружится, и трет, и мелет, и скрипит. В голове тоже круги какие-то кружат. Вот тут я и теперь толком не знаю, что произошло. Помню, что закричал я, а уж как очнулся, голова у нее на коленях, глаза ее, как электрические, надо мной висят, и слова она выговаривает такие необыкновенные, что у меня волосы опять кровью наливаться стали. Но глаза у нее уже не сухие, а такие…
Над лесом с воем пронесся одинокий снаряд, разорвался возле дороги, выхватив из лесной гущины кроваво-красные просветы, и заполнил лес раскатистым густым эхом. Андрей Николаевич торопливо стал свертывать цигарку и только после того, как прикурил и дождался, когда у дороги разорвался второй снаряд из обязательной вечерней серии, продолжал свой рассказ.
– Вот, говорят, Викторовна, с милой рай в шалаше. Ну, так у нас и шалаша не было. Так вот на той гольцовой приступочке, голой да узкой, и разыскал я свое счастье. Вода внизу шумит, по бокам тайга подшумливает, по ночам сохатые орут дурным голосом, всякая мелкая животная перепискивает, а мы, веришь, Викторовна, как не от мира сего. А не думай, что там один только рай был. Там и такой ад случался, что и сейчас вспомнить страшно: то она меня моими вдовами начнет попрекать, то я ей ухажеров припомню. И боль тут была невероятная, и радость необыкновенная, это как оба поймем, что ошибаемся. Все тут было…
Вот так мы и прожили на той приступочке до той поры, пока продукты из ее и из моей котомок не кончились. А потом пошли домой. Рядком, ладком, как голуби. Приходим, а в домах у нас полное представление. Ее брат моему старшему голову проломил, мой меньшой ее среднему руку поломал, а все остальные родичи в синяках и отметинах. Это, значит, как мы пропали, ее-то семейство на меня все списало: он, дескать, варнак, ее до этого довел. А мое семейство – на нее все валит: она его с ума свела. Ну, а тут мы заявляемся – тихие, мяконькие, из стороны в сторону от любви и голодухи качаемся…
М-да… Ну вот, лежал я в ту самую ночь, вспоминал все это, и, скажи, меня как озарило: вот, думаю, почему моя старая с той самой гольцовой поры меня не очень-то привечает. Уж что ни сделаю, как ни отличусь, а все у нее в глазах подозрение, все в них не только ласка горит, а есть еще и другие подпалинки. Недобрые. Ну, я ее задком маленько толканул и спрашиваю: «Ты, говорю, так на всю жизнь и не можешь простить моих прегрешений?» Слышу, напружинилась вся, вот-вот кинется, как кидалась, когда спьяну шабаршить начну, но ничего, не кинулась, а тихонько так сказала: «Нет, не простила…» Таково меня в ту минуту зло вскинулось, что я тебе и передать не могу. Как взрыв. «Так какого ж, говорю, тогда ты черта со мной столько лет рядом валяешься, детей мне столько нарожала?» – «Я же тебе сразу, Андрей, сказала: не понимаешь ты женской души. Ни капельки не понимаешь. На любовь ты мою наплевал, грязью ее залил и, можно сказать, любовью той и не попользовался. А вот как пожалела тебя, так ты и с копыток долой».
Не понял я вначале, но сразу почуял: верное в ее словах есть. Есть верное! Стал добиваться. Она молчала, молчала, все сучок в бревнышке ковыряла, а потом повернулась ко мне и говорит: «А вот, Андрей, пойми ты хоть на старости лет (а мне в ту пору еще и сорока-то не было): любовь – это штука не только гордая. Она для любимого ничего, самой жизни не жалеет… (А я про себя ухмыляюсь горько: знаю, дескать, зачем на голец лез…) И любимый всегда тебя лучше. А вот когда к любви жалость примешалась, тогда любимый твой навсегда тебе слабеньким кажется и всегда похуже тебя. Вот почему я и говорю тебе: той любви, что ты во мне испохабил, я тебе по гроб жизни не прощу, и какой бы ты что ни на есть распрекраснейший для других ни был, а для меня ты всегда жалкенький, и всегда я на тебя, как на дитенка, смотрю: не натворил бы чего, прости меня грешную». Как огрела она меня такими словами, я до утра сам не свой лежал. А под утро спрашиваю: «Кого, говорю, мать, делать будем…»
Андрей Николаевич примолк, смущенно кашлянул и разъяснил:
– Это у нас в Забайкалье так говорят, Викторовна. Вместо чего – кого. Кого ешь, кого делать и всякое такое. Я тебе скажу, что с тех пор как мы с женой из своей станицы ушли, а это вскорости, как поженились, потому что семьи никак помириться не могли, я от того языка отвык маленько, все больше с приезжими, с переселенцами жил. Да вот и в армии совсем уж разговор переиначил, но, однако, нет-нет да и сорвется.
Да-а, ну, спрашиваю ее, а она и говорит: «А что же делать, бога молить нужно, чтоб все обошлось. Первая это у нее любовь, а она может и последней быть». Э, нет, думаю. Чтоб моя дочка да такие страсти, как мы с матерью, терпела – не будет этого. Это мы подурнее были, а ведь дочка-то в десятом классе учится. И поскольку женскую душу в ту ночь я достаточно понял, я на следующий день дочке вот так вот, как тебе, всю свою пропозицию и рассказал.
Она слушала, слушала, а потом и мне все рассказала: летчик он, дескать, почту возит. Ну, знал я его, хороший парень, но гонористый. И еще мне доказала, дескать, уговаривает он, что регистрироваться по нынешним временам вовсе не нужно, была бы, дескать, любовь. Э, нет, думаю себе. Я сам такие слова, но на другой лад выпевал, когда меня счастье нянчило. К дочке моей так ты не подъедешь.
Я тогда ей и сказал то, о чем моя-то разлюбезная только намекнула, а именно: любовь – она гордая. Она стлаником не стелется. Ну, а народ теперь другой. Дочка быстро поняла. Вот перед самой войной и поженились они со своим летчиком. Ну, выпить он оказался не дурак и как-то мне и признался: «Уступи мне, говорит, она в ту пору – бросил бы. А так не могу. Вижу, характер настоящий. Такой в жизни верить можно». Вот такие-то дела, Викторовна. И ты извини меня, может, я и грубо сегодня поступил, но только я видел: не в себе ты эти дни ходишь, и до греха, от которого вся жизнь может быть сломлена, тут, по-моему, недалеко было…
Огонек цигарки выхватил из темноты вислые усы Андрея Николаевича, его скуластое, тронутое резкими морщинами лицо. Валя встала на колени, на коленях заползла ему за спину, обняла его за шею и крепко прижалась к его широкой, мерно колышущейся спине. Все она поняла, все уже знала, и ей не хватало только слов, чтобы сказать что-нибудь очень хорошее этому человеку – не мужчине, не командиру, не товарищу по опасной работе, а просто человеку.
Они молчали. Их осторожно обходили рожденные ракетами тени, над ними все так же летели самолеты и с ласковым, шепелявым присвистом проносились снаряды. Андрей Николаевич начал натруженно сопеть, тело у него налилось и набрякло. Он осторожно пошевелил плечами и попросил:
– Ты это брось… А то знаешь… Не старый я еще… Не нужно…
Валя не могла понять его намеков, она все еще находилась в состоянии внутреннего очищения и просветления, очень похожего на то, в котором она была в дни, когда поняла, что страшная точка в затылке ушла и не вернется. Но она покорно отстранилась от Осадчего, отметив, однако, что ее ласковый порыв не принят. Но эта отметина быстро забылась, хотя и осталась зарубкой на будущую жизнь.
В ту ночь она неожиданно заснула и проснулась странно легкой и светлой. Даже Лариса заметила это и, как всегда, хмуро, придирчиво буркнула:
– Ты сегодня, как старуха после причастия, – тихая уж больно. – И, вздохнув, добавила: – Об Онищенко не думай, женился он недавно.
Валя промолчала.
7
В поиск по захвату контрольного пленного пошли два взвода дивизионной разведывательной роты.
Один взвод назывался группой захвата и должен был ворваться в траншеи противника, принять бой, захватить пленного либо на основном объекте – дзоте, либо на одном из запасных и под прикрытием второго взвода и средств усиления отойти к своим позициям. Этот второй взвод был разбит на несколько групп прикрытия и обеспечения, в которые вошли не только разведчики, но и саперы, пулеметчики, артиллерийские и минометные наблюдатели.
План поиска был прост и сложен.
Вся поисковая группа вначале выдвигается по проделанному немцами проходу у высотки, потом круто поворачивает вправо между установленными в шахматном порядке минами и атакует противника с самого центра минного поля. Пока будет идти бой в траншеях, а этот бой казался неминуемым, потому что противник укрепился отменно, саперы проделают новый проход в минном поле, по которому и отойдет потом группа захвата.
Вале Радионовой и Андрею Николаевичу Осадчему отводилась довольно скромная роль – провести одну из групп обеспечения к своим окопам, потом выдвинуться вперед и вести обычное наблюдение и подслушивание. Однако на этот раз им был придан связист, который при нужде должен подавать сигналы не голосом, а иным, специально изобретенным на этот случай сигналом. Если же дело обернется не так, как предполагалось, «слухачи» и связист со своим телефоном станут передовым наблюдательным пунктом, а также запасной обеспечивающей группой.
Чтобы прикрыть выдвижение большого количества разведчиков, несколько ночных легкомоторных бомбардировщиков, или в просторечии «кукурузников», должны были совершить налет на весь этот участок. Известие это обрадовало разведчиков, но радость была омрачена: прошел слух, что «кукурузники» – из женского гвардейского полка.
– Ну, эти по целям много не наработают. По площади еще так-сяк…
Валя была оскорблена этими замечаниями и поэтому на обычный перед разведкой вопрос, не имеет ли она жалоб и может ли принять участие в поиске, ответила вызывающе:
– Я еще никогда не отказывалась!
Она знала, что несколько бойцов и один командир отделения из взводов сказались больными. Их никто не упрекал, но Валин намек поняли, и общего настроения он не улучшил. Осадчий отвел ее в сторону и спросил:
– Ты что-то уж слишком ершистая. Может, подумаешь? Время для отказа еще есть.
Теперь она не могла сердиться на старшего сержанта и, промолчав, тихонько, мстительно улыбнулась.
Еще с утра яркие голубые пятна неба меж потяжелевших, с серыми боками кучевок были подпачканы стрелками перистых облаков. Еще выше самолет-разведчик оставил за собой мерлушечью стежку инверсии. После полудня голубые пятна почти исчезли и кучевые облака спустились ниже. Разведчики ворчали:
– Везет бабам – как на задание, так погода нелетная.
Но предстоящему дождю радовались: больше темного времени, больше звукомаскировки.
В сумерках под первыми теплыми каплями неспешного, уже летнего дождичка стали выдвигаться на исходные позиции – в траншеи переднего края. И тут произошла первая заминка. Осадчий наотрез отказался идти с мешковатым молодым связистом.
– Не пойду – и точка. Лучше сами двинемся.
Валя не понимала, почему Андрей Николаевич восстал против в общем симпатичного и сейчас очень смущенного паренька. Связист вызвался идти на опасное дело добровольно, он комсомолец, дело свое знает.
– Вид у него не солдатский, – отрезал Осадчий. – Не пойду с таким. Прошляпит.
Вид у связиста был действительно не солдатский: грязная, тронутая варом пилотка с отогнутыми краями, – видно, по ночам грел уши; косо привязанные, тоже в пятнах вара, погоны; сползший на живот брезентовый ремень с подсумком, гранатами и лопаткой в плохоньком чехле; давно не чищенные, хотя еще и новые сапоги.
– Разгильдяй! – сдержанно кипятился Осадчий. – Он и в бою что-нибудь перепутает. У него вон и в шароварах-то один звон…
– Запасное… все, – пробормотал вконец смущенный связист и зарделся.
Осадчий уничтожающе взглянул на него, и связист стал торопливо вытаскивать из карманов мотки проволоки, плоскогубцы, отвертку, изоляционную ленту, винтики, гаечки, какие-то части полевого телефона, карманный нож и еще нечто неопределенное. Смущенный, суетливый, он походил в эту минуту на мальчишку, и, глядя на его богатства, Валя сразу поняла, что связист и в самом деле очень молод.
– Ведь мало ли что в бою может быть, – лепетал он. – Пригодится… Отремонтирую…
Глаза у Осадчего потеплели, под усами легла усмешка, но сказал он все так же сердито:
– Нет, парень, до разведки ты еще не дошел. Подрасти маленько.
У пария покраснели шея и оттопыренные, большие уши. И тут только все трое заметили, что рядом стоит старший лейтенант Кузнецов, как всегда спокойный и слегка насмешливый.
– А кого ж ты возьмешь, Андрей? Время-то не терпит…
– Там, товарищ старший лейтенант, на минометном, есть парень подходящий…
– А он пойдет?
– Я сам договорюсь. А этот за него подежурит. Он ничего, старательный. Только до разведки еще не дорос.
Кузнецов молча кивнул:
– Десять минут.
– Слушаюсь. Пошли.
Втроем они разыскали наблюдательный пункт минометчиков, и Андрей Николаевич с ходу предложил широкоплечему, сумрачному связисту:
– Понимаешь, Женя, дело серьезное, можно сказать, смертельное, а у нас связиста подходящего нет. Может, пойдешь с нами? Я тебя, однако, крепко прошу…
Связист Женя пожевал губами и, не глядя на Осадчего, уточнил:
– К проволоке поползете?
– Ага. К немецкой.
– У меня, понимаешь, автомата нет…
– Достанем. В третьем взводе возьмем, они все равно на прикрытии стоят.
Женя опять что-то прикинул в уме и сумрачно буркнул:
– За меня этот останется? Справится?
Связист хотел было что-то сказать, но Осадчий перебил его:
– Он старательный. Справится.
– Лейтенант знает?
– Старшой или майор прикажет.
Женя погладил небритый подбородок, искоса, быстро взглянул на Валю и решил:
– Ладно. Только я тут сбегаю… Аппарат у меня старенький. У соседа получше.
– Возьмите мой. Новый, – великодушно предложил молоденький связист, но Женя даже не взглянул на него.
Уже когда шли обратно, Осадчий шепнул Вале:
– Это он не за аппаратом. Это он своих предупредить. Все ж таки…
Он деликатно замолк, а потом добавил:
– Я тебя зачем с собой брал? Чтобы, если Женька отказываться начнет, ему бы стыдно стало.
Потом, уже перед самым выдвижением на «ничейную» полосу, вышла вторая заминка: полил такой ливень, что в траншеях сразу захлюпала грязь. Появилась догадка:
– Поиск отложат.
Но майор Онищенко сам прошел по траншее и за ставил начинать выдвижение.
Первыми поползли «слухачи». Глухо, прерывисто шумел дождь, уже вымокшее обмундирование противно прилипало к телу. Мокрые руки, натыкаясь на мокрую холодную траву, дергались, словно от ожога. Потом ко всему привыкли и равнодушно ползли по вздрагивающим от тяжелых капель теплым лужам, огибая воронки и могилы, скользили по неприкрытому травой суглинку.
Иногда Осадчий останавливался и чутко, по-звериному вытягивал шею и раздувал мокрые ноздри. Вале казалось, что он принюхивается. Впрочем, так ей казалось потому, что она и сама беспрерывно принюхивалась. На «ничейной» полосе есть свои устойчивые запахи, которые иногда служат надежными ориентирами: плохо прикрытые трупы, старые уборные, островки намогильных, жирных, одуряюще пахнущих трав. Но в эту ливневую ночь запахи были прибиты, звуки приглушены.
Немцы только, изредка вели огонь из дзотов по заранее отработанным планам, простреливая наиболее вероятные пути подхода противника. Но планы эти давно были изучены, учтены, и поэтому трассирующие пули летели в стороне от разведчиков. Уже перед самыми немецкими траншеями, когда группа обеспечения заняла прежнее место «слухачей», а все остальные свернули на минное поле, Валя вспомнила о девушках из гвардейского полка.
И как раз в это время из-за облаков, сквозь слитный шум дождя пробилось знакомое гудение мотора, проплыло над передовой, удалилось и снова разлилось над головами. И сразу пришел страх: сквозь облака невозможно было увидеть землю, и, значит, летчицы будут бомбить вслепую.
Гудение мотора все усиливалось, ему на подмогу пришла вторая машина, потом третья. Их гул слился и перебил шум дождя. Они летели где-то совсем рядом, над самыми головами, и каждую секунду можно было ожидать нарастающего свиста бомбы, взрыва и – конца. Словно ища поддержки и укрытия, Валя оглянулась и увидела, что в стороне мелькнули и пропали в вышине смазанные дождем трассы, потом донесся ворчливый стук крупнокалиберного пулемета. Вскоре такой же густой стук донесся с другой стороны. Вначале Валя только обозлилась: пулеметчики могли выдать разведчиков. Ведь немцы наверняка услышали ворчание новых, недавно появившихся на передовой пулеметов.
И немцы действительно услышали. Захлопали двери землянок, послышались хриплые спросонья и, главное, от страха голоса:
– Опять рус фанер!
– Даже в дождливое воскресенье им нет покоя.
И тут только Валя вспомнила, что сегодня действительно воскресенье. Дни на фронте не отмечались, считались только часы и числа.
Тучи неожиданно осветились сверху. Их темные, набухшие дождем нижние края косыми космами прижались почти к самой земле.
Валя, конечно, не знала, что летчицы, сориентированные заранее установленными сигналами – трассами крупнокалиберных пулеметов, уточнили район действия. Но уточнить цели они не могли. И эта повешенная ими люстра только показывала им непроницаемую глушь низкого неба.
Люстра догорела, облака снова поднялись вверх, в мокрую темноту. Самолеты гудели, снижаясь все ниже и ниже. В иные минуты казалось, что они вот-вот проедутся колесами по головам и вдавят, как танки, в сырую, еще теплую землю. Нервы в эти минуты бешено напрягались и хотелось что-то делать: ползти, ругаться или просто бежать. Но «слухачи» и связист должны были лежать, молчать и слушать.
Но у немцев нервы сдали. Вначале раздалась одиночная автоматная очередь, и трассы ушли в облака. Потом ударили пулеметы, автоматы, винтовки и, наконец, разъяренно, застучали счетверенные зенитные пушки – эрликоны. Трассы мгновенно впивались в услужливо опустившееся небо и исчезали. Им навстречу полетела первая бомба, полыхнула, и вся немецкая оборона вспыхнула бесчисленными огоньками выстрелов.
Так и началась эта карусель. То один, то другой самолет вываливался из низких облаков, выравнивался, выбирая цель – пульсирующие, нацепленные в дождь язычки пулеметного пламени, сбрасывал бомбу и опять уходил в облака. Время уплотнилось, машины все время менялись, и сколько минут прошло с начала этой необычной бомбежки, не знал никто.
Но, видимо, время это было рассчитано готовившими операцию офицерами очень точно, потому что, когда налет достиг наибольшей силы, справа от «слухачей» слитно ударили автоматы, глухо застучали ручные гранаты: группа захвата ворвалась в траншеи.
Несколько минут доносились только шум первой атаки да крик. Потом немцы пришли в себя, и вся тщательно и любовно отработанная в тиши штабов система огней, как хорошая машина, без заминок и срывов начала свою трудную, смертоносную работу. Ударили не только молчавшие до сих пор, выверенные и укрытые пулеметы, не только минометы и артиллерия, поставившие взбухающие пламенем заградительные, отсечные и иные стены огня. Заработали даже новенькие здесь «скрипуны» – немецкое подобие русских тяжелых реактивных снарядов. Они обозленно и натруженно визжали где-то за лесом, но низкие облака, принимая на себя отсветы выстрелов, помогли десяткам наблюдателей засечь и эти опасные, до сих пор молчавшие цели.
Из глубины нашей обороны тоже ударили десятки орудий и минометов. Одни работали на поражение немецких батарей, и их снаряды рвались далеко за пеленой дождя, другие ставили заградительные и отсечные огни, выполняя свой, рассчитанный на минуты, снаряды и метры, рабочий план. Словом, все шло так, как и должно было идти, когда противники достаточно опытны, грамотны в военном отношении и крепки в моральном.
До этой минуты, собственно, воевали не солдаты обеих сторон, даже не их непосредственные командиры, а планы. План проведения поиска и план обороны. А с этих напряженных минут в дело вступили силы, которые не могли предусмотреть ни научно подготовленные немецкие штабники, ни творчески вдохновенные офицеры советской разведки.
Началось с того, что та батарея противника, которая рассылала свои снаряды как черт на душу положит, опять сбила прицел и, вместо того чтобы поставить заградительный огонь перед входом в проход, накрыла несколькими сериями одну из групп обеспечения разведчиков, ту самую, которая засела в старых окопчиках «слухачей». «Слухачи» не могли знать об этом: они мокли перед самой проволокой противника.
Потом, когда группа захвата, разгромив в суматохе несколько землянок, прихватила документы и по новому проходу в минном поле потащила скрученного в три погибели пленного, дотошный саперный фельдфебель, голос, имя и даже прозвище которого Валя отлично знала, быстрее своих начальников сориентировался в обстановке и предложил новый план. Он заключался в том, чтобы небольшой группой зайти по проходу во фланг отходящим разведчикам и задержать их на «ничейной» полосе до тех пор, пока не подойдут резервы, на которые по штабному плану возлагалась задача отбросить противника или доконать его. Раненый, но не покинувший роты немецкий лейтенант согласился с фельдфебелем.
Вот так в трех метрах от «слухачей» промелькнули несколько теней и скрылись на высотке.
Валя толкнула Осадчего, тот хмуро кивнул в ответ и насупился. Прошло несколько минут, в течение которых немецкая группа обязательно должна была столкнуться с группой обеспечения разведчиков. Но у высотки все было тихо, даже сумасшедшая немецкая батарея по просьбе немецкого лейтенанта наконец исправила свои прицелы и начала стрелять как раз туда, куда нужно, – против выхода из прохода.
Осадчий покусал губу и приказал связисту:
– Доложи морзянкой: пошли на обрез. Пусть решат, что делать нам.
Женя долго стучал заскорузлым пальцем по трубке, потом выслушал связиста из нашей траншеи, вздохнул, аккуратно уложил трубку в аппарат и доложил:
– Приказано атаковать!
Осадчий сразу неуловимо подобрался. Его мокрое, грязное лицо стало жестким, даже хищным. Он встал на ноги и, приказав: «Пошли», пригибаясь, побежал к высотке.
Дождь не переставал. Под разъезжающимися ногами хлюпала жирная глина, сапоги отяжелели. Замерзшие было в мокрых портянках ноги быстро согрелись. Теплота от них пронизала тело, и Вале сразу стало жарко. Сзади, аккуратно сматывая провод, двигался связист Женя.
Неподалеку от высотки они наткнулись на гитлеровцев, которые веерами слали автоматные очереди во фланг отходящим разведчикам.
– Гранаты! – шепнул Осадчий, стал на одно колено и швырнул первую «лимонку».
Валя тоже швырнула гранату, за ней вторую и в слабом свете ее разрыва увидела, как кто-то из немцев хотел было приподняться, но сейчас же рухнул на бок. Человек восемь гитлеровцев тенями шарахнулись в сторону, но, прижатые автоматным огнем, опять упали.
– Где же Женька? – выругался Осадчий и приказал: – Отползи в сторону – здесь мин уже нет – и крой!
Извиваясь всем телом, черпая голенищами грязь и воду, Валя быстро отползла в сторону и снова открыла огонь. Немцы отвечали. Яростный пульсирующий огонь автоматных очередей, бухающие взрывы ручных гранат постороннему наблюдателю были бы, вероятно, незаметны. Они терялись и растворялись в общем, насыщенном огнем и трассами бою. Но Валя, как и всякий солдат, своим чутьем, обостренным зрением и слухом слышала только эти взрывы и очереди, видела только эти огоньки и понимала, куда передвигаются немцы, куда они стреляют, и если не стреляют, то почему.








