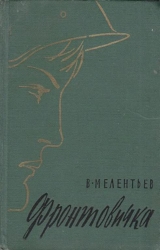
Текст книги "Фронтовичка"
Автор книги: Виталий Мелентьев
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 21 страниц)
– И тебя любит, и Ларку ему жаль – все ж таки от него она брюхатая…
Валя не тронулась, не шевельнулась, а только медленно, неуловимо сникла и осунулась. То самое, что она тщательно скрывала от себя, просто и ясно высказал Геннадий, и теперь, вытащенное на белый свет, оно стало уже не догадкой, которую можно было подавить или забыть, а реальностью, и не считаться с ней не было возможности. Удар был смягчен предыдущими мыслями и чужим горем, но от этого он не стал легче. Раньше была хоть надежда, теперь ее не было. Она никла и никла, хотя в душе уже выпрямлялась, зажигалась холодным и злым огнем. Страхов не уловил этих движений души и бережно, заботливо утешил:
– Это ничего, маленькая. Бывает… Да-а… А жить нужно.
Она резко выпрямилась, вскочила и, заглядывая в мокрые глаза Геннадия и совершенно не удивляясь его слезам, горячо сказала:
– Да, Генка, да, дорогой! Надо жить! Жить и бороться. Бороться и жить.
Он взял ее за плечи, тихонько встряхнул и, глядя прямо в глаза, медленно покачивая упрямо наклоненной головой, спросил:
– Неужто вы все такие, бабы, крепкие? Неужто и у вас душа, как и у мужика?
Мгновенно вспомнились госпитальные мысли, и Валя с сожалением протянула:
– Эх, Генка, Генка…
Они постояли друг против друга, словно приглядываясь к угасающей вспышке взаимной человеческой близости. Потом они поняли, что осталась отличная человеческая теплота, взаимное доверие. Оно не проходило. Сдержанно, понимающе улыбнувшись друг другу, они медленно пошли в расположение бригады.
Туман сгущался, и орудия били простуженно.
12
Жизнь продолжалась. Бригада готовилась к новым боям, но Валя была занята не столько в поле, на занятиях, сколько в штабе. Она переводила захваченные в предыдущих боях документы и письма.
Отзвуки этих боев, как бы перевернутые, шедшие в обратном направлении, не волновали, а удивляли – ни в одном письме, ни в одном дневнике не было ни малейшего, с Валиной точки зрения, оправдания войны. Не говорилось даже о трофеях и приобретениях. Был либо скулеж, либо туповатые, с потугами на остроумие описания кутежей в походных публичных домах. Лишь изредка попадались действительно человеческие письма, полные тоски о семьях, детях и любимых.
В этих письмах не радовались удачам, не сетовали на провалы. Читая их, Валя лихорадочно разыскивала слова осуждения, проблеска свободной, трепетной человеческой мысли – иногда ее присутствие ощущалось. Но ни разу она не нашла прямого выражения этих мыслей. Она не знала и не могла знать, что чудовищная машина взаимной и централизованной слежки не давала возможности даже самым смелым и чистым душой немцам высказывать на бумаге свое сокровенное.
В штабной землянке она видела бездумного, жестокого и довольно-таки глупого врага, облик которого никак не вязался с тем представлением, что было привито ей в детстве. Перед ней не было ни одного обманутого, замордованного офицерами солдата, хоть отдаленно понимающего этот обман. Был только враг, он с удовольствием описывал картины гибели Валиной бригады и с профессиональной точностью излагал товарищу изменения русской тактики, сообщая приемы, которые следует противопоставить этой атаке. Как раз это и являлось для Вали главным. Она выискивала в немецких письмах, дневниках и документах все, что касалось боев с танками, переводила и передавала командованию.
По вечерам неподалеку от столовой, как когда-то в лесу, собирались попеть и потанцевать. Как и прежде, Прохоров стоял или сидел рядом с Валей и пел. Но теперь в его бархатистом, густом голосе появились новые, щемящие нотки.
Он часто, словно невзначай, прижимал Валино колено, клал руку на ее погон. Она холодно и спокойно отстраняла колено или бесцеремонно стряхивала руку. Прохоров мрачнел и уходил в почти басовое подголосье. Валя сама вела песню и печально усмехалась.
На танцах она избегала Прохорова, но он был настойчив, и однажды Валя не выдержала, согласилась потанцевать с ним. На первых же тактах, с хорошо разыгранным невинным недоумением она спросила:
– Скажите, Борис, вам не стыдно?
Она ждала лживого контрвопроса, шутки, смущенного или наглого молчания, еще чего-нибудь, но Прохоров мучительно покраснел, лицо его передернула гримаса боли:
– Очень! Очень стыдно, Валюша.
Замирая, но все с тем же наивным недоумением она уточнила:
– Зачем же вы так делаете?
– Не могу… Не умею иначе, – выдохнул он.
– Но вы понимаете, что ей очень тяжело, – наигрыш кончился, и Валя уже серьезно посмотрела в глаза комбату. Он не отвел взгляда – загнанного и испуганного. Именно этот испуг больше всего возмутил Валю: «А может, он не герой, а…»
– Да. Наверное. Только мне тяжелее, – глухо ответил Прохоров.
– Ну, знаете, – задохнулась Валя. – Сделать то, что сделали вы, и еще жаловаться на тяжесть – это, гражданин Прохоров, подло. И танцевать с вами я не хочу. И не подходите ко мне больше… как человек.
Она попыталась вырваться, уйти с площадки и тут только узнала, какая твердая, властная сила жила в гвардии капитане. Он тихонько приподнял Валю над землей и, продолжая танцевать, понес перед собой – задыхающуюся, злую, – в самый центр круга, поставил на ноги и, не сводя расширенных, жгучих зрачков с ее лица, все так же глухо сказал:
– Вы правы – это подло. Потому мне и тяжело.
Валя уже не пыталась вырваться – ей было стыдно оттого, что на них смотрят танцующие.
– Зачем вы меня вытащили… сюда?
– Потому что я поступил подло. И пусть все видят, что с такими, как я, настоящие девушки не танцуют.
Ее холодная решимость выбросить мечты о личном счастье не уменьшилась. Наоборот, она как бы подтвердилась и укрепилась. Но в эти секунды среди танцующих Валя поняла: ее личное счастье обернулось для нее новым, мучительным, потому что его нужно тщательно скрывать, личным несчастьем.
Прохоров снова победил ее своей необычностью, своей чистотой и честной прямотой, перед которой отступали все доводы рассудка.
Все было очень просто – она его любила и он тоже любил ее. И все было очень сложно – оба понимали, что права на любовь они не имеют. В каждом человеке в нужную минуту действуют скрытые или скрываемые пружины, о которых сами люди порой даже не подозревают или стараются не замечать. И Валя и Прохоров ни слова не сказали об истинных причинах своего несчастья, но знали: все дело в том, что у Ларисы будет ребенок. Перед ним, неизвестным, отступало все, отступало, не смиряясь и не уменьшаясь. Такое не умирает никогда. Оно просто стоит в стороне и ждет, чтобы шагнуть вперед, дать человеку короткую возможность полюбоваться упущенным счастьем и снова отойти, чтобы не мешать жить. Жить, может быть, тускло, печально или буйно, но жить так, что чистому и всегда немножко розовому и голубому счастью места уже не остается.
Валя безвольно опустила руки, наклонила голову и медленно пошла от Прохорова. Танцующие освобождали ей дорогу. Маленькая, изящная, туго перетянутая ремнем, с высокой грудью, на которой, покалывая кожу сквозь рубашку, посверкивали награды, она была очень несчастна. Наверное, таким же был и Прохоров, но она не видела его.
В землянке она села к окну, долго смотрела на противоположный отрог лощины и старалась думать. Но мыслей не было. Была неестественная покорность. И как раз она наконец возмутила Валю.
«Что ты заладила: «все равно, все равно», – злобно выругалась она. – Ничего не все равно. Ну и что ж, что любишь? Значит, полюбила не того, кого нужно, и, главное, не тогда, когда нужно. Изволь взять себя в руки. Распустилась!»
Она покорно встала, зажгла свет, прибрала в землянке и опять села у окна. Мягкая, грустная и такая приятная покорность опять охватила ее, и она долго, с болезненным удовольствием отдавалась ей. Но мозг опять отметил ее безделье, и она, ругая себя, перебрала вещмешок, починила бельишко, заштопала единственные чулки. Потом достала зеркало, придвинула светильник, сделанный из немецкой зенитной гильзы, и стала причесываться, привычно зорко приглядываясь к серебристым нитям седины.
Причесывалась она долго, старательно, по-новому укладывая челочку – на один бок, на другой, валиком, и вдруг вспомнила, что ни в госпитале, ни в бригаде она не вырвала ни единого седого волоса. Она не поверила и стала торопливо перебирать прядку за прядкой. Обычно в каштановых волосах сединки были видны очень хорошо, они так и блестели на свету. Теперь сединок не было. И тут же Валя стала лихорадочно вспоминать, был ли хоть один случай появления жгучей точки в затылке. Таких случаев не было. Это было так удивительно, так радостно, что она засмеялась.
– А плакать тебе не хочется? – спросила Лариса.
Когда она вошла в землянку, Валя не заметила. Мгновение Валя молчала, но вскоре нашла нужный тон и мягко ответила:
– Мои слезы не так уж важны.
– На меня намекаешь? Что ж… Правильно, – вздохнула Лариса и села за стол против Вали.
Мятущийся, вздрагивающий огонек светильника разбрасывал тени по грубоватому, задымленному, будто из бронзы вырубленному лицу Ларисы, делая его то значительным, почти красивым, каким оно было в тот вечер, то неприятным, расплывчатым. Лариса большим и указательным пальцами вытерла уголки губ и, не спуская с Вали настороженного, злого взгляда, переспросила:
– Значит, твои слезы неважны?
– Да, – спокойно, с долей грусти в голосе, ответила Валя.
Танцы кончились, и музыка умолкла. Из лощины доносились обрывки смеха, беззлобной ругани – присловья и песен.
«Зачем она так? – думала Валя. – Чего она от меня хочет?»
– Хочу я от тебя вот чего, – словно подслушав, спокойно, высоким и грубоватым голосом сказала Лариса и прихлопнула ладонью по столу. – Чтоб ты послушала меня.
– Я слушаю… – сжалась Валя.
– Этими днями я уеду. Совсем. Куда – не спрашивай. Ты такая добрая у меня подружка, что ни разу не спросила, откуда я родом и кем была до армии. Так что и сейчас тебе это безынтересно. Так вот – уезжаю. Ни один черт об этом не узнает – даже Борис или кто другой. До сегодняшнего дня я еще мечтала, еще держалась – думала, хоть ребенок его привяжет. Но мужики на свой лад скроенные. Ребенок их не удержит.
– Неправда! – вскинулась Валя. Ведь она-то знала, что стоит между ней и Прохоровым.
– Погоди, – недобро усмехнулась Лариса. – Поживешь, может, тоже узнаешь. Ну, не о том речь. Я хочу, чтоб ты все знала. Я сюда из-за него пришла. Как увидела в госпитале, он к своим бойцам приезжал, так и решила: все равно после такой войны на мою долю мужиков не останется. Сейчас они на нас ровно мухи на мед падкие, потому что нас мало. А после войны они нос вверх задерут. Я это точно знаю. В нашей деревне перед войной мужики на шахты поуходили, так те, что остались, недоразвитые, и те кочевряжиться стали. Ну а после войны – тем более. Герои… Так вот я и решила: пусть у меня ребеночек будет от хорошего, от такого, какого я во сне, может, только и видела. Борька-то как раз такой. Потому и перевелась, и тебя потянула… Честно скажу, не хотела тебя тянуть – боялась перебьешь, – а потом прикинула: городская ты, нежная, настоящей бабьей жизни не знаешь. Не помешаешь. Тем более ты еще и блаженная маленько. Ну, вот… Вот так все и случилось.
Она горько усмехнулась, прикрыла восковыми веками глаза и стала царапать стол толстым ногтем.
– Так все и случилось – свое я взяла. Только… только одного не знаю – Борькин это ребенок или, может, не его… Борька-то тоже маленько с блажинкой.
Не поднимая восковых век, Лариса круто повернулась на скамейке, согнулась и вышла. Валя не успела даже охнуть – все было так неожиданно и непонятно. Лариса казалась ей то грязной и глупой, то по-своему героической и мудрой. И еще было отдельное ощущение ее нечистой, далекого прицела хитрости.
Эта хитрость сказалась быстрее, чем могла предполагать даже Лариса.
Как только Валя пришла в себя после ее ухода и не без труда сдержала, первый порыв – броситься к Прохорову и рассказать ему все-все, он поймет, – она заметила на столе письмо. Вначале Валя подумала, что его забыла Лариса, но оно было от Наташки. Лариса, как всегда, передавала письма в последнюю очередь. Чтобы отвлечься от противоречивых мыслей, Валя раскрыла треугольничек.
«Валюнчик, – писала Наташка, – хоть ты и нажаловалась на меня матери, я все равно тебя очень люблю. И все наши девчонки тебя очень любят и шлют привет, как настоящей героине».
Окончания последних двух слов были подчищены, – видно, Наташка не знала, как нужно писать – «герою» или «героине». Ведь в газетах и по радио не говорили о фронтовых героинях. Вспоминали только о матерях-героинях…
Валя сразу представила, как Наташка подчищала окончания этих слов, склонив набок вланжевую голову, высунув кончик розового языка. И на худой шее билась голубоватая жилка.
«И я очень тобой горжусь. Но ты можешь обижаться, можешь не обижаться, а школу я окончательно бросила, потому что в такое жуткое время не имею права сидеть сложа руки. Сейчас я уже работаю. Правда, на оборонные заводы нас не взяли, но мы пошли на электроламповый. Тоже делаем кое-что нужное, но писать об этом не буду. Нас и сюда не брали, но я взяла и сказала, что мне уже шестнадцать лет, а паспорт не получаю, потому что метрики потерялись в оккупации. Меня и взяли – я сейчас очень высокая, только плоская. А учиться я еще буду, ты не беспокойся. И знаешь что, Валюнчик, вчера меня приняли в комсомол. Так вот, давай соревноваться как комсомолки. Я обязуюсь выполнять норму на 120, а может быть, даже больше процентов, а ты сама напиши свое обязательство. Хорошо? У нас одна девчонка соревнуется с братом, он у нее снайпер. А другие – кто с летчиком, кто с танкистом и даже с моряками. Но никто не соревнуется с сестрой. Давай, Валюнчик? Это будет меня дисциплинировать».
Потом шли домашние новости и объяснения в любви. Но не они взволновали Валю. Она просто увидела себя такой, какой была несколько лет назад, – худущей, упрямой, живой и наигранно гордой, страдающей от неразделенной любви к противному десятикласснику. Тогда, в трудные минуты жизни, она проверяла свои поступки по отцовским письмам, позднее – по комсомольским делам. И вот, она понимала это суровым житейским опытом, она для безотцовской Наташки стала тем, чем был для нее отец.
Это было удивительно, но именно она, в сущности еще девчонка, становилась отцом, человеком, который может решать, помогать и защищать, чьи поступки являются образцом. Даже о далеком Севином сыне она постаралась позаботиться, как о своем, не очень обижаясь на правильную, чересчур интеллигентную Аню – что ж, бывают и такие женщины. А сейчас – Наташка, а там – тоже неизвестный ребенок Прохорова. Когда мысли довели ее до этого ребенка, она смутилась и подумала:
«Да, может быть, ничего у нас и не будет. Может быть, все пройдет – ведь он честный человек и не захочет оставить Ларису».
Но сейчас же она представила их рядом и поняла: вместе они не будут. Никогда. В чем-то Лариса права – Прохоров не для нее.
Тогда пришла еще одна робкая мысль:
«А может, это и не его ребенок?»
Валя ужаснулась: неужели всегда, всю жизнь ей мучиться и думать: правду сказала Лариса или нет? Ведь если ребенок не его, значит… значит, все напрасно. Все мучения и раздумья. А если это его? И виноват ли он в том, что оставляет Ларису? А может быть, она оставила его вначале?
Сотни вопросов, сотни сомнений. Ларисина хитрость оказалась сверхдальнего прицела.
Вале захотелось сейчас же броситься к своей подруге-недругу, выяснить и решить все раз и навсегда, но она уже знала: не все говорят люди, а в таком деле – тем более.
Она обмякла и долго сидела у коптящего светильника, не зная, на что решиться и что подумать. Вернулись новенькие девчонки, улеглись спать, а она все сидела и сидела.
За полночь ее вызвали в штаб. Там уже были Страхов и Зудин. Начальник штаба сам поставил Вале задачу: принять от саперов проходы в минных полях, приготовиться к проводу танков. В ее подчинение были отданы оба разведчика.
Сомнения и все личное сразу отошли, освобождая место главному.
13
Шли дожди – въедливые, нудные, суглинки размокли, и ноги вязли по щиколотку. Прежде чем разведчики дошли до передовой, холодные и тоже въедливые струйки воды уже пробрались за воротники. Ноги замерзали и набухли: между пальцами переливалась грязь.
Низкое, ощутимо давящее темное небо, мрачные, отрывочные мысли, сырой холод только вначале вызвали у Вали ощущение неудобства, печали. Потом, когда по телу пробежала первая струйка, пришла злость. Чем неудобней было, чем противней, тем больше накапливалось злости. Она твердела, словно закаляясь на волглом холоде.
Страхов шел легко, не глядя по сторонам, и, когда взлетели ракеты, Валя увидела его уставившиеся в одну точку бездумные глаза. Она взяла его за локоть и сжала. Геннадий оглянулся и снова уставился перед собой.
– Злой я очень, – наконец буркнул он.
Зудин двигался несколько в стороне, аккуратно, как балованный котенок, выбирая места посуше, перескакивая лужи, обходя особенно густую грязь. Он с интересом покосился на Страхова, но промолчал. Валя подумала, что Зудин резко усложнил задание. Теперь она, конечно, не стала бы угрожать ему так несерьезно. Но те слова были сказаны, и Зудин принял вызов. Как он поведет себя? Что сделает? Но он молчал.
На передовой было безлюдно. Только дежурные расчеты ручных пулеметов да наблюдатели во врезных ячейках сутулились под гремящими, словно жестяными, плащ-палатками. Под ногами хлюпала глинистая жижа, стены траншей и ходов сообщения были осклизлыми, жирными. Пахло чем-то тяжелым, неприятным.
Разведчики разыскали саперов в плохонькой, сочащейся влагой землянке. Пожилые, заросшие щетиной, вымазанные в глине, кряхтя и отрывисто поругиваясь, саперы повели их к проходу в минных полях.
Собственно, вести было невозможно: как всегда, немцы вели прочесывающий огонь, и пули с шипом разрывали частую дождевую сетку. Поэтому саперы просто вывалились за бруствер и поползли по пропитанной холодной влагой земле. Разведчики потоптались и тоже перевалились за бруствер, но ползти им было неудобно: мешали плащ-палатки. Они путались в ногах и гремели.
Один из саперов оглянулся и прошипел посиневшими губами:
– Первый раз в разведке? Чертовы куклы. Скидывай плащи.
– Ну, ты, не психуй, – сердито ответил Зудин, но Валя резко перебила:
– Снять плащ-палатки.
Они сбросили гремящие плащ-палатки в траншею и поползли по глине. Дождь неслышно падал на спины, нудно тарабанил по каскам. Первые капельки пробрались к животу, обожгли его, и по телу пробежала дрожь. Шинели намокали, и дрожь волнами прокатывалась по разгоряченному телу. Валя сдерживала не только дрожь, но и тупую боль: она вспыхнула на заживших рубцах. Слева явственно стучали чьи-то зубы, Валя оглянулась и увидела Зудина. Она приостановилась, рукой чуть коснулась его страдальческого лица и погрозила кулаком. Зудин, видимо, сжал зубы, и стук прекратился. Сапер оглянулся и жестом подозвал Валю.
Когда она подползла, он сипло прошептал:
– Ничего, глиной одежда забьется – меньше промокать будете. Согреетесь. Ну, смотри, сержант, вот отсюда начинается левый проход. Кто у тебя тут встанет?
Валя решила, что здесь, ближе к своей передовой, лучше всего поставить Зудина – за ним легче будет следить, – и она жестом подозвала его. Сапер показал приметы прохода и вместе с Валей и Зудиным пополз по его границам. Валя отмечала: лошадиный труп (запах, бугорок), разбитая кухня (одно колесо в стороне)… Приметы накапливались и откладывались в кладовочках памяти.
Прежде чем возвратиться к Страхову и второму саперу, Валя шепотом поставила задачу Зудину:
– Охранять проход, никуда не отлучаться до подхода танков. По выполнении задачи разыскать штаб батальона. Понятно?
– Понятно. Сами в траншейку?
Если бы Зудин не съехидничал, Валя, вероятно, сказала бы, где она будет вместе со Страховым. Но она вспомнила Осадчего, его молчаливую сосредоточенность и не ответила. Потом подползла к Страхову и второму тяжело, запаленно дышащему саперу. Он вытер грязное лицо и покорно произнес:
– Полезли дальше.
Втроем они скатились в неглубокую лощинку, передохнули и снова поползли ко второму проходу.
Ползли и перебегали долго. Как всегда, взлетали осветительные ракеты, вырастали и падали резкие тени. Страха Валя не ощущала, может быть, потому, что все время боролась с пронизывающим холодом. Шинели и шаровары набухли, стали тяжелыми.
Приняв второй проход, все трое разыскали оплывшую воронку, вычерпали воду и лопатами подровняли дно. Тесно прижавшись друг к другу, приникли к холодной мокрой глине. Валя лежала посредине, и мужчины, спасаясь от холода, прижимались к ней. Сапер тоскливо протянул:
– Хоть бы закурить…
Страхов промолчал. Дождь стучал по каскам и по оружию. Валя рукой прикрыла затвор автомата. Сапер вздохнул:
– Ведь верно. А то зальет, не дай бог.
Он полез в карман, вытащил индивидуальный пакет, оторвал оболочку и прикрыл ею затвор оружия. И Геннадий и Валя сделали то же, даже не подумав, что бинты потеряли свою стерильность, – оружие было дороже.
Каждое движение отдавалось в теле дрожью. Начинало сводить мускулы. А сапер все сипел и сипел над ухом – натруженно и горячо.
– Что с вами? – спросила Валя шепотом.
– Грыб. Ломает, – ответил сапер.
Валя осторожно потрогала его лоб. Он был горячий, в липкой испарине.
– Так вы же больны. Ползите в тыл. Мы и вдвоем справимся.
– Нельзя, сынок, нельзя. Приказ – он, знаешь… – сапер не докончил и затрясся от сдерживаемого кашля. Передохнув, он с великой мольбой сказал: – Господи, хоть бы до утра дотянуть, – но сейчас же безнадежно отметил: – А с утра опять же в бой. С грыбом в лазарет не ложат.
Они лежали, молча борясь с холодом и сыростью. Сапер забывался и что-то бормотал. Валя тихонько толкала его, он вскидывался и жалостно шептал:
– Покорно благодарю. Вот же привязался грыб.
Так повторялось несколько раз. Дыхание сапера становилось все прерывистей, в груди у него клокотало и перекатывалось. Он все чаще впадал в забытье и стонал.
– Отошли его, – буркнул Страхов.
Валя опять растолкала сапера и приказала:
– Сейчас же ползите назад. А то вы нас выдадите.
– Не могу… без приказа.
– Так я же вам приказываю.
– Слова – они и есть слова.
– Так где же я вам бумагу возьму?
Страхов полез за пазуху, достал кисет и вынул из него газету. Валя разыскала в нагрудном кармане огрызок карандаша и на ощупь написала: «Приказываю…»
Потом спросила:
– Фамилия ваша как? Звание?
– Серов моя фамилия. Рядовой я.
«Приказываю рядовому Серову немедленно отправиться в тыл, в санчасть. Сержант Радионова, ст. разведчик танковой бригады».
Номера бригады она не поставила умышленно. На «ничейке» может случиться всякое.
– Держите приказ и немедленно ползите.
Сапер принял бумажку и осторожно спросил:
– А меня не того… В трибунал не потянут?
– Не хлопнут, – решительно сказала Валя.
– Ну, спасибочки. Сердце у тебя, сынок, хорошее. Выживу – за тебя дочку замуж отдам. Она у меня красивая, – с наивной гордостью похвалился Серов.
На минутку захотелось так и остаться сынком, но Валя решила, что, если у Серова выйдут неприятности, эта его ошибка будет стоить очень дорого. Она сказала:
– Только я не сынок, папаша, я дочка. Понятно? Девушка.
– О-о. А не врешь?
– Да катись ты отсюда, старый черт, – зашипел Геннадий. – Сказано – девка, ты и верь. – Остывая, Геннадий пояснил: – Валька Радионова. Сержант. Как скажешь – всякий поверить может. Она одна у нас такая.
Сапер все-таки не поверил, поерзал и заглянул Вале под каску.
– Чудно, а все ж таки верно. Ну ладно… Поползу.
Он хотел было ползти обратно, но вдруг завозился, покряхтывая и посапывая, и кинул на прижавшихся друг к другу Страхова и Валю свою шинель.
– Теплее будет, – прошептал сапер.
– Вы с ума сошли! Вы же больны.
– Ничего, дочка, до своих я и голый доползу. Ну, бывайте здоровы.
Он торопливо уполз, и Валя, ощущая на затылке горячечное тепло от шинели, подумала, что ее жалеют только пожилые мужчины, у которых есть дочери. Или вот такие, как Генка. Почему же другие не жалеют женщин – ведь они тоже чьи-то дочери. Вот и Прохоров не пожалел Ларисы.
Страхов словно подслушал ее мысли и прошептал:
– А все ж таки дрянь она, твоя Ларка. Всю ему жизнь спортила. Надо ж так подкатиться.
Валя ничего не ответила, по телу опять прошлась волна дрожи: с запада пахнул ветер и рассыпал густую, нудную сетку дождя. Вскоре ветер стих, но стало холоднее. Заломило скулы, ноги и, наконец, разболелась голова. Но они все лежали, прислушиваясь к окружающему. Говорить не хотелось – на это требовались дополнительные силы. А их нужно было беречь.
Рассвет занялся вяло и не с востока, как всегда, а со всех сторон. Небо посерело, и надоедливый дождь стал заметен. Крохотные его капельки падали торопливо и беззвучно.
В эту холодную тишину первый выстрел артиллерийской подготовки ворвался как-то удивительно ненужно. Потом была затянувшаяся пауза – тревожная, недоумевающая.
Забухали орудия. Снаряды неправдоподобно громко сипели над самой головой, словно тоже недоумевали, зачем их выпустили в такую неподходящую погоду.
После артподготовки из траншей пошла пехота – мокрая, невыспавшаяся. Люди скользили, падали, ругались и почти не стреляли на ходу, потому что искали мест посуше, но шли вперед. Валя и Страхов все еще лежали и только водили глазами: шевелиться они не могли. Тела были скованы мокрым, противным холодом, мускулы болели.
Пехотинцы прошлепали по грязи дальше – и тут ударил спорый, жаркий немецкий огонь. Люди залегли в лужи. Тот, кто руководил боем, опять вызвал артиллерию, и она постреляла немного по темно-желтым, жирным от грязи холмам. Пехотинцы продвинулись еще на несколько десятков метров и опять приостановились.
Подходило время ввода танков, и Валя стала осторожно потягиваться. Каждое движение вызывало не только боль, но и дрожь. Промерзшее тело не подчинялось. Лязгали зубы, даже тогда, когда Валя изо всех сил сжимала челюсти. Медленно раскачивая себя, она подтянула ноги и несколько раз пыталась встать на четвереньки, но это не удавалось. Наконец дрожь все-таки сняла оцепенение. Разведчики смогли подняться, размяться и снова упасть на землю – немцы били из пулеметов.
Страхов пополз к пехоте, а Валя – на выход из прохода.
Танки появились сразу, из неширокой лощины, приземистые, в тучах грязных ошметок, густо облепленные мотопехотой. Валя вскочила на ноги, достала флажки и показала направление движения головной машины. Она чуть сбавила ход, и Валя, скользя на подгибающихся ногах, побежала впереди танка. Танк двигался за ней. На середине прохода она отбежала в сторону, машины принял Страхов и повел их дальше. Пехотинцы покатом расползались по сторонам, освобождая дорогу танкам.
Завывая моторами, танки безостановочно шли вперед, выбрасывая густейшие потоки грязи, обломки проволочных заграждений, под гусеницами нестрашно рвались противопехотные мины.
Машины уже выбрались к немецким траншеям. Но ни на одной из них Валя не видела гвардии капитана Прохорова. Только когда немцы обрушили на танкистов огонь артиллерии и минометов и мотопехота стала спрыгивать с машин, она узнала от одного из раненых, что Прохоров впереди. Она тоже побежала вперед, чтобы узнать дальнейшую задачу.
Постепенно горячка боя выгоняла противную дрожь, проходило уже знакомое состояние небытия – безразличия к самой себе. Она ползла, перебегала и даже несколько раз стреляла в засевших в окопчиках немцев и наконец нашла Прохорова.
Весь в глине, как в броне, быстрый и решительный, он грубо крикнул:
– Где вы шляетесь, сержант? Почему первый проход остался без охраны?
Нет, это был совсем не тот испуганный, даже загнанный собственными несчастьями Борис, которого она знала в последние дни. Это был вое тот же властный, безудержный и резкий командир, и Валя, вытягиваясь, четко доложила:
– На первом проходе остался Зудин. Проверять не было возможности.
– Вот отдам тебя под суд – найдешь возможность! Сапера отослала, а сама черт те где околачивалась.
Валя видела его безжалостные, яростные глаза и поняла: может не только отдать под суд, но и пристрелить.
– Под утро выяснилось, что Зудин пропал. Вторым проходом пользоваться не решились: а может, он перебежал? Поняла, что натворила? Иди и проверь, что с Зудиным. Потом – в бригаду.
– Слушаюсь, – ответила Валя. – Разрешите идти?
Что-то хорошее, тревожное тронуло грязное лицо Прохорова, но ответил он резко:
– Идите, – и сейчас же отвернулся.
Его роты завязали бой за вторые траншеи противника.
Танки тяжело переваливались на брустверах, на мгновение показывали отполированные грязью днища и, разворачиваясь, пеленали дерном и глиной еще сопротивлявшихся немцев.
Валя перебегала, переползала, просто бежала и уже на выходе из прохода в минном поле поняла, что она устала и хочет есть. Но останавливаться она не могла.
Неподалеку от первого прохода, в той лощинке, где они со Страховым и Серовым отдыхали, она наткнулась на саперов. Они врылись в землю и следили за противником. Валя остановилась и узнала, что саперы стараются разгадать, заминировали немцы проход или нет. Зудина никто не видел.
Она попросила хлеба, пожевала и пробралась в траншеи. Но и здесь никто не видел Зудина. Уже собираясь двигаться дальше, чтобы побывать на ближайших медицинских пунктах, она наткнулась на наблюдателя, который стоял под дождем в ее плащ-палатке – на уголке капюшона ясно виднелся расплывшийся на дожде фиолетовый знак: «В. Р.»
– Где ты взял эту плащ-палатку? – сердито спросила Валя.
– А валялась туточки. Твоя, что ли?
– Моя…
Боец посмотрел на нее невыразительными мутными глазами, вытер маленький красный носик и ехидно улыбнулся:
– Брешешь… – и беззлобно добавил такое ругательство, от которого Валя сразу вспыхнула, схватила за плащ-палатку и рванула. Шнурок лопнул, боец качнулся, глаза у него округлились.
– Где другие плащ-палатки? – процедила Валя.
– А ей-богу ж, не знаю, – залепетал перепуганный боец. – В ночи проходив тут один. Все палатки шукав…
– Куда он пошел?
– Та не знаю. Здается, туды пийшов, – боец неуверенно показал за бруствер.
– Веди к командиру, – приказала она бойцу.
Боец быстро сбросил с плеч плащ-палатку и бочком пошел по траншее.
В дзоте сидели несколько пехотинцев и молоденький младший лейтенант. Он с готовностью выслушал Валю, подтвердил, что ему докладывали о разведчике, который возвращался в траншею за плащ-палатками, видел и сапера. А где они сейчас – он не знает.
– Впрочем, посмотрите, – предложил лейтенант и приоткрыл задвижку на амбразуре дзота.
Отсюда были видны и лошадиный труп, и разбитая кухня на одном колесе, и даже березовый крест возле воронки. Но Зудина не было нигде. Она несколько раз глазами обшарила весь проход и уже хотела отойти от амбразуры, как вдруг в стороне от прохода и совсем неподалеку от траншеи увидела темно-зеленый, почти черный бугорок, возвышающийся над грязно-желтой, залитой водой землей. Она долго смотрела на него и наконец решилась.








