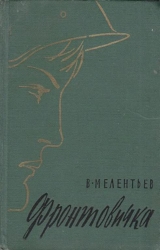
Текст книги "Фронтовичка"
Автор книги: Виталий Мелентьев
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 21 страниц)
9
Иногда темнота пронизывалась острыми вспышками света, который медленно гас в затылке. Тогда наступало необыкновенное, теплое и ласковое небытие.
Валя Радионова плавала в нем, окруженная сиреневыми сумерками, и сталкивалась с Осадчим, Виктором, майором Онищенко и озлобленным, с перекошенным от гнева лицом Прохоровым. Когда на нее наплывало это лицо – с резкими, как бы выпуклыми чертами, – сиреневая дымка пропадала и из яростных, карих глаз капитана выползала темнота. Потом опять следовала вспышка, боль, и снова кружили знакомые, добрые лица. Вале очень хотелось найти среди них лицо гвардии капитана и спросить у него, почему он ее так ненавидит. Но Прохоров не появлялся.
Валя носилась в сиреневом небытии и видела, как мать, прижав руки к высохшей груди, вытянувшись, как старый солдат, печально качает головой и шепчет:
– Ах, девочка, девочка… Вот и ты узнала несправедливость.
Тогда она злилась на мать, а худющая вланжевая Наташка показывала ей язык и кричала:
– Трусиха, трусиха! Ты даже не можешь признаться!
От боли и обиды, от гаснувшей в затылке ослепительной вспышки Вале бывало невмоготу, и она старалась вырваться из сиреневой дымки, но Зудин и Лариса грубо связывали ее, подбрасывали, и она опять плыла и плыла в небытие…
Потом все пропадало. Однажды вместо вспышки в темноте родился мягкий серенький свет, и Валя увидела закопченный потолок со свисающим обрывком мохнатого шнура.
«Почему он мохнатый? – сердито подумала Валя, присмотрелась и мысленно улыбнулась: – Это мухи…»
Правый бок, на котором она лежала, застарело ныл, и, еще ни о чем как следует не подумав, она попыталась перевернуть мягкое, как вата, тело и лечь на спину. Ее сразу же обожгла нестерпимая боль. Она с удивленной обидой в голосе вскрикнула и пошевелилась снова, чтобы унять эту боль, но тут же потеряла сознание.
Так повторялось несколько раз. Постепенно просветы между темнотой, сиреневыми сумерками и пятнами света все увеличивались, боль обострялась, и Валя теперь мечтала о темноте и забытьи. Но их не было. Была только обида на ту страшную несправедливость, которую с ней сотворили.
И странно, в эти труднейшие дни она звала только нелюбимую мать. Ни отца, ни промелькнувших в ее недолгой жизни товарищей, а только мать – нелюбимую и порой презираемую. Только одна она могла принести ей успокоение, найти какие-то особенные слова и так провести по горящему телу шершавой от морщинок, но все-таки мягкой рукой, чтобы снять боль, сказать такие слова, которые бы отвели обиду, сломали бы несправедливость.
Но матери не было. Она даже не показывалась в те минуты, когда Валя проваливалась в сиреневую дымку небытия. Теперь эту дымку разрывали косо взлетающие танковые башни, кирзовые сапоги с новенькими самодельными косячками, орущая прямо в душу пушка. Все это топтало и било Валю, и небытие пропадало.
– Мама… ма-маа, – из последних сил кричала она и однажды услышала далекий, глуховатый, как из-под подушки, голос:
– Раз застонала – скоро придет в себя.
Слова эти словно стегнули ее по нервам, что-то стало на место в ее развинченном теле, и она вдруг поняла, что за все это время даже не крикнула как следует, и замерла от неожиданности: оказывается, все, что она переживала бесконечно долгое время, было ненастоящим, выдуманным. Она стала быстро слабеть, каждая жилка, каждый нервик в ней, продрожав последней, жалостной дрожью, успокоился и как бы улегся на боковую. Последней мыслью – уже спокойной и оформленной – было: «Значит, все правильно».
В этот день она впервые уснула. Крепко, без сновидений.
На следующий день она открыла глаза, прислушалась к стонам и говору в палате и увидела над собой мягкое, все в мелких, стертых морщинках и розовых прожилках женское лицо, увидела, как шевелятся на нем розовые мягкие губы, и улыбнулась. Губы опять пошевелились. К Валиному рту поднесли чайничек, и она долго, с наслаждением пила крепкий, очень сладкий остуженный чай, благодарно улыбнулась и опять уснула.
Так началось выздоровление. Оно шло быстро. Ей опять повезло: косо прошедшие осколки задели только левую сторону спины, разрезали ее, кое-где поцарапали ребра. Кроме того, была контузия, и поэтому первое время Валя не только плохо слышала, но и невнятно разговаривала.
Молодой организм быстро восстанавливал силы. Переливание крови или вливание глюкозы ей теперь не делали: в разгар боев эти дефицитные в те дни препараты берегли для тяжелораненых. И хотя она тоже проходила по разряду тяжелораненых – множественное, осколочное, с повреждением костей, – в сущности, у нее было среднее ранение.
Валя поняла это, когда познакомилась с соседками по палате. Они действительно были ранены тяжело. На всю жизнь. У одной отрезана нога, у другой – рука, у третьей, зенитчицы, прошита очередью грудь, у четвертой, телефонистки, осколком бомбы разбита голова. В этой палате не было тех, кто приходил в госпитали «по-женскому». Здесь лежали солдаты, и они по-солдатски были спокойны и грубоваты.
От койки к койке легко, как присловье, перепархивали затейливые матючки, снайпер, которой недавно отрезали ногу, много курила и никогда не забывала свернуть цигарку для телефонистки, которая стала курить только в госпитале. Уже пожилая, по Валиным понятиям, женщина из прачечного отряда – она подорвалась на мине, когда развешивала белье, – с удивительным целомудрием рассказывала о своих многочисленных любовниках, всегда показывая их смешными и глупыми, потому что прачка обманывала их с другими.
Прачку слушали с удовольствием и не злились на нее. Все знали, что первая ее любовь оказалась неудачной – парень обманул. И муж попался паршивый – таскался по другим.
– Вот и я, на него глядючи, пошла.
Прегрешения ей прощали еще и потому, что в разгар самого веселого и глупо неприличного рассказа прачка вдруг грустнела, вспыхивала и замолкала. Ее подзуживали и, разгоряченные, просили продолжать, но она только отмахивалась.
Такой жизни Валя еще не знала. Валя как бы открывала недоступную до сих пор женскую душу и со сладким стыдом отмечала в себе схожие если не поступки, то мысли. Но от этого она уже не казалась себе старше, а наоборот, несравненно моложе, чем была на самом деле.
В госпитале она помолодела. Словно вместе с кровью из нее вышла ею придуманная старость и многоопытность, и Валя все больше убеждалась, какая она, в сущности, девчонка.
Иногда в разговор вступала добренькая и немножко хитренькая санитарка. Она уже вырастила пятерых детей – трое были в солдатах, одна с мужем жила на Урале, последняя, самая любимая, вышла баламутной – «шатается черт те где».
– С мужем мы жили хорошо. – Тут санитарка певуче и ослепительно просто уточняла приметы хорошей жизни.
Здесь, в этой палате, все называлось своими именами, и здесь, как нигде, женщины и девушки походили на мужчин. В минуты философского раздумья Вале начинало даже казаться, что люди только нарочно выдумали это различие между женщинами и мужчинами. Нет его. Все одинаковы. Есть грязные и развратные женщины, есть такие же мужчины. Есть чистые духом девушки и такие же юноши. Разве худенькая, молча страдающая телефонистка хуже или лучше Виктора? Они совершенно одинаковы. Он бросил свою музыку, чтобы уйти в строй. Она ушла из консерватории, чтобы очутиться на фронте. А разве эта прачка не стоит того полковника, который приставал к Вале? У того в глазах тоже мелькало что-то вроде смущения.
Она опять ощутила свою зрелую мудрость, но это была совсем не та, что когда-то заставляла ее надуваться, смотреть на людей свысока, ненавидеть их или, наоборот, жалеть. Это была новая, просветленная мудрость, она уже не мешала видеть в людях и хорошее, светлое, что есть в каждом человеке. Она уже не заслоняла, а украшала людей, объясняла их, предостерегая от плохого.
Но что было самым удивительным, несмотря на эту новую мудрость, на новую, прочувствованную молодость и внутреннюю чистоту, Валя все-таки с интересом слушала пряные, будоражащие рассказы и иногда краснела от собственных мыслей. Когда она несколько раз поймала себя на этом, ей вдруг стало понятным, почему снайпер так лихо ругается и так много курит. Чтобы проверить это, Валя спросила у нее:
– А ты… Ты кого-нибудь любила?
Снайпер попробовала отшутиться – грубо и цинично, – но Валя продолжала приставать к ней, и вся палата замерла. Снайпер разрыдалась и сквозь гордые и злые слезы призналась:
– Девушка я… И теперь вот навек останусь Христовой невестой. Кто меня такую возьмет?
Прачка грубо прикрикнула на Валю и долго успокаивала безногую. После этого случая пряные разговоры прекратились, а к Вале стали относиться отчужденно, как к человеку не то что неловкому, а злому.
Но Валя узнала главное: есть люди, которые прячут за руганью, цинизмом и грубостью слишком слабые сердца и нежные души. И потому что сама она не пряталась, она как-то сказала снайперу:
– Все мы здесь уже такие, что… только одним матерям нужны.
Она произнесла это сурово, без всякой связи с предыдущим разговором, и это сразу сняло отчуждение.
Оказалось, что у прачки тоже есть дети, но они остались с бабушкой, а она пошла на фронт, потому что такое уж дело. Если у тебя чистое сердце, так усидеть невозможно.
А старушка санитарка, оказалось, пошла на фронт потому, что сыны-то тоже на фронте.
– Может, не ко мне попадут, так к такой, которая поймет… – и она заплакала.
В этот вечер плакали много и охотно и вспоминали не любовников или тех, кто нравился, а детство – отцов, братьев, школьных товарищей. И всем, как и Вале, казалось, что они гораздо чище и лучше, потому что вот думают о них, а они… Они, наверно, вспоминают о них только как о женщинах.
В тот же вечер санитарка сообщила госпитальную новость: привезли важного полковника, которого приказали обязательно спасти. Приехал сам армейский хирург и с ним еще врачи – будут делать операцию.
И сразу завязался спор, потому что телефонистка зло сказала:
– Для полковника – армейский хирург, а для нас – заштатные, – и устало уронила тонкую руку. – Когда это кончится?
– Не говори, – охотно поддержала снайпер. – Разве ж с такими порядками к коммунизму придешь? В госпитале, где все голенькие, и то различие.
– Не скажите, девочки, люди разные бывают. Разный им и почет, – рассудительно решила прачка. – Кто что стоит, то тому и дают.
– Да ведь здесь только те, что все отдали! – возмутилась телефонистка.
– Не скажи… Ну чего вот я или, к примеру, наша санитарка отдали? Только что страху больше натерпимся да потруднее, чем в тылу, приходится. Только и того. А вот ее взять, – указала она на снайпера, – пока я кальсоны полоскала, она шестнадцать немцев на тот свет отправила. Это, я так думаю, не всякому мужику доступно. Может, даже и тому полковнику. А ведь лечение у нас с ней одинаковое, кормежка тоже, и разговоры тоже одинаковые. А мы-то с ней – неодинаковые. Так-то.
Санитарка покорно кивала головой:
– Так, так, девочки. Разные люди, разное и отношение. А только… только слабеньких-то жальчее. Ведь я поначалу в женскую палату не хотела идти – в мирные-то часы здесь одни только абортички лежали или иные какие, грязные болезни скрывавшие. Противно было за такими ходить. Я б им морды била, а не то что…
Тут санитарка с такой злобой, с такой понятой и разделенной всеми остальными вспыльчивой ненавистью стала приводить приметы и факты женского падения, что ее гладкое, розоватое лицо покраснело и стало неприятным:
– А потом, значит, увидела я одну такую худенькую, глаза огромаднейшие и цветом в льняное поле отдают – и прозелень есть и голубизна необыкновенная. Волосики у нее реденькие и тоже льняные. А одета – тельце так и светится. Юбка из мешковины – нитка от нитки, как в сети, лежит, а кофта, наоборот, хорошего сукна, но только в грязи вся, в заплатах, а под нею – один только лифчик старенький. Ну, как глянула я на нее, так душа у меня и зашлась: «Вот, думаю, и моя младшенькая такая же непутевая и вот так же, до конца доведенная, может, гибнет». Раньше я ее все черным словом ругала, потому что не послушалась меня, ушла в эти самые партизаны. Как была непутевой, так и осталась до последнего часа.
Да, а девчонку эту, оказывается, летчик с той стороны привез – к партизанам летал с документом и привез на возвратном пути. Разбинтовали ее, у нее, поверите… да чего не поверите, сами небось видели, черви в живом теле так и копошатся. Уж такая меня жалость взяла, такая жалость…
Санитарка взялась за седенькую голову под марлевой косынкой, сжала ее и закачалась из стороны в сторону.
– Да что ж это, думаю. Господи, царица небесная, да как же можно такой-то тонехонькой и такие муки принимать! Начала я ее обихоживать. Честное мое слово, девоньки, за родной своей так не ходила. Уж она мне порассказала, уж она мне наплакала про то, что на той стороне перетерпела! И насильничание, и голод, и на морозе ее морозили, и с живой шкуру шомполами снимали – верно говорила, у нее вся спина в полосах и ознобная… У меня, верите, от страху голова трястись начала. И вот что тут получилось. Окрепла она маленько, не то что потолстела – такие до старости не толстеют, уж перед смертью расплываются, – а просто зорька на щеках выступила. И так, не долечившись, умолила, упросила и обратно с тем же летчиком в тыл и улетела. Ну зачем ты, говорю, дура, лезешь туда? Зачем? Ведь опять тело и душу сломают. А она, знаете, посмотрела на меня так прозрачно, как вот те, что перед смертью, опрокидываясь, смотрят, и сказала незабываемые слова: «Душу мою никто не возьмет – сама только отдать могу. А тело?.. Когда на святое дело идешь, тело жалеть нечего».
Вот с того самого дня и я, старая грешница, стала над жизнью задумываться. И почему ж это так получается – женщине завсегда вдвое достается? Ведь и воюет она в наше время не хуже мужика, да ей еще от них же, как бабе, достается? И теперь все больше о меньшой убиваюсь, а через нее и с вами вожусь. Вот ведь почему говорится: не только в одних заслугах или там таланте дело, а еще и в жалости. А она у каждого – своя.
И хотя Валя не совсем была согласна с прачкой и санитаркой, она скорее поддерживала буйного снайпера, но что-то от той партизанки она почувствовала в себе, хотя это не вызвало в ней гордости. Наоборот, пришла спокойная, раздумчивая грусть.
С этого вечера в палате почти не говорили о женских делах, чаще молчали, читали вслух газеты. Было лишь одно, что тревожило, – отсутствие материнских писем. Валя и ждала их и боялась.
В эти же дни Валя впервые поднялась и села на койке, подвинулась к окну и заглянула в него. Первое, что она увидела, был открытый «виллис». В нем ехал осанистый, но еще бравый генерал в полевой, неяркой форме и равнодушно смотрел на окна. На мгновение взгляды их встретились. Глаза у генерала расширились, он мотнул головой, будто отгоняя навязчивое видение. Машина пронеслась, и Валя видела, что генерал оглянулся.
Валя, прижав ладошки к груди, сидела молча – она узнала генерала. Это был тот самый полковник, который когда-то в госпитале угощал ее вином и пыжился, как мартовский кот.
Встреча была необычной, но не она почему-то взволновала Валю.
Когда в палату пришла санитарка, Валя прежде всего спросила:
– А как того полковника? Спасли?
– Да как тебе сказать, – замялась санитарка. – Нет, вроде бы…
– Как нет?.. – замирая, спросила Валя. – Как нет? А что же армейский хирург? Он разве не помог?
– Что ж, милая моя, чай, он тоже человек живой. Не все в его руки дадено.
– Я пойду… Пойду посмотрю, – робко прошептала Валя. И то, что старуха не остановила ее, не отговаривала, окончательно укрепило ее в страшном предчувствии.
Шатаясь, задыхаясь от боли, она прошла палату, и тут только к ней подскочила санитарка, подхватила, положила ее руку на свое плечо и, поддерживая, повела, приговаривая.
– Это ничего, маленькая, это ничего.
Они прошли длинным школьным коридором, сплошь заставленным койками и носилками с недавно прибывшими ранеными, минули старые, густые и кое-где посеченные снарядами липы, двор и за садиком увидели группу людей, несколько машин и строй солдат.
Задыхаясь, но уже не чувствуя боли, наклонясь вперед и, как слепая, невольно выставляя перед собой руку с растопыренными, тонкими, просвечивающими на солнце пальцами, Валя спешила к этому строю. Она прошла сквозь расступившуюся толпу и остановилась перед простым, неоклеенным гробом. Возле него на коленях стояла женщина с узкими медицинскими погонами и, придерживаясь руками за шершавые доски, пристально смотрела в лицо полковника.
Вначале это лицо показалось Вале совершенно незнакомым – худое, восковое, с заострившимся носом и общим выражением брезгливого страдания. Но в самых уголках рта, у резко очерченного подбородка со свежей, поблескивающей на солнце, недавно выступившей щетиной с проседью, таились улыбчивые черточки. И когда Валя увидела их, она узнала отца.
Она сняла руку с плеча санитарки и осторожно, как актриса на сцене, ступая на вытянутый носок, маленькими шажками обогнула гроб, постояла перед ним, потом села на землю. Было так тихо, что она услышала жужжание больших серых мух. Они пролетали над головой и скрывались за спиной – только потом она узнала, что кровь пропитала повязку и выступила на спине.
В те минуты она этого не знала. Она просто сидела и смотрела на отца и как-то со стороны, с недоумением перебирала не его, а свою жизнь, не стыдясь, а просто отмечая, как она бывала жестока к нему, – не разыскала, не попыталась облегчить его участь, подозревала, что он забыл ее, бросил, равнодушно и тоже как бы со стороны злилась на то, что не добилась перевода в его часть и все это время слишком редко писала ему – была занята собой.
«Вот так, может, сейчас хоронят Осадчего или Виктора, а я даже не писала им», – подумала она, и сейчас же перед ней мелькнуло озабоченное, встревоженное лицо Прохорова. Она поняла, что все эти дни думала о нем, и сразу представила, что хоронят и его. Она закричала:
– Па-па!
И снова после этого вскрика над гробом сгрудилась тишина. Гудели лишь толстые серые мухи.
Женщина встала с колен, обогнула гроб и, присев, обняла Валю.
– Он все время думал о вас, – печально сказала она. – Все время. И даже когда очнулся в машине, – мы его везли уже сюда, – спросил: «А где Валя?»
Валя взглянула на эту женщину, прижалась к ней и замолкла. Потом поднялась на колени и приникла к отцовскому нехорошо вздрагивающему под щекой, морщинистому лбу. От тела уже шел запашок. Валя выпрямилась и с помощью женщины и санитарки поднялась на ноги. Санитарка торопливо объясняла:
– Выходит, как чувствовала. Полковник, говорят, Радионов. А у меня – Радионова. Посмотрела на него, – а, батюшки, так то ж копии срисованные. Как звали? Виктором. А моя-то – Викторовна. И страшно, а не сказать не могла. Потому век бы маялась – родной отец без нее похоронен.
Валей овладело холодное спокойствие. Она стояла прямо, положив руки на грудь, крепко сцепив пальцы, и в эту минуту была похожа на мать. Кто-то почтительно спросил, окончено ли прощание. Но этот вопрос относился не к ней, и она не шевельнулась. Тогда молчаливые солдаты, ступая на цыпочках, принесли крышку гроба и стали осторожно вколачивать заранее приживленные в крышке гвозди. Не стук молотков, а вид этих заранее приготовленных гвоздей потряс Валю, и она чуть не закричала. Но холодное, негнущееся состояние не позволило сделать это – в горле отказали какие-то нервики.
Потом гроб опустили в яму, санитарка подтолкнула Валю:
– Брось землицы, брось, маленькая.
Валя покорно нагнулась и стала бросать на белый гроб ярко-желтую, прогретую землю. В этот момент сзади грохнул винтовочный залп. Земля густо посыпалась в могилу, и гроб глухо и протестующе отозвался на удары. Эти залпы, скрежет лопат отнимали у Вали силы. Жужжание мух становилось все нестерпимей, и, когда от гроба осталась только свежая, еще живая верхушка, яма расплылась, и Валя медленно осела.
Очнулась она от мерного покачивания, открыла глаза и увидела над собой ожесточенное, мрачно красивое лицо Прохорова – совсем такое, какое она видела во время своих полетов в сиреневой дымке небытия. Теперь, когда она уже пережила это, она не удивилась, а подумала: «Как хорошо, что он все-таки появился. Может быть, он еще жив». И закрыла глаза.
Но мерное покачивание не исчезло, на лицо пахнуло запахом табака и водки. Валя уже с недоумением открыла глаза и опять увидела над собой лицо Прохорова. Это было так невероятно, что некоторое время она только смотрела на него, краем глаза улавливая столбы на школьном крыльце, притолоку и даже чьи-то растерянные лица.
Потом они встретились глазами, и лицо гвардии капитана сразу изменилось. На него легли оттенки сложнейших чувств: тревоги, радости, озабоченности и – Валя могла поклясться в этом – любви. Прохоров зажмурился и тихонько прижал ее к себе. Она не противилась, хотя это нежное движение и причинило ей боль.
Когда Прохоров принес ее в палату, ей больше всего хотелось побыть с ним наедине. Она верила, что, если ему рассказать все-все, он поймет. Не пожалеет, а поможет. Но в палате толпились врачи, Вале сделали уколы, и даже Прохоров почтительно уступил место у ее кровати генералу Голованову. Он осторожно взял Валину руку в свою, мягкую и слегка пухлую, посмотрел на нее очень добрыми, задумчивыми глазами и торжественно произнес:
– Я все понял, Валюша. Хочу надеяться, что вы, дочь моего друга…
Валя почему-то знала: он многое понял, но не все. Не понял главного, основного. Растолковывать ему это непонятное не было ни времени, ни желания. И потом ей хотелось побыть хоть минуту с Прохоровым или хотя бы одной. Поэтому она отрывисто сказала:
– Мы все дочери чьих-нибудь друзей.
Он прикрыл глаза, и его пухлая рука, в которой он по-прежнему держал Валину руку, дрогнула и стала разжиматься. Валя удержала ее и чуть-чуть сжала. Генерал открыл глаза и встретился все с тем же нестерпимо холодным взглядом, который однажды подытожил часть его жизни. Только теперь в этом взгляде появилось, что-то очень мудрое и не то чтобы жестокое, а несгибаемое. Ему стоило большого труда не отвести глаз.
– Ради всего прошлого, товарищ генерал… Всего, – сказала Валя и заговорщически сжала его руку, – исполните мою просьбу…
– Я готов. – Голованов наклонился к ней.
– Скажите, у вас есть дети?
Он напрягся, ожидая жестокого удара – однажды он уже испытал такой удар и, как тогда, сейчас был лишен возможности отразить его.
– Нет, – глухо ответил он. – Детей, к сожалению, у меня нет.
– И не было?
– Был… Мальчик… Он умер… – и, предугадывая ее вопрос, добавил: – Жена больше не хотела. Думаю, вы поймете, почему она не хотела.
Она и в самом деле поняла его жену, устало смежила веки и сказала главное:
– В Москве живет жена моего погибшего друга. У нее родился ребенок. Я очень прошу помочь ему так, как вы хотели помочь мне. До тех пор… до тех пор пока я не встану на ноги. Вы можете это сделать?
– Хорошо. Это по долгу перед… ушедшими?
– Да…
– Что ж… Теперь я понял почти все. До свиданья, Валентина Викторовна. – Он пожал ее руку и сверху прихлопнул мягкой ладошкой. – Адрес вы мне пришлете или дадите сейчас?
Она помолчала и с неожиданной для себя мягкостью решила:
– Я пришлю.
Генерал сжал обеими руками ее тонкие, слегка вздрагивающие пальцы.
– Теперь я понял немного больше. И помните, тогда был конец…
Он встал, несколько церемонно поклонился и ушел. Лечащий врач немедленно выставила из женской палаты и Прохорова – при генерале она не решалась сделать этого: она думала, что Прохоров его адъютант.
Никто в этот день и вечер не разговаривал с Валей. Палата молчала. Не было даже стонов.
Валя лежала и думала о прошлом, о доме, из которого все нет и нет писем, о женщине, стоявшей возле отцовского гроба. Кто она? Почему она жалела Валю? У нее вспыхнуло что-то похожее на ревность. И она сейчас же вспомнила о матери.
– Мамочка… – прошептала она, повернулась на здоровый бок и, подложив под щеку ладошки, уснула.








