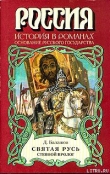Текст книги "Шлюхи"
Автор книги: Виталий Амутных
Жанры:
Контркультура
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)
– Слушай, художник, валяюсь в ногах и бью челом: сделай мне кофе. Да чтобы побольше. И крепости самой невозможной. Иначе я рухну с этой табуретки… или… на чем это я сижу?.. Рухну, Федя, и тут же отрублюсь. Хорошо, если этот сон не окажется летаргическим.
Молодой поэт Федор Тютчев (ежели пиит непризнан, он и до сорока может оставаться «молодым поэтом») тотчас умчался готовить кофе, а Никита вырыл из ближайшей кучи журнал поярче и, растопырив, насколько получалось, зенки, принялся внимательно его рассматривать. Но буквы корчились и склеивались, и все плыло перед глазами. Вскоре, к счастью, появился поэт. Вкус ядреного напитка, приготовленного по заказу, трудно описать, но какое-то оживление в Никитин организм он привнес. Ему даже захотелось говорить:
– Со мной происходит какая-то ерунда. Я никогда не думал, что жить – это тяжелая работа. Так, видимо, человек, заболевший какой-нибудь там астмой, вдруг узнает, что дышать – тоже действие. Еще недавно меня так огорчали идиотические гримасы действительности… А теперь я их почти не вижу. И не хочу вообще ничего видеть. Я хочу только спать, спать и спать. Я, наверное, чем-то болен. Федь, ты не знаешь, почему мне все время так хочется спать?
Федор Тютчев сегодня все как-то нервничал, и, видимо, только по причине своей нездоровой апатичности Никита никак не замечал в поведении своего друга беспокойства.
– Какая-то странная дремота одолевает меня каждую минуту. Я боюсь заснуть на ходу. Послушай, это ведь ненормально?
На очаровательной рязанской рожице поэта обозначилась грустная ухмылка, и он представил свое соображение по данному вопросу:
– Не надо, не будите их, не надо,
Им оставаться с грезою вдвоем,
Иначе жизни пьяная менада
Растопчет сирых в бешенстве своем,
Пускай им снятся радужные дали,
И запах слив, и танцы нежных дев,
Кому-то – Ангел в облачной вуали.
Кому – овсянок солнечный напев.
Пусть остаются вам богатства мира,
Все-все надежды, все услады пира.
Открытого для мириад персон.
Ликуйте же, покуда час не пробил,
Пока удар судьбы вас не угробил!
Но не тревожьте их смертельный сон.
– Только это еще не все, – продолжил Никита, – меня никак не оставляет ощущение, что я – машина, просто запрограммированный автомат, исполняющий здесь чью-то волю. Ну, чью волю… – это ясно. И я не против, и вовсе не намерен подобно еврейскому легендарному смельчаку бороться с Богом… Это ж надо, отчубучить такой фортель! Ладно, то вопрос их морали. А я могу Его только любить. Но зачем Он искушает меня? Как, скажи, могу я соотнести осознание моего собственного убогого Я с ниспосылаемыми Им испытаниями? Федя… и тут… тут мне становится страшно… Я понимаю, что это богомерзкая, прельстительная, возмутительно гадкая мысль, но… Может быть, это – не Он меня испытывает? Может быть…
На глаза Никиты навернулись скупые мужские слезы, так что поэту Федору Тютчеву пришлось подсесть к нему поближе, обнять опавшие плечи и хоть попытаться утешить друга:
– Я только автомат, я автомату брат,
Я брату говорю: ты тоже аппарат,
И ты не превзойдешь законов горней власти,
Проделывая то, что уготовил Мастер.
Устройством проводков, дискет, диодов, плат
Ты объясняешь дней таинственный парад.
Мне также стервенеть во мраке черной пасти —
Судьбы Ареопаг задернут тьмой ненастья.
Я только автомат…
Такой же, как моллюск, растение, примат,
Но от бесплодных мук злосчастнее стократ.
О, как избавиться от эдакой напасти:
Едва забрезжит свет – уже грохочут страсти,
И обогнет рондо свободы аромат…
Я только автомат!
Вдруг Федор Тютчев, как ужаленный, подскочил на месте, метнулся в сторону, побледнел, покраснел, потом опять побледнел. Никита никак не мог понять, что же произошло с его дружком, но заслышав какую-то возню в прихожей, сообразил: в акте появилось новое действующее лицо. И тотчас это лицо возникло перед его глазами – то была сутулая, неопределенного возраста особа в замызганном джинсовом комбинезоне, необыкновенно худая и какая-то драная, точно старая дворовая сука. Не здороваясь и не глядя на гостя, она прошла к окну, повалилась в кресло, вернее, в кучу всякой дряни, набросанной на него, и, вытащив из кармана пачку сигарет и зажигалку, закурила, злобно глядя куда-то в стену.
– А мы тут это… хотели чаю попить… Вот стишки читаем… – объяснился Федор, почему-то начав пришептывать, судорожно подергивая руками, словно искал им применение, но никак не мог найти.
Особа молча курила и смотрела в стену. Наконец выкурив добрую половину сигареты, она подала голос, который, шепеляво-скрежещущий, как нельзя лучше сочетался с ее наружностью:
– Стишки, говоришь… Ну-ну, зачти чего-нибудь…
– А что именно? – с готовностью отозвался поэт.
Особа сделала еще несколько затяжек.
– Ну, это…
И тотчас Федор Тютчев приступил:
– Лист упал отрешенно
И какая-то черная тень уходила по Дуцзюньскому лугу
Где раздувшийся чайник не помня себя говорил
Говорил
О том что нам есть что друг другу
Сказать
Мы охвачены вновь сквозняками лейкомы
Никогда не забыть
Эти кванты любви предпоследней
Палимпсест палиндрома
Тогда Самаэль
Ответит…
– Да. Да, – задумчиво, но утвердительно закивала головой особа.
– Как тебе? – обратился автор к Никите.
– Н-не знаю… Я ничего не понимаю в такой поэзии, – и добавил с поспешностью, – то есть я вообще ничего в поэзии не понимаю. Так что… Мне бы Пушкина, там, Ивана Захаровича Сурикова какого-нибудь…
– Говно, – все с тем же выражением глядя в стену, отозвалась особа.
– Мандельштама в конце концов…
– Говно.
Поэт Федор Тютчев отважился спасти положение, а заодно и сменить тему:
– Вы не знакомы еще. Это Никита.
– Какая мне разница, – отвечала особа стене.
Вскоре после несостоявшегося знакомства Никита распрощался и двинулся к выходу. Федор вывел его на площадку и, плотно прикрыв за собой дверь, спросил со смущенной усмешкой:
– Ты осуждаешь меня?
– Вот еще! Что за глупости? Я бы, может, и сам продался, да никто не покупает.
– Не могу же я и дальше ждать у моря погоды. Сейчас вот одна публикация, другая… Сборник выходит. У нее папаша… Не родной. Но очень крутой.
– Понятно, понятно. А она…
– Поэтесса.
– Я так и думал.
Они простились, и каждый вернулся к своим обязанностям.
По городу давно уже текла ночь. По широким проспектам она катила высокие гордые буруны, чья величественность слегка подсвечивалась неживым электрическим светом. В более тесных улицах мрак сгущался, течение его замедлялось, а в самых узких, дремучих тупиках возникали вовсе оцепенелые затоны черной и тяжкой тьмы, тьмы египетской. Из черноты иной раз выныривали люди, машины, и вновь растворялись в сажных потемках. Неизвестно где кто-то стрелял, стремясь отобрать у другого ниспосланые хлеб, мясо и ласки сытой женщины. Но потом пошел холодный дождь, и все окончательно перемешалось в хаосе бездны.
И был новый день… Но вернемся к Алле. Или, если вам угодно, вернем Аллу Медную. Что она там поделывает? Да вот же сидит за новым столом в новом кабинете, одна на двадцати восьми квадратных метрах. И сидит-то уже иначе, и смотрит по-другому, хотя завоевание ее никак не назовешь грандиозным, и она сама это прекрасно сознавала… Все же уверовать в свои силы – вот основа основ, и уж кому, как не ей, литературному критику, было об этом знать!
Алла сидела в своем кабинете, и было ей хорошо. Так уютно и отрадно, что она решила, стоит к этой приятности присовокупить еще одно маленькое удовольствие – и она окажется просто в пене блаженства. Поэтому Алла достала из сумочки пару бутербродов с отварной говядиной и нежно-зелеными кружочками огурца, заботливо и очень красиво завернутые в синие бумажные салфетки. Затем на столе появился симпатичный голубой термос – стоило Алле открыть пробку – над столом поплыло благоухание кофе и гвоздики. Но не успела она сделать и первого глотка, как за термосом ожил селектор. «Деточка, ну-ка, зайди ко мне на минуточку!» – сказала белая пластмассовая коробочка голосом Имярека Имярековича. Алла глянула в зеркало. Алла поправила резинки на трусиках, – тугие, они впивались в тело, отчего линия бедер нехорошо деформировалась, Ведь одета она была сегодня в облегающие черные лосины. Черные лосины и желтый пушистый свитерок. Приметность такого сочетания (сколько раз опробовано) в два счета полоняет глаза.
Приближаясь к черной двери начальничьего кабинета, Алла Медная еще обдумывала детали того арсенала женских уверток, уловок и всяких плутней, с помощью которых она сейчас примется чаровать своего патрона. Однако неудовольствие, сквозившее в голосе Имярека Имярековича, неожиданно сбило ее с толку. То есть никакого раздражения Имярек Имярекович никогда себе не позволял, но чуткое ухо Аллы способно было улавливать самые незначительные вибрации, самые деликатные нюансы интонаций.
– Деточка моя любимая, что же ты мне рецензийку не хочешь принести?
– Какую рецензию? Имярек Имярекович, для меня ваше слово…
– А по-омнишь, я тебе такую рассказочку давал? А-а? «Мудрая дева» называлась. Ах, ты лиска, ах, лиска! Забыла?
– О, что вы! Как это забыла! Я работаю. Работаю. Но, честно говоря, Имярек Имярекович, я не понимаю… Какой-то там графоман с улицы…
– Ух, ты, зайка, какая! Вот что я в тебе всегда ценю – это принципиальность! Молод-чинка! Но надо, деточка, надо. Мы этот вопросик как бы уже и решили. Или как?
– Так. Конечно, так. Я все сделаю. Я уже почти сделала.
– А ты не торопись, лапулечка. Сделай хорошо, – и, вовсе уж разулыбавшись, добавил: – Есть у меня, заинька, одна новостишка.
– Ой, – закачала головой Алла. – Я вам всегда так…
– Погоди. Погоди минуточку. Петр Иванович…
– Нинкин.
– Умничка! И Петр Иванович…
– Милкин.
– Изумительно! Так вот, они там, у себя на телевидении, программку готовят, конкурсик такой для литературных критиков. Я им так и сказал: победить должна Аллочка.
– Ох! – затрепетала Аллочка.
– Подарочки там всякие у них будут. Ну, сама, рыбонька, знаешь, какие они там бывают, эти призы: кофеварки там какие-нибудь, видеомагнитофончики… Автомобиль будет хороший, иностранный. Но ты, золотко, сама понимаешь: машинку тебе еще по чину рановато. Машинку ты не получишь. Это так, для съемок, для впечатления. А вот путевочку на четыре дня в Мексику я тебе обещаю.
– О-о, Имярек Имярекович…
– Да. Поездочка очень престижненькая. Кон-ференцийка у вас там сорганизуется. Докладик прочтешь. Но, деточка, Петры Ивановичи сегодня какой-то бал затевают. И очень, очень меня просили, просто умоляли, чтобы ты у них там королевой побыла. Уж не откажи. Люди они, деточка, ты же знаешь, – изумительные. К полуночи поджидать тебя будут.
– О, конечно! Какие мелочи! – сразу все сообразив, воскликнула Алла.
– Ай-йа-йа, что за прелесть – умная женщинка. Ну беги, беги, мое золотко, – подвел черту в беседе руководитель.
– А вот должность вашего заместителя… – робким голоском вновь попыталась уцепиться за разговор Алла.
– Девочка моя золотая, не пытайся за один разок сделать два шажочка. Упадешь. Всему свое времечко. На сегодня и завтра ты свободна. Иди – готовься, отдыхай. Аллочка-Аллочка, ты же умная девочка – все понимаешь.
Умная девочка все поняла и тотчас отправилась домой готовиться. Собственно, подготовку для себя она наметила такую: хорошенько выспаться и поменять трусики на праздничные, новые, с вышитыми на передке красными нитками чувственными губами, желтыми нитками – торчащий из тех губ цветочек на длинном стебельке, а бирюзовыми – иностранную надпись – love me!
Раздумывая, какое снотворное и в каком количестве ей лучше сейчас проглотить, Алла Медная вбежала к себе домой, и тут же из кухни-столовой вырвался чем-то придушенный крик Славика.
– Что здесь происходит?! – сведя брови, потребовала объяснений преступному в данный момент нарушению тишины Алла. – Почему шум?
– Он мяса не хочет есть, – в ту же секунду нафискалил на сына Евгений Глебович. – Я ему говорю: там витамины, белок, минеральные соли, от мяса вся сила. Заталкиваю ему – он выплевывает.
– Ты почему не хочешь есть мясо?! – взгрохотала мать.
– Не люблю, – простодушно отвечал Славик.
– Не любишь? Мясо не любишь?!
– Я ему говорю: оттого ты и такой больной, бледный и не растешь. Потому что мяса не ешь.
– Ах ты гаденыш! – вышла из себя Алла и, схватив прямо рукой котлету с тарелки, принялась запихивать ее в раскрытый от испуга Славкин рот.
Действительно худенький и бледный, как проклюнувшийся в тени росток, Славик сидел, вцепившись ручонками в сиденье стула, ни жив ни мертв. В свои без малого пять лет он выглядел не старше трехлетнего, и так дик был в его распахнутых светло-серых глазах ужас взрослого человека. Он давился, не в силах проглотить ненавистное мясо, и щечки его, политые слезами, перепачканные жиром, с прилипшими бородавками жареного лука, тряслись судорожно и жалко. Вдруг он стал задыхаться… Несмотря на свой титанический задор, Алла вовремя остановила натиск и принялась пальцами выдирать раздавленную котлету назад. Тут у нее самой на глаза набежали слезы, и, рванувшись к сыну, она обхватила его обеими руками, только тот успел откашляться, прижала к груди.
– Славочка! Сыночек! Родненький мой. Ну что же ты не ешь? Я бьюсь-бьюсь… чтобы ты был здоров, чтобы ты вырос большим, красивым. А ты… Разве так можно? Разве можно так маму расстраивать? Ну-ка, давай ты все съешь. И мы опять будем друзьями.
Алла подхватила со Славкиной тарелки другую котлету и вновь затеяла тыкать ею ему в губы, правда, несколько сдержаннее.
– Не люблю-у-у… – затянул чуть пришедший в себя Славик.
– Надо. Надо! Что это еще мне тут за капризы!
– Не люблю-у…
– Ах, ты тварь! Поганец! – не выдержала Алла. – Ну-ка, марш в угол! Нет, я тебя в туалете запру и свет выключу. Ты у меня научишься мясо есть!
Однако затягивать воспитательный час Алла тоже возможности не имела. Так что пришлось ей оставить сына на мужнино попечение и немедленно отбыть в спальню.
– И смотри мне тут, – уходя, наказала она уже мужу, – чтобы ни одного звука. Ночью у меня будет срочная работа. Мне надо отдохнуть.
Алла Медная проспала не менее семи часов. После того, как будильник вернул ее к реальности, Алла отправилась в ванную и приняла душ, сначала очень горячий, чтобы взбодрить тело, затем – прохладный, чтобы вернуть коже эластичность и сузить поры на ней. Надела выходные нарядные трусики, те самые, с иностранным призывом «love me!», умопомрачительное вечернее платье, черное, со всякими вырезами и разрезами, все блестящее и очень, очень дорогостоящее. Далее часовая церемония накладывания на лицо разнообразных красок. Запустить в волосы шалую волну – полчаса. Еще Алла навесила на себя почти все имевшееся в ее казне золото, так что пришлось вызывать такси, поскольку супруг не мог сопровождать ее. Да хоть бы и мог – вряд ли сладился бы у него диалог с неотесанными, хамовитыми налетчиками. В конце концов Алла Медная к началу двенадцатого всесторонне и до основания подготовила себя к балу, а еще через четверть часа отбыла (королева, просто королева!), благоухая какой-то новомодной ароматической композицией фирмы «Cacharel».
Но в какое нелепое, можно даже сказать, комичное положение угодила Алла, достигнув конечной цели пути. Оказалось-то, что все ее приготовления были совершенно напрасными: не понадобились ни прикрасы, ни блестящее платье, ни даже трусики с вышитой директивой. Все это с нее сразу по прибытии сняли, и, пока еще не успели показаться прочие приглашенные, скоренько придали абсолютно иное обличье. Ох, ну какие они были озорники, эти Нинкин и Милкин, вот проказники! Алла совсем уж настроилась, думала: вот сейчас… все и начнется. Но ничего ТАКОГО от нее не потребовалось. Итак, с Аллы Медной сняли все наряды, все покровы совлекли. После чего облили ее черносмородиновым ликером (две бутылки истратили), а затем оклеили всевозможными этикетками и ярлыками (насыщенных расцветок) от заграничных товаров, и в таком виде посадили на стул в прихожей.
– Аллочка, понимаешь, у нас сегодня намечается как бы театгализованный бал. Ты же твогческий человек – что тебе объяснять! – говорил Нинкин.
– Надеюсь, ты догадываешься, что за голь тебе пгедстоит воплотить, – присоединялся Милкин, – Мечта пегвых актгис!
– Не гобей, не гобей! Увидишь, как хогошо будет, – заверили они вдвоем.
И тут пошли гости. В соответствии с замыслом устроителей гулянки каждый гость должен был целовать королеву бала, Аллу, в мягкое (пониже спины) место, а она в это время пришлепывала ему на лоб одну из наклеек, какими была украшена сама. Участников торжества оказалось не так много (не более двух дюжин), и, надо отдать должное, все они показали образцовую пунктуальность, так что Алле долго сидеть в прихожей и не пришлось.
Вообще-то вечер прошел прекрасно. А как весело было! Это только благодаря изобретательному таланту Нинкина и Милкина. Каких только штук не напридумали они, – знай о том блаженный Киприан Карфагенский, он удавился бы от зависти. Поскольку перечислить все было бы просто невозможно, удовлетворимся лишь кругом действий, выпавших на долю Аллы. Например, Аллу устанавливали на четвереньки, вставляли а зад мочалку, – таким образом получалась лошадка, – и Алла катала на спине по комнате, нет, не всех, разумеется, а, как королева бала, только Нинкина и Милкина. Но гостям было достаточно и зрелища – они хохотали, точно безумные. Потом Нинкин нарисовал красным фломастером на лбу у Аллы звезду. А Милкин на ее левой щеке черным фломастером – серп и молот. А Нинкин на правой – неприличную картинку, да еще подписал ее коротким словом. И Алла, в такой росписи, все еще частично оклеенная бумажками, перед ликующими зрителями мочилась на столе в хрустальную вазу с фруктами и пела при этом гимн Советского Союза. Публика падала от смеха. То есть в прямом смысле падала и корчилась в конвульсиях на буковом паркете, сотрясаемая приступами хохота. Еще Алла Медная провела боксерский раунд с прославленным телекомментатором, именитым политологом – Диной Оскотскодворской, в котором одержала очевидную победу. Во время сражения неугомонная толпа, в пароксизме экзальтации, швыряла в соперниц пирожными с зефирным кремом, плескала в них кофейной гущей и посыпала сахарной пудрой. Сладкий вышел поединок. Все же самой веселой, уморительной и острой была другая придумка Нинкина и Милкина.
– А тепегь мы пгедлагаем всем принять участие в исконно гусской забаве! – выкрикнул Нинкин.
– Аттгакцион «Куликовская битва»! – поддержал его Милкин.
Сейчас же был принесен жостовский поднос, на котором возвышалась гора очень широких и тонких пластов мяса. Создавалось впечатление, что мясо было парное и нарезано только что, поскольку кровь так и сочилась из него. Каждому присутствующему выдали по такому мясному пласту, а затем Милкин и Нинкин всех разбили на пары.
– Тепегь, по моей команде, начинаем бой! – воззвал Нинкин к общественному вниманию. – Впегед, дамы и господа! Впегед, товагищи!
То-то здесь потеха началась! Гости хлестали один другого тем мясом по физиономиям, по плечам, по телу, и реготали, ржали до слез, так, что участие в той сшибке лошадей показалось бы излишним. Сами Нинкин и Милкин принимали в ими же сочиненном увеселении самое активное участие, они до того исстегали друг дружку, что сами уже цветом не отличались от мяса. А ведь Нинкин еще умудрялся иногда бить тарелки и бутылки. А Милкин – дудеть в пионерский горн. В общем, веселье хлестало через край. Так хлестало, что и сказать-то нельзя. Вот какое представление устроили симпатяги Нинкин и Милкин, известные баловни и вертопрахи.
Лишь когда мутный тусклый утренний свет просочился сквозь ажурный занавес на окнах, вакханалия достигла кульминации и моментально оборотилась развязкой. Кое-как приведя себя в порядок, Алла Медная отчалила восвояси. До чего легка и свободна была для нее эта ночь, до самого рассвета она ощущала колдовскую легкость полета! Но стоило выйти ей на белый свет, как сокрушительная тяжесть, немыслимая разбитость навалились на нее вмиг. Алла, чтобы несколько развлечь себя, пыталась вспоминать наиболее яркие эскапады и смешные курьезы, произошедшие на балу, но необоримое изнеможение доводило до полного отупения. По дороге Алле попадались все какие-то суетные люди, чаще женщины. Она с брезгливостью экс-королевы оглядывала их темные пальто, сумки никогда не входивших в моду моделей, их землистые озабоченные лица, испорченные тяжелой работой фигуры; она смотрела на них сквозь утренний туман и невольно припоминала бонмо, популярное в ее кругу: настоящие женщины в восемь часов утра еще спят. «Только бы поскорее добраться до родного очага», – думала Алла. А там она немедля бросится в кровать – спасть, спать, спать и будет дрыхать пока… пока… Уж что-что, а покой она заслужила!
– Доброе утро! – приветствовал ее дома супруг Евгений Глебович, отчего-то поутру с пылесосом в руках. – Ты выглядишь… как-то… необыкновенно. Славку я уже в детсад отвел! А что… было так много работы?
– Что за вопросы! Наверное, много: не видишь – с ног валюсь.
В спальне Алла подошла к трюмо, чтобы глянуть насколько необычен ее вид, да вдруг, к великому своему изумлению обнаружила, что щеки ее мокрые. «Что это такое? – сквозь дремоту шевельнула мозгами Алла. – Слезы? С чего бы это?» Впрочем, плакала она в последний раз в жизни, больше с ней такого не случилось.
Двинемся же далее, ибо события неумолимо волокут нас к куда более знаменательному балу. Но и раньше своего срока ему не случиться.
Дворницкая. Камора Никиты Кожемяки. Шесть часов вечера. Никита и его сосед по прибежищу. Заметим только прежде, что в тот поздний час, когда мы расстались с Никитой, когда он, распрощавшись с поэтом Федором Тютчевым, направил свой путь к дому, а именно – к своему магнетическому ложу… заметим, что этого самого вожделенного ложа ему достичь все-таки задалось. Только он упал на койку, как на него навалился тоннами гнетущих видений мощный мертвенный сон. И кто знает, сколько бы на этот раз удерживал его мир теней, если бы вечером следующего дня не растолкал его (довольно бесцеремонно) сосед из апартаментов напротив, по имени Леонид, по прозвищу Лепа, по кличке Хохол.
– Шо ты тута дохнешь? – вновь и вновь приступался сосед, лишь только в глазах у Никиты мелькал отсвет дневной мысли. – На работу не ходишь. Тама листьев нападало… Тебя же вышвырнут отседова, как пса паршивого.
Никита пытался зарыться поглубже в свое логово, но настырный сосед нахально стаскивал с его головы одеяло.
– Никита, надо ехать в Париж!
– Что? Куда? Париж? Иди ты в задницу! – путая бред реальности с несуразицами сна, отмахивался тот.
– Вставай, вставай, Никита, вставай. Пива хочешь? Я тебе дело говорю. Вставай. Шо тута дохнуть, – надо ехать в Париж.
На помощь соседу Лене пришел сосед Толик, совместными усилиями им удалось привести Никиту в чувство.
– Толян, принеси пива. Видишь, человеку плохо, – распорядился Леня.
Никита спустил вниз ноги, сел на краю койки, скорчившись от пронизывающего сквозняка, и смотрел в открытую дверь. В комнату вошла до невозможности отощалая животина – мешок костей в черном пуху – с красным бантиком на шее.
– Кошка, – точно распознал вид четвероногого Никита.
– Да, кошка, – согласился Леня. – Но ты же знаешь, шо они у нас долго не тянут, – крысы сжирают.
Леня погладил трущуюся о его ногу лысоватую головенку и вздохнул сострадательно:
– И эту сожрут.
Пришел Толик с начатой бутылкой пива.
– Вот все, что осталось…
– Ух, сука, – озлился на него Леня, – все вылакал. А человеку похмелиться нечем.
– Я не буду, – довольно твердо заявил Никита, и Толик вместе с бутылкой удалился.
– Нет? Ну и ладно. Ты вот сюда слушай: тебе гроши нужны? Нужны. Кому они не нужны! Я тут с чудаком познакомился. Он сам с нуля начинал. Короче, возить в Париж всякую мутатень: редкоземельные, иконы, может, еще, там… Когда что. Ты сюда слушай, визы, паспорта, дорога – за все он башляет. Ну шо? А! За месяц, говорит, хату купишь. Еще месяц – тачку возьмешь. Я тебе, как другу предлагаю. Вдвоем лучше. Ну шо? А ты тута дохнешь.
– Охота же тебе такую херню городить, – отозвался наконец Никита. – Если твой друган не шиз, то ты сядешь раньше, чем насобираешь на новые тапочки.
– Мое дело – предложить… – обиделся Леня. – Я другому скажу – любой поедет. В Париж любой поедет. Может, я в Париже останусь. А ты завтра на участок выходи, а то мне баба Шура сказала: если не выйдешь – она тебе яйцы оторвет. Ну, давай… дохни тута.
– Привет Нинке Риччи! Привет Бельманде! – послал вслед уходящему соседу Никита.
Наконец-то страстотерпца оставили в покое, и он мог бы вновь упасть на самое дно моря грез, только его воображению вдруг предстали усталые глаза и русые вихры с густой проседью. Никита встал, оделся и пошел прочь из этого обиталища безысходности, в то время, как в здешнем «салоне», где находилась древняя шахматная доска, взвинченные пьяные голоса обещали скорую потасовку.
В телесах удобно развалившегося по улицам мрака Никита разыскал необходимую ему колею, доведшую до крова того человека, которого он называл своим учителем.
– А, Никита пожаловал! Привет-привет! Проходи.
Ты, верно, взялся за эпохальное полотно.
– Добрый вечер. Нет, я уже давно ничего не пишу. Я все время сплю.
– Что ж, тоже дело. Ты есть хочешь? Вижу, хочешь. Шагай на кухню. Картошка в ящике, масло в холодильнике, сковорода на плите. Пожаришь – и меня угостишь. А я пока там докончу…
Надо ли говорить, что Никите есть вовсе не хотелось, но, поскольку сознание его (теперь это «менталитет») было до того азиатским, что любое произволение своего учителя, пусть даже только обозначенное волеизъявление, воспринималось им как приказ, приводилось в исполнение немедленно и с самой искренней радостью. Никита на минуту заглянул в комнату, где, кроме книг и стола, были еще прописаны штанга и горшок с геранью на окне, – заглянул, словно , боясь обнаружить там какую-либо реорганизацию. Но нет, все было так же, как прежде. Книги. Учитель за работой. Настольная лампа. Герань. Эта картинка передала какой-то мир его сердцу, и Никита пошлепал на кухню чистить картошку.
Он аккуратна срезал с картофелин длинные ленты кожуры и думал: Учитель за своим столом, стол залит светом, на светящемся белом листе возникают Создателем дарованные слова – значит, остается для тутошних постояльцев некоторый шанс; пусть его, Никитина, жизнь кончилась, но что бы ни случилось, как отрадно было бы различать из дальней дали, небытия эту сиротливую желтую звезду настольной лампы. Никита не завидовал своему учителю… Или завидовал? Все же ему больше всего не хотелось бы терять этот предел. Потом они ели картошку прямо из сковороды, и Никита не мог смотреть в эти глаза, знающие все о нем, все о его помышлениях, знающие все.
– Водки хочешь? – спросил Учитель не столько ради провокации, сколь празднуя ритуал.
– Мне уже пиво сегодня предлагали, – ответил Никита.
Под этой крышей Никиту никогда не подкарауливали тягостные паузы. Молчать тоже было хорошо.
– Может, тебе деньги нужны? – вновь задал вопрос Учитель. – Я, конечно, понимаю: это самое ничтожное, что можно предложить.
– Нет, спасибо, – отвечал Никита. – Деньги мне не нужны.
– Ну, тогда давай заканчивай елозить вилкой по сковородке, пойдем я тебе телевизор включу. Скоро будет «Спокойной ночи, малыши». Пойдем, пойдем, Хрюшу послушаешь, Степашку. Мультик посмотришь. Вставай.
Поднявшись из-за стола, Никита молча поплелся за учителем. Тот и впрямь включил ему детскую передачу, и Никита покорливо отсмотрел выступление кукольных зверушек, разговаривавших в высшей степени идиотическими голосами. Поскольку учитель вновь отлучился к своему письменному столу, пришлось проглотить и «Новости». Когда же на экране запрыгали двое мордастеньких и счастливых, с округлыми брюшками, конферансье, состряпанные на один покрой, а с ними вкупе круглолицая с оттопыренными ушками дама со зловещей решимостью в глазах, потом еще две представительницы прекрасного, – Никита услышал за своей спиной голос Учителя:
– О! Да это опять Алла Медная! А эти еще… Милкин и Нинкин. Как обычно, успевают всюду.
– Кто такая Алла Медная?
– Алла? Что ты! Это теперь известный литературный критик. Что же она здесь-то делает?
Тотчас Нинкин и Милкин услужливо оповестили телезрителей, что, мол, где-то там у них состоялся конкурс литературных критиков, и вот они – достойные победительницы, а теперь вот победительницы быстренько скажут по последнему слову, и поглядим-ка, что за призы-подарочки приуготовили такие-то и такие-то фирмы, банки и прочие сердобольные спонсоры.
– Ита-ак! – выкрикнул Нинкин. – Слово пгедоставляется тгетьей пгемии. Пегед вами Антонина Агхангельская!
Третья премия, Антонина Архангельская, жутко смешалась, и руки у нее дрожали, и губы дергались.
– Я счастлива… Я так счастлива быть удостоенной…
– Выскажите ваш взгляд на совгеменный пгоцесс, – подсказал ей Нинкин.
– Ax, да! Как литературный критик, я считаю, что всем нам необходимо духовное лекарство. А лучшее духовное лекарство – это вера в красоту жизни, в этот мистический подарок Бога, коим является также и литература. Но, как критик, я скажу, что всевластие парламента перерастает в национал-коммунистическую, фашистскую диктатуру, оно порождает порой преступные произведения, никак не согласующиеся с генеральной линией нашей демократии. Я призываю. Сограждане! Россияне! Коллеги по творческому труду! Есть произведения, рассчитанные на провокацию, на скандал. Я призываю вас, как кровно заинтересованная в судьбе России, замалчивайте эти произведения, замалчивайте, они должны умереть в том вакууме, который мы создадим вокруг них, а такая возможность у нас есть!
Антонина Архангельская, хоть и волновалась очень, могла бы еще говорить, но эфирное время дорого, и Милкин чтил регламент:
– А тепегь своими интегесными мыслями поделится Дина Оскотскодвогская, – втогая пгемия!
Вторая премия подошла к микрофону, бросила коротенький взгляд, в котором так и сквозила надменная усмешка, на третью премию и низким, очень сексуальным, голосом произнесла:
– Я хочу воспользоваться случаем и обратиться к президенту.
Третью премию словно током прошибло, она даже дернулась к микрофону, да было уже поздно.
– Возможно, мое слово, – уверенно продолжала Дина Оскотскодворская, – покажется президенту резким. Но я, как кровно заинтересованная в судьбе России, не могу кривить душой. Это мысль не только моя, и все же приведу ее. «Нам не избыть в себе иногда горечь вопроса: где она, президентская власть, где оно, государственное право? Когда порочат, компрометируют, стремясь любыми средствами убрать с политической арены, ваших соратников, где вы, наш президент? Когда народ пытаются отделить от вас, пользуясь невзгодами, пусть временными, но существенными, где вы, наш президент? Вы далеко, мы не чувствуем вас. Когда захлестывают национальные страсти, когда Россия на краю большой опасности, которую мы все ощущаем, где вы? Мы не чувствуем вас…» Конец цитаты….