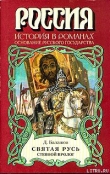Текст книги "Шлюхи"
Автор книги: Виталий Амутных
Жанры:
Контркультура
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 9 страниц)
Annotation
В гротесковой повести-пьесе «Шлюхи» демократка Аллочка Медная ползает под пулеметными очередями в Останкине, испытывая небывалый доселе оргазм, а таинственное существо из неизвестно какого мира планирует, как шахматист, дальнейшие события в нашей стране. Но правда остается за Никитой Кожемякой и его любимой девушкой Дашей из городка Святая Русь.
Виталий Амутных
Акт I
Акт II
Акт III
notes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Виталий Амутных
Шлюхи
ДИМИТРИЙ. Ступай, душа, во ад и буди вечно пленна!
(Ударяет себя в грудь кинжалом и, издыхая, падущий в руки стражей).
Ах, есть ли бы со мной погибла вся вселенна!
Конец трагедии. А. П. Сумароков
Акт I
Известный литературный критик Алла Медная сидела на своем любимом полосатом диване, в дезабилье, широко расставив ноги (локти вдавлены в мягкие синеватые коленки, кулаки подпирают щеки), и думала. «Я демократка, – думала она, – я демократка, и сознание мое настолько либерально, что возьму вот сейчас, выйду на улицу, и дам первому встречному». Однако, сомнение, примет ли первый (десятый ли) встречный предложенный дар, заставило ее погрустнеть; нижние веки набухли от слез и не удержали тяжелой влаги – по щекам, тридцать семь лет служивших хозяйке, пролегли извилистые слюдяные дорожки. Широкое лицо Аллы, тридцать семь лет с переменным успехом сопротивлявшееся разрушительным набегам времени, жизни, полной невзгод и борьбы, наконец стало изнемогать в неравном поединке, и последние годы посторонний глаз все больше находил в нем сходства с кругом сыра, над которым изрядно поработали оголодавшие мыши. Что же, никого, кроме Господа, не винила Алла в том, что узреть белый свет (изведать его, перестрадать) выпало ей не в главном городе; что отец ее земной оказался не партийным боссом (да хотя бы просто предприимчивым человеком), а ничтожной провинциальной сволочью, полной паназиатской лени и чисто русских предрассудков. Потому она могла гордиться собственными, вполне самоличными завоеваниями: окончила престижное учебное заведение, живет в столице (в старой части города), работает в отделе критики популярного толстого журнала… Конечно, жемчужные горизонты мирского счастья, куда нередко уносилась она мечтой, оставались неодолимо обширны, но ее женских сил явно недоставало, чтобы сокрушить бесчестную волю Провидения – ах, это убожество стартовой позиции! Ах, эти ублюдки родители! Ах, этот жестокосердный, людоедский…
Алла Медная сидела на диване (ноги все так же широко расставлены, локти на коленях, кулаки подпирают щеки) и сквозь муаровую пелену облегчительных слез рассматривала злополучные картинки своего невыбранного детства: вот отец ведет ее за руку вдоль колючего прибоя ячменного моря (почему не по аллее Булонского леса?!); вот бабка читает ей в кресле народные сказки про дураков-царевичей (почему не гувернер-англичанин стихи Вильяма Блейка?); вот мать примеряет ей байковую пижаму в горошек, перешитую из старого халата (почему……….!!!), вот тетя Аня…
– О-о!
Дрожащая пелена серого муара перед глазами сделалась такой плотной, что за ней погасли самые назойливые видения. В изнеможении Алла откинулась на спинку дивана, а левая рука ее в каком-то произвольном экспрессивном порыве врезалась в лежащую подле стопку белых листов. Верхний (на нем значилось: Никита Кожемяка МУДРАЯ ДЕВА) затрещал и скукожился, но Алла уже не слышала ничего, кроме скулящей обиды. Лист, претерпевший от нечаянного всплеска эмоций известного литературного критика, принадлежал рукописи, которую Алле поручил изучить и даже набросать небольшую рецензию главный редактор журнала – Имярек Имярекович Керями. Спервоначалу Алла весьма удивилась, не только удивилась, но и возмутилась: где это видано, где слыхано, в каких редакциях «изучают» прибывшие без рекомендаций рукописи? А уж чтобы писать на них рецензии, да не кому-то, а известному критику?.. Но Имярек Имярекович нежно похлопал ее по ягодицам и сказал: «Надо, надо, деточка. Не ленись, мое солнышко». Пришлось унять справедливый гнев, пришлось согласиться. Алла Медная вспомнила пухлое, оживленное неизбывной иронией, лицо своего патрона, и чувство покойной уверенности, какое она склонна была находить в этих чертах, чуть остудило стихийный произвол неврастении.
Тут в дверь ее комнаты весьма учтиво постучали, причем этот мягкий игривый стук небезуспешно исхитрился воспроизвести ритм модной песенки. Тот же миг Алла схватила валявшуюся здесь же, на диване, юбку и несколько раз энергично прошлась ею по щекам. Когда она отняла тряпку от лица, и тени недавней расслабленности не сохраняли ее жесткие черты: глаза сужены и холодны, как ноябрьское небо, бледные губы плотно сжаты, и никакого дрожания не помнит твердый широкий подбородок.
– Да-да! – уверенно швырнула Алла.
Дверь приотворилась разве на треть, и в образовавшуюся щель протиснулся субтильный желтоволосый человечек. Так и не решившись перенести в комнату все свое небольшое тело (одна нога оставалась за дверью), он широко, но виновато улыбнулся и пропел приятным тенором:
– Ал-ло-чка, яичница с помидорками ждет твоего внимания.
Алла еще сузила глаза, чем достигалась особенная пронзительность взгляда, и заставила встрепенуться крылышки собственного носа.
– Спасибо. Иди. Сейчас буду.
Мужчина исчез, и дверь за ним закрылась столь плавно, точно работала на гидравлике.
Набросив на плечи теплый вельветовый шлафор (от неожиданного нервного срыва ее начинало знобить), Алла взбила массажной щеткой волосы, сделала несколько глубоких успокоительных вздохов и направилась на кухню ужинать. Она чувствовала, что и впрямь нуждается в подкреплении сил.
– Что на ужин? – войдя на кухню (служившую, как водится, и столовой), уронила она вполне формальный вопрос, ибо все для трапезы было выставлено и приятно сервировано на столе.
– Твоя любимая яичница по-польски, – с готовностью рассыпал слова желтоволосый человечек.
– С помидорами?
– С помидорами, луком и болгарским перцем.
– А мясо? Ты же знаешь, что я не могу без мяса.
– Вот мясо, Аллочка. Ветчина. Ветчина – это мясо. Китайская, с пряностями. Свежая. Только что открыл.
Алла устало опустилась на стул, сохраняя в лице отблески тайного недовольства. Она сказала только:
– Будь добр, подай мне, пожалуйста, салфетку, – но таким тоном, что любой человек исподволь ощутил бы смутное чувство вины.
Видимо, приключившееся потрясение, хоть и не имело как будто конкретного повода, все-таки отняло у Аллы немало сил. Она скоро расправилась с яичницей и незаметно для себя одна приговорила целую банку ветчины. Однако окончательно ее перестало лихорадить лишь после второй рюмки польской водки, которую она всегда недолюбливала за резкий химический привкус, но весьма ценила ее умеренную стоимость. И вот, когда ласкающая волна сытости и покоя широко прошлась по разомлевшему телу, Алла впервые отпустила мужу согревающий взгляд, отчего тот вспыхнул рассветным румянцем.
Желтоволосый человечек вот уж с десяток лет являлся мужем Аллы, и она гордилась им вполне, как личным завоеванием, как трофеем, выхваченным в неравном поединке с судьбой. Нет, Алла вполне сознавала интимную самоценность этого символа, и потому в самых редчайших случаях доверяла кому-либо его секрет. Впрочем, она почти никому не доверяла, ссылаясь на уроки жизни.
Но и Евгений Глебович находил в своей избраннице немало качеств, которые давали, в свою очередь, немало оснований для его восторгов. Сам ли он воспитал в себе эти чувства или, будучи от рождения человеком впечатлительным и податливым, внял посторонним внушениям, теперь уж это значения иметь не могло. Правда, в юные годы его как-то больше привлекали особы нежные и ласковые (или такие тогда были в моде?), но по какой-то там запрограммированной иронии рядом с ним всегда оказывались дамы энергичные, твердо знающие свои пути и цели. Казалось, этим крупнотелым, жарким веронезовским венерам и мужчин следовало искать под стать себе – с богатырским размахом бедер и плеч, но они, точно осы над вареньем, так и охаживали его тщедушность, его стесненность и безответность. От этих, порой докучных, преследований его всякий раз избавляла мама. Но к моменту появления в его жизни Аллы сердобольной мамы не стало, потому много времени не потребовалось Алле Шумаковой, чтобы стать Аллой Медной, а также столичной жительницей, а также обладательницей различных важных вещей, а также фамильных связей, а в сумме – более-менее пристойного статуса, признанного обитателями этой планеты. Евгений Глебович и не противился сокрушительной активности Аллы (почти не противился), потому что, во-первых, силушки на то ему не найти было; во-вторых, жениться все равно надо, а третий фактор, несомненно, оказался решающим – все же спокойнее жить рядом с энергическим человеком, который твердо знает, что ему необходимо, а также, что требуется всем окружающим.
Итак, разомлев от приятного ужина и водки, Алла Медная окинула заблестевшими в истоме очами своего мужа и промокнула губы синей бумажной салфеткой. Тягучий, влажный взгляд неспешно тек и тек на Евгения Глебовича, отчего тот так и забился, заметался на месте: то в пол посмотрит, то – в потолок, ногу на ногу положит, поменяет их местами, ухо почешет… А сладкие, чуть соловые глаза даже не моргнут, катят и катят на него вязкие волны.
– Славик спит? – на той же вязкой волне взгляда запустила она наконец пару слов.
– Да, да. Я его час назад уложил, – как-то избыточно суетно встрепенулся Евгений Глебович, – Никак не хотел. То книжку почитай, то водички принеси… Я ему: нет, хватит балагурить, поздно уже. Он говорит: тогда я буду долго какать. Шантажист. Насилу уложил.
Алла еще какое-то время пополоскала мужа в своем медово-сливочном взоре, а потом столь же кондитерским голосом произнесла:
– Геня, иди помойся. Я сегодня буду заниматься любовью.
– Аллочка, я всегда… – начал он было в самом верхнем своем регистре.
– Геня, не надо слов. Иди. Я жду.
Через несколько минут Евгений Глебович голышом проскочил в спальню и хотел уже нырнуть под одеяло, как его остановил голос жены:
– Где наши наручники?
Еще более хрупкий в худосочной своей наготе он замер в позе неестественной и потешной.
– А-аллушка, может, давай сегодня как-нибудь попроще, а?
С выразительной медлительностью Алла сняла с ноги туфлю, отороченную кроличьим мехом, и с плеча съездила мужа ею по физиономии.
– Ойх! – взвизгнул Евгений Глебович, валясь на постель, как подкошенный.
– Закрой рот, – негромко, но веско посоветовала Алла. – Славку разбудишь.
Тот же миг Евгений Глебович бросился под кровать и вернулся оттуда с новенькими металлическими наручниками. Далее, не мешкая, при обоюдном молчании, Алла приковала мужа этими самыми наручниками к спинке кровати, принесла несколько зажженных стеариновых свечей, резиновый жгут, отвертку, пассатижи, чайник с кипятком, несколько швейных иголок, и они отчалили в край столь личных отношений, который, вероятно, и в самом деле, не стоит инспектировать людям посторонним (хотя обыкновенно одни и те же лица инспектируют и вместе с тем ратуют за неприкосновенность тех областей)… ведь даже невинный сон Славика не был потревожен.
Теперь дадим отдохнуть двум этим персонажам, тем более, что они сейчас заняты нескучным, весьма увлекающим их делом. А вспомним еще одно, промелькнувшее уже лицо. Нет, не Имярека Имярековича Керями, от него все равно не уйти. Вспомним автора рукописи, пока еще не изученной критиком Аллой Медной, рукописи со смятым титульным листом, оставшейся покоиться на шелковой полосатой обивке дивана.
Прежде всего сменим декорацию; перенесемся в тесную затхлую каморку, где нет и не было никогда полосатого стильного дивана с причудливо изогнутой монстерой в кадке подле него, где нет велюровых портьер оливкового цвета, нет в столовой резного обеденного стола, на котором в расписном фарфоре могла бы находиться яичница с помидорами и китайская ветчина, поскольку нет там и быть не может ни столовой, ни ветчины. А вся обстановка того приюта представлена лежаком, неким подобием письменного стола, сооруженным из каких-то ящиков, да рядом вбитых в стену громадных гвоздей, выполняющих роль платяного шкафа, туалетного столика и кухонных полок. Место это странное, и живет здесь Никита Кожемяка вот уже шестой год. Да, ничто тут не совпадает с теми декорациями, среди которых обретается Алла Медная, никакой предмет не повторится, разве что одна вещь единственная – рукопись.
Никита был вышвырнут из сна электрической судорогой всего тела. Несколько секунд он беспомощно хватался то за формы проступившей действительности, то за обрывки стремительно рассыпавшегося сновидения, но так и не прояснил для себя природу всполошившей его тревоги. Все еще внутренне дрожа, он нехотя выполз из-под одеяла, поверх которого распластало рукава черное пальто древнейшего фасона, поскольку милости неторопливой в этом году осени были отпущены для иных, более пристойных жилищ. Кажется, кто-то говорил с ним. Сидя на краю койки, из последних вянущих мерцаний сна Никита настойчиво собирал слышанный голос, только старания его остались напрасными. Впрочем, не исключено, что говорила с ним не бесплотная тень, а лицо вполне реальное, ибо кроме Никиты в этих серых сумрачных лабиринтах обитало немало людей. Собственно, лабиринты представляли собой дворницкую, размещенную в полуразрушенном толстостенном строении.
Натянув на себя джинсы и ватную рабочую куртку (чем теперь ограничивался туалет), Никита сменил окружение вечно шелестящих скрытой жизнью обоев на пегие стены коридора. Здесь находились еще несколько дверей, принадлежавших закуткам, сходных с Никитиным. Тишина, оттененная одиноким всхлипывающим храпом, была идеальная. Все с тем же покалыванием рожденного сном волнения Никита потащился в довольно просторное помещение, где местные обитатели готовили пищу и коротали часы бедного досуга. В партитуру тишины вплелись мерно капающая из крана вода, посвистывающий в щелях оконной рамы ветер и крысиный писк из туалета, размещенного здесь же. На черном железном столе много испытавшая шахматная доска, изувеченные фигуры на ней, часть из которых замещали катушки или аптечные пузырьки.
– Ну что, ты готов? – кто-то спросил Никиту.
– К чему готов? В смысле? – удивился тот странности вопроса, и лишь после завертел головой в поисках вопрошателя.
Никого рядом не было. Капала вода. Шипел сквозняками ветер. В туалете воевали друг с другом крысы. И не обольщаясь сладостью метафизики момента, со всей реалистической отчетливостью Никита понял, что жизнь закончилась. Вот она, та точка, тот пункт, до которого ему удалось дойти… И все… И больше ничего не будет. Он огляделся. Нет, немыслимо и бесконечно стыдно достичь человеку такого предела. Но он, как и те, дрыхнущие сейчас рядом по своим углам, не противился приторным голосам сирен пересмешника-мегаполиса, и теперь подошло время платить долг своего неуемного сладострастия.
Так хотелось чувствовать себя обманутым… Но, казалось, не было ничьей вины в его выборе; во всяком случае – воли существа земного, состоящего, как водится, из углеродных соединений. Только собственное желание, доходя до сатанинской страстности, обжигало его грезой: где успех, где бодрящая суета, а значит – какая-то осмысленность назначенной кем-то жизни. Надо думать, в том была надежда самому предложить способ общения Высшим Силам, но вот выяснилось, что не с каждым занятно беседовать Богу, а если даже милостивость Его к своим чадам, заинтересованность каждым отдельным существованием неизбывны, то язык, как стиль общения, Он все-таки выбирает Сам. И вот… Никита оглядел залитую вековой грязью газовую плиту, и перевел взгляд за окно, где в подвижном пятне фонаря желтела глухая стена. «И вот та осмысленность, которая отпущена мне».
Жизнь кончилась. Это было так очевидно, так просто и вовсе не больно. Только глухо рокочущая пустота, только неотвратимость вселенского покоя да кирпичная стена за окном. Где-то жила-была верткая жизнь, сотканная из красок и надежд… чего так просто лишиться. В одночасье. Туда не повернуть, все отходные пути рухнули – сзади пропасть и впереди бездна, и только Богу знать, как долго удержит пустынный островок в пучине непостижимой вечности. Теперь, оставленный беглыми огнями желаний, Никита отчетливо понимал, что для цветения удачи (как понимает ее всяк земной житель) должен выпасть сложнейший пасьянс обстоятельств; здесь лишь талантом, трудолюбием да верностью не обойтись. И нечего Бога гневить. Ему Самому ведать значение тебе порученной партии.
Здесь Никита на какой-то, не поддающийся измерению, срок провалился в области, неведомые времени. Из густой желейной прострации его изринул глухой выстрел за окном. Он вздохнул, машинально подхватил с шахматной доски безголового ферзя, повертел его между пальцами, соскоблил ногтем остатки темного лака. Оркестр тишины перешел к пронзительным пассажам. А Никита все барахтался в вакууме опустевшего вдруг собственного Я, пытаясь ухватиться хоть за какой-нибудь образ, способный объяснить его пребывание в данной точке пересечения времени и пространства. И тогда отчаянность, подрядив воображение, вычертила овал лица с той плавностью линии, которая ручается за присутствие в характере преобладающего добросердечия, но не исключает волевого начала; затем появились потускнелые, мглистые от перевиданных утомительных житейских оказий, глаза под тяжестью прямых бровей, по-славянски потешно-обаятельный нос, и простой очерк рта, теряющий свою важность в лице от прикрытия русых усов и слишком уж значительной туманной усталости глаз. Портрет был завершен русыми вихрами, мальчишеской беспечности которых изумлялась густая проседь. Он. Да, он подкормил надежду Никиты: похвалил его слог и фантазию, которые якобы обладают той магией убедительности, что позволяет создать свой собственный мир, ибо творение небесного демиурга порой слишком уж сложно и тягостно. Вольно же было ему витийствовать… никогда не оплачивавшему своего творчества жизнью в дерьме. Но для Никиты собственная жадная грязная жизнь (он чувствовал) истощала свои жалкие подарки и требовала теперь за них полного воздаяния. Что же, оставалось, положив спрошенную цену, оставить навсегда прельстительные игрушки: творчество, честолюбие, надежду…
За окном громыхнул еще один выстрел. Как и первый, он не втесался в сознание Никиты, но им вдруг овладела такая необъятная сонливость, что поколебать ее жестокую власть не смогли бы ни только выстрелы, но и громозвучные взрывы. Никита направился к своей сиротливой койке, охваченной широкими обшмыганными полами черного пальто, и начни сейчас рушиться потолок, он ни за что не изменил бы курса.
В городе расплывалась исполинская грузная ночь, и, кто спал, кто не спал… всяк по мере сил послушливо исполнял ему лично назначенные задачи. Ведь, если одному трудиться до кровавого пота – другому лодырничать, кому грешить, – кому праведность свою укреплять, и не выхватить у ближнего вечное его предначертание, поскольку… ничего нельзя содеять дважды, не правда ли? Да никто и не спорит. Живем здесь, потому что это все, на что мы способны.
Ночь. В свисте пронизывающего ветра, в горечи растоптанных мертвых листьев, как удавалось ей чувствовать себя столь уютно, что ни мутный свет фонарей, ни тем более беспредельно отдаленное сияние редких звезд не могли посягнуть на ее невозмутимое величие? И даже когда серая заря измазала восток, мрак, похоже, ничуть не дрейфил перед восходящим днем, не тушевался, он и не думал пасовать – лишь отливался в иные, весьма неожиданные порой формы.
Меж тем утро настало, потребовало и у тех, кто чутко дремал единственный час, и у тех, кто храпел во все носовые завертки, дальнейшего исполнения им предписанных индивидуальных функций. Функции Аллы Медной в этот день начинались с того, что она, разодрав склеенные сном веки, должна была ленивыми толчками замлевшей ноги разбудить свернувшегося калачиком мужа и отправить его готовить завтрак. Затем она должна была напиться в постели кофею с хрустящими тостами, на которые заботливая рука Евгения Глебовича положила толстый слой шоколадного крема, принять душ и тогда приступить к макияжу, за которым Алла устанавливала одну из кардинальных ролей в деловой стратегии. В это время супруг, стараясь сделаться еще незаметнее, чем то ему было назначено природой, в дальней Славкиной комнате (сына он отводил в детсад к половине восьмого и опять ненадолго ложился спать) беззвучно собирал свои манатки, ведь он тоже был занят в издательском деле. За три минуты до ухода на работу он являлся пред нарисованные очи супруги Аллы, и та, окинув его оценивающим взглядом, давала пару четких советов относительно ладности его гардероба, либо сама поправляла какую-нибудь деталь.
Алла Медная ездила на работу уже в кожаном пальто с оторочкой из чернобурки, но еще в метро. Ощущение такого диссонанса не могло не угнетать, но она лишь плотнее стискивала зубы, до скрипа, до хруста, и повторяла, как молитву: «Я добьюсь! Я вырву у судьбы причитающийся мне клок счастья! Чего бы это ни стоило! Чего бы ни стоило!» Собственно, это и была ее молитва. Рабочий день в редакции начинался в десять. Как лицо, любезное главному редактору, Алла получила санкцию являться на работу к двенадцати. Позже ее, к часу дня, приходили только начальники отделов да зам главного. Сам возникал в кабинете в два пополудни. Сегодня наступления этого срока Алла ждала с трепетом замершего в стойке пойнтера, недаром же раскрашиванию лица был отдан лишний час, не случайно на ней короткая замшевая юбка, туфли на высоком каблуке, хорошо натянутые чулки (она отлично знала, как важно иметь хорошо натянутые чулки!) и лифчик с таким жестким каркасом, что и грудь семидесятипятилетней старухи заставит посвежеть годков, эдак, на шестьдесят. Бедняжка, кого она намеревалась обмануть! Имярека Имярековича Керями! Увы, когда желание слишком велико, зачастую трезвому взгляду суждено сгибнуть. «Только не лезть к нему первой с просьбами. Так… потом, между прочим вставить… как он сам это делает…» – жарко шептала себе самой Алла, и щеки ее, и грудь, и руки пылали. Наконец в пластиковой коробочке селектора, стоявшей на ее столе, закопошился почти кокетливый кашель, и вслед за тем механический, но все равно ласковый голос возговорил: «Добрый день, деточка! Заскочи ко мне на минуточку». Красные пятна выступили бы на лице Аллы, если бы оно не было предусмотрительно покрыто пудрой. Заглянув в зеркало и убедившись, что косметическая живопись все еще достаточно свежа и выражает те чувства и мысли, которые Алла и намеревалась с ее помощью передать, она грациозно и неторопливо выползла из-за стола, собрала в стопку побольше всяких бумаг, чем собиралась экспонировать проделанную работу, и, возможно, несколько избыточно игриво цокая каблучками, направилась в уютный форт властелина редакционных жребиев.
– Вы меня хотели? – свое появление в кабинете Алла решила ознаменовать фривольной шуткой.
Она, сколь могла задержалась в дверном проеме, подозревая, что в обрамлении полированного косяка должна напоминать достославную черную фигуру с Серовского полотна; досадно, что пухлая стопка бумаги в руках не позволяла добиться безупречного сходства.
– А-йа-йа, моя лапочка! Входи, входи, – оторвался от каких-то своих канцелярских занятий Имярек Имярекович; забота на лбу и лоснистых щеках тут же изгладилась, и крупные розовые выпуклости его лица бесстыдно нацелились на Аллу.
То был недурной знак. Алла закрыла дверь, при этом два-три явно излишних раза передернув бедрами, и широким шагом прошествовала к массивному темному, с бронзовыми фитюльками, столу своего шефа. Следуя тщательно обдуманной тактике – с места в карьер, – она обошла помпезно-траурный стол, положила на него бумаги и, приблизившись к руководителю вплотную, прижалась к его плечу… Безгреховный писатель, воспользовавшись эвфемизмом, сказал бы: прижалась к его плечу низом живота. Имярек Имярекович пододвинул к себе стопку Аллой предоставленных бумаг… Вернее, действия его рук были скоординированы так: левая пододвигала и раскладывала листы, а правая юркнула под черный замш Аллиной юбчонки и фундаментально обосновалась там. По сути дела, в этой мизансцене и проходил весь последующий эпизод, весь их рабочий диалог.
– Это рецензийка. Это статеичка. Это что у нас? Это опять статеичка, – бубнил себе под нос Имярек Имярекович, на секунду не отрывая прозорливого взгляда от стола. – Золотко мое, а это что? Что за такое заявленъице?
– Это мое заявление, – отвечала Алла твердо, но не без почтительного легкого дрожания в голосе.
– Ах-ах-ах! Что за почерк! Умничка! Умничка. Таким почерком только письма к Антиоху Дмитриевичу Кантемиру было бы писать! Какой слог… И о чем ты тут просишь, моя рыбонька?
– Имярек Имярекович, я работаю у вас уже…
– И как работаешь! Изумительно работаешь! И что же?
– Имярек Имярекович, я понимаю, что, может быть, могу показаться нескромной…
– Что ты! Что ты, деточка!
– Имярек Имярекович, может быть, я, конечно, еще недостаточно опытна для такой должности…
– Да-да?
– Имярек Имярекович, миленький, я хотела бы… Я чувствую, что смогла бы возглавить отдел.
– Рыбонька моя золотая, ну кто же в этом сомневается?! Ты все можешь! Такая женщина – это золотой клад. Но ты же знаешь, что у нас есть Тамара Петровна. Уже тридцать лет, как есть.
– Я все понимаю, Имярек Имярекович! Я просто подумала, что Тамаре Петровне уже пятьдесят восемь… И, может быть… она сама хочет…
– А вот хочет ли она, ты у нее и узнай. Узнай, узнай. И, если после того она вдруг захочет… – на глянцевитых гладях лица Имярека Имярековича распустилась такая полная, такая обильная улыбка, что Алла Медная едва успела ухватить за ее нарядностью еле уловимую тень то ли намека, то ли посула.
– Если только она захочет… – повторил Имярек Имярекович. – Аллочка, девочка моя, только тебе! И никому другому!
Здесь главный редактор популярного толстого журнала присовокупил к сиротливо лежащей на столе шуйце более счастливую десницу. Взяв в толк, что эта сцена подошла к финалу, Алла Медная растянутыми губами соорудила слово «спасибо» и на предательски подрагивающих ногах засеменила к выходу. В ее только что столь напряженно поработавшем мозгу темнела и путалась какая-то надежда. Она еще не отдавала себе отчета, что за шаги и в каком направлении ей надлежит осуществить, но плотоядное упование горячило трепещущие жилы, и сладость уже обоняемой добычи проступала все определеннее.
Алла Медная выпорхнула из судьбораспределительного кабинета, несомая приливом просто сатанинских сил. Отчаянная свобода проектирования последовательных целесообразных действий кружила голову, ласкала млеющее тело сладостной дрожью. Да, Алла еще не знала, какие такие конкретные действия незамедлительно предпримет, но до краев своего сознания она была полна самой разудалой решимости. В голове ее клокотала колоссальная работа: из самых потаенных файлов мозга вылетали клочки порой наипричудливейшей информации; они сплетались, раскалывались, рассортировывались по темам и первоочередности, диффундировали один в другой… Так что, пока известный критик все крепнущими ногами в хорошо натянутых чулках преодолевала малую дистанцию редакционного коридора, в том отделе ее психики, который кассовый австрийский еврей называл «бессознательным», уже составлялась четкая, вполне обязательная программа. Пятьдесят восемь лет… сегодня на работе по возможности не встречаться… сыну было где-то тридцать шесть – тридцать семь… погиб в автокатастрофе год назад… дома поискать какую-то вещь!.. наклонности старорежимные… предпочитает старомодные украшения и такие же платья… носится с именем сына, как с писаной торбой… поискать дома какую-то (какую?) вещь!.. был разведен… одеться скромно, очень скромно… некоммуникабельна, но сентиментальна…
Из-за двери с табличкой «Бухгалтерия» вышел антончеховствовавший своей бороденкой заместитель главного. Алла окатила его просто мефистофельской улыбкой – так что тот, растерянно дернув губами, непроизвольно шагнул назад.
Весь остаток рабочего дня внутричерепное давление у Аллы нарастало, тяжесть нависшего дела жизни и смерти довлела над ней и могла быть устранена только по благоприятном для Аллы разрешении вопроса. Она несколько озадачивала сослуживцев то рассеянностью, то воспаленными всплесками темперамента. Даже, когда в комнатку с тремя столами, один из которых был закреплен за Аллой, вбежали, запыхавшись, нигде не показывающиеся один без другого, словно попугаи-неразлучники, излюбленные в литераторской среде информаторы и пересмешники – Нинкин и Милкин, даже их появление, обещавшее вороха шуток и сплетен, не освободило Аллу вполне от ощущения бремени несыгранного пока акта.
Милкин и Нинкин, средних лет миляги, казалось бы, совершенно различной наружности, каким-то странным образом производили впечатление до чрезвычайности похожих друг на друга людей. В ярких дорогих пуловерах они порхали сегодня из кабинета в кабинет, подобные неким экзотическим птицам, без умолку картаво тараторя, чем сходство с заморскими пернатыми остро усугублялось.
– В сгеду, в сгеду на Ленинг’адском пгос-пекте пытались пгикончить за кусок мяса восьмидесятилетнюю стагушку, – верещал, захлебываясь от предощущения близкого успеха у публики, Нинкин.
– Ха-хо! Ветегана Великой Отечественной войны! Ха-хо! – перебивая товарища, повизгивал от словесного опорожнения Милкин.
Нинкин в пылу идентичного процесса лишь успевал досадливо топнуть коротенькой ножкой, обутой в рыжий сапожок, и вновь щебетал:
– К ней в квагтигу вогвался лохматый. богодатый мужик – и сгазу на кухню. Бабулька только в стогонку отлетела. А как поняла, в чем дело, давай мужика выталкивать. А тот, не долго думая, схватил нож…
– Кухонный нож!
– Схватил вот такой кухонный нож и – на! – стагушенции в гогло!
– Пгямо в гогло!
– А потом хвать из могозилки пять кило говядины – и ходу!
Редакционная публика, в полном соответствии со справедливой убежденностью рассказчиков в сокрушительной силе своего таланта, ойкала, айкала и стремилась возможно шире отверзть глаза и раскупорить уши, чем руководил прекрасный порыв – расширение кругозора, столь важное для всякого литератора пополнение багажа знаний.
– Ведь это кошмар! Кошмар! – сокрушалась очаровательная Линочка Арьешвили, кутаясь в пуховую шаль апельсинового цвета. – Просто мороз по коже.
Худой и длинный начальник отдела поэтов в такт каждому ее слову тряс своей лысеющей маленькой головой, и, лишь она умолкла, не замедлил вставить собственное невеселое слово: