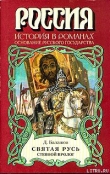Текст книги "Шлюхи"
Автор книги: Виталий Амутных
Жанры:
Контркультура
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц)
– До чего мы дожили! Это же подумать только!
Общественное признание еще укрепило отчаянную веру Нинкина и Милкина в себя, которая, ей-богу, ничуть не нуждалась ни в каком допинге.
– А в Новогигеево! В Новогигеево! – заголосил было Милкин.
Но Нинкин, взяв на октаву выше, умело оттеснил его партию:
– В Новогигеево четыгнадцатилетний пагень, находясь в состоянии тяжелейшего алкогольного опьянения, изнасиловал свою мать. Он уг’ожал ей г’анатой Ф-1!
– Ф-2.
– А я говогю: Ф-1! Я сам был на месте пгоишествия! Мать не смогла такого пегенести – и тут же выбгосилась с одиннадцатого этажа. Тогда этот хлопец выдегнул из г’анаты чеку. В дегжал, вот так дегжал ее в гуках. Но, к счастью, лимонка оказаласьле не совсем испгавной, и взгыв получился несильный. Ожог лица, множественные оскольчатые ганеняя гук…
– В квагтиге. взгывной волной выбило стекла! – ухитрился ввернуть Милкин.
– …в квагтиге взгывной волной выбило все стекла. Пагень в тяжелом состоянии доставлен в шестьдесят девятую гогбольницу.
Миг одеревенелости слушателей знаменовал самоочевидный триумф явленного артистизма, и тотчас все вновь заойкали, зауйкали. Алла Медная, с трудом отгоняя роящиеся мысли о том, быть ли ей и кем в редакции быть, ощутила необходимость явить чтимую во всяком коллективе солидарность.
– Вот, наглядный пример, – несколько резонерски от непроходящего теснения в голове заметила она. – Данный случай как нельзя лучше демонстрирует девальвацию в обществе нравственных ценностей. Ничего удивительного: когда ни веры, ни любви, ни доброты…
В этот момент она ощутила на своих плечах мягкие руки (не спутать ни с какими другими) Имярека Имярековича, подошедшего на веселый шум.
– Я всегда говорил, – произнес негромким, вкрадчивым голосом главный редактор, чего, впрочем, было достаточно, чтобы улегся общий галдеж. – Я всегда говорил, что Аллочка у нас человек исключительных душевных качеств. Я бы сказал: высокоморальный человек.
– Ну что вы! – вежливо смешалась Алла Медная. – Я очень далека от совершенства.
Имярек Имярекович шутя взял за загривки виртуозов разговорного жанра и под умиленно-одобрительные аплодисменты коллектива так повел их в свой кабинет.
А тут и рабочий день закончился.
По дороге домой Алла чуть успокоилась; она твердо резала пространство, не обращая внимания на встречные мешкотные локти и сумки, не замечая вообще ничего вокруг, уверенно – как бронетранспортер. Домой она заскочила разве что минут на пять: не разуваясь прошла в комнату с полосатым диваном, не разуваясь же и не снимая пальто, заменила юбку на более целомудренную, заглянула в книжный шкаф, пошуршала в ящиках письменного стола – и вышла вон, не бросив на опешившего супруга и полвзгляда. Она уносила с собой три вещицы: небольшую фотографию сына Славика, на которой он был запечатлен в двухмесячном возрасте; изготовленный на стародедовский манер перстень со звездчатым сапфиром, найденный в умывальнике редакционного туалета, принадлежавший (в том не было сомнений) Тамаре Петровне, и который Алла вот уже третий год собиралась вернуть владелице; и тощую пачку твердо конвертируемых западногерманских банкнот, по двадцать марок каждая.
Путь ее, как уже можно предположить, лежал к дому пятидесятивосьмилетней начальницы отдела критики – Тамары Петровны Филатовой. Алле никогда не случалось бывать в этом доме, потому к диктату ответственности примешивалось простое человеческое любопытство.
– Аллочка? – Хозяйка сняла предохранительную цепочку и открыла дверь пошире.
– Тамара Петровна, – Алла слегка потупилась и провела по коврику на пороге носком сапога. – Если вы заняты, – я тут же уйду.
– Нет, нет, зачем же? Входите, пожалуйста.
На Тамаре Петровне было шерстяное платье глубокого зеленого цвета, в ушах фиолетовые камни в оправе из белого металла. Алла прошла в комнату. Буфет, секретер с косматыми сфинксами, два кресла и диван, хитро совмещавший в себе фараонскую величавость и барочную жеманность, чуть ли не работы Жакоба, – мебель, находящаяся здесь, была сработана из палисандра. Большие плоскости красного дерева, четкие и прямые ампирные формы предметов подчеркивались введением тонких латунных полосок, окаймляющих их. Этого оказалось достаточно, чтобы подстегнуть Аллину дерзновенность.
– Я, собственно… не знаю, как даже… – начала гостья, лишь только воспользовалась предложением присесть.
– Может быть, чаю? – почему-то заволновалась хозяйка. – У меня мед есть. Алтайский.
– Ой, большое спасибо, я только что дома напилась, – сказала Алла самым естественным голосом. – Я к вам… А, впрочем, давайте чаек погоняем!
Когда они уже сидели в креслах и пили чай, взгляд у хозяйки сделался более умиротворенным, но тем не менее она, словно предчувствуя что-то недоброе, не выспрашивала у Аллы о цели ее визита.
– …я считаю, любая мать могла бы гордиться таким сыном, – продолжала она беседу, все более успокаиваясь. – Всегда такой заботливый. Если бы вы, Аллочка, знали, какой честный. Никаких секретов от меня не держал, Я только и укрепляюсь его памятью. Кандидатскую защитил блестяще! Блестяще! А вот докторскую…
Тут глаза ее заблестели, Тамара Петровна, словно факир, неприметно извлекла из рукава бледно-сиреневый батистовый платок и промокнула им набежавшие слезы.
– Вот в семейной жизни ему не повезло. Как это все началось, – все за границу подались. У Эллочки там какие-то родственники отыскались… Тут у них как-то все и разладилось. Эллочка забрала Леночку, мою внученьку, и уехала. Вот как бывает. Говорят, там хорошо…
Здесь Тамаре Петровне пришлось вторично воспользоваться платком.
– А за год до Коленькиной гибели, вы знаете, мы с ним к морю ездили, в Гагры. И, знаете, так хорошо было… Да я вам сейчас покажу…
Она с неожиданным проворством метнулась к секретеру и поспешно, точно нежданная гостья могла в любую секунду испариться, извлекла из ящика огромный, толстенный альбом, обтянутый шоколадным плюшем.
– Вот, посмотрите, это пристань. А вот Коленька! Плывет. Господи, как далеко он заплывал! Я так волновалась!
Однако предварительное собеседование затягивалось, и это не могло не раздражать Аллу, но она никак не находила подходящего момента, чтобы раскрыть рот. В альбоме совершенно бессистемно были натыканы фотографии совсем свежие и сделанные, не иначе, в прошлом столетии; Тамара Петровна столь же беспорядочно тыкала в них пальцем (с ногтем завидной ухоженности), указывая уже не только на изображения самого сына, но и на персон, предметы и виды, так или иначе с ним связанные. Уронила нежданно:
– Самый дорогой мой человек…
Момент показался Алле благоприятным, и она, долго не раздумывая, обрушилась:
– Да-а… Для меня он ведь тоже не совсем чужим человеком был…
– Для вас?! А разве вы были с ним знакомы?
– Я из-за этого и пришла. Славка… это ведь… его сын.
Тамара Петровна онемела. Алла продолжала просто и светло:
– Николай, действительно, был прекрасным человеком. Исключительным человеком! Редкого ума и таланта. Как сейчас вижу его глаза… Мы познакомились с ним шесть лет назад, еще до того, как я пришла в нашу редакцию. Как все-таки тесен мир! И я ни чуточки не виню его за то, что ему пришлось оставить нас…
Рука Аллы скользнула в сумочку, и на колени Тамаре Петровне легла фотокарточка с изображением двухмесячного Славика.
– Вот каким был тогда Славка… А что?! Что б я могла ему… что я могла дать Николаю: бессонные ночи, хозяйственные хлопоты?.. Вот так, ни за что ни про что погубить уникальный талант? Ведь ему нужно было защищать кандидатскую…
– Кандидатскую… он защитил двенадцать лет назад… – отозвалась откуда-то из глубин бездонного шока оторопелая мать.
– Значит, докторскую, – не стала спорить Алла. – Тем более! Он должен был стать великим ученым. Правда, мне приходилось отдавать силы самым тяжелым и унизительным работам… Зато Николай всегда пытался помогать материально. Конечно, откуда у него было взяться деньгам! Но он все-таки иногда что-то приносил… обычно присылал… да… А то как-то принес вот это, – Алла разжала кулак – на ладони тускло мерцал залапанный звездчатый сапфир в виде кабошона, восточной огранки, в обрамлении мелких бриллиантов и белого золота. – Не сомневайтесь, я не взяла этого, хотя мой ребенок тогда болел… туберкулезом. Но Коля незаметно оставил перстень на столе. Видите, я не посмела продать вашу вещь. А после… я не находила удобного случая вернуть вам. Возьмите же. И простите меня.
Поскольку Тамара Петровна, казалось, превратилась в соляной столб, Алла сама вложила в ее помертвелую руку перстень.
– Я очень надеюсь, как женщина женщину, вы поймете меня. Поймете, что из моей любви к Николаю, из светлой памяти о нем я, как и вы, черпаю жизненные силы. И, поскольку, увы, одна беда вот объединила нас, я хочу… я считаю своим долгом, по мере сил хоть чуть-чуть помогать вам… Не отказывайтесь!
Алла вновь запустила руку в сумочку. Теперь пришел черед третьей вещи – пачки западногерманских марок.
– Вот все, что у меня пока есть…
– Что ты! Что вы!.. – воскликнула напрочь не своим голосом Тамара Петровна, передернувшись при этом как-то неестественно, словно раненое животное. – Это я… Я должна была… Я не знала…
Тут же реквизит был возвращен в сумку.
– Успокойтесь, пожалуйста, успокойтесь, милая Тамара Петровна. Теперь у меня все хорошо. Я вышла замуж. Он очень добрый человек. Внимателен к Славику. Мы часто с ним говорим о Николае…
Далее Алла Медная понесла уже полную околесицу, но она теперь всецело завладела вниманием и доверием чувствительной растяпы, головы садовой, так что могла дать побольше воли творческой фантазии.
Когда рассказчица решила, что на сегодня предпринятых усилий будет довольно, хозяйка сделалась какой-то вялой, никлой, все невпопад извинялась, а, провожая Аллу, просила в следующий раз непременно захватить с собою Славика. И пока гостья спускалась по лестнице, дверь наверху долго не закрывалась.
Выпорхнув из подъезда, Алла воспарила и полетела, полетела… Во всяком случае, ей чудилось именно, что она реет над погруженной в полумрак слякотной осенней улицей. Пока все складывалось замечательно, и Алла, по порядку перебирая узловые моменты разыгранного сценария, восхищалась собственным мастерством. Преодолев лётом или шагом метров триста (ни о каком транспорте она даже не вспоминала), ей показалось вдруг, что в двух ключевых аспектах ей должно было высказаться определеннее, да и красок не пожалеть. Потому, вдохновленная благожелательностью фортуны, она решила незамедлительно вернуться, тем более что перчатка на всякий случай предусмотрительно была забыта на подзеркальной полочке в прихожей.
Приблизившись к дому, Алла еще очень издали угадала в белом пятне у подъезда, из которого она только недавно выходила, машину скорой помощи. Ей не надо было проверять – она и так знала за кем прибыла карета. Все же Алла потопталась за блестящими сырыми стволами деревьев в палисаднике, дождалась санитаров с носилками, и беглым взглядом удостоверившись, что фортуна к ней не просто благосклонна, но особым образом расположена, удалилась в загустевший мрак.
Удача ее действительно не подведет. Уже через неделю, не выходя из больницы, Тамара Петровна пришлет в редакцию депешу, что, мол, умоляет освободить ее от престолонаследия, и Алла тут же примет вожделенное княжение махонькой державкой – департаментом крошечной, кукольной страны. Но это будет… А пока она движется в кружении ночных огней, потому что отвоеванного блаженства не вместить тесным комнатам, а сейчас жаль обронить пусть малую его толику.
Алла зашла в детский универмаг. Просто потому, что свет горел в окнах, и человеческие силуэты еще не торопясь двигались в них. Она бродила по этажам, рассматривая различные товары на прилавках, и кое-что купила, и помечтала: как хорошо было бы приобрести Славику лисью шубку… И вдруг у витрины с ползунками и пинетками ее что-то кольнуло, что-то изнутри – должно быть, сердце. Алла решила быть честной и отвечала ему так: «Все течет… И нельзя в одну реку… И т. д., и т. п. Общество, как ни крути, становится все цивилизованней и хоронит, может быть, милую, но весьма скудоумную и даже гибельную архаику представлений. Когда-то в незапамятные времена, при царе Горохе, выехавшие на поле брани отважные рати разбивались на пары супротивников, и вся великая сеча слагалась из множества рыцарских турниров. Ведь было просто немыслимо напасть на одного вдвоем. В их диком мозгу просто не могла зародиться мысль, что благоприятнее для тебя напасть на врага со спины. Но все-таки люди поняли: коль скоро цель баталии – преумножение собственных благ, то нечего особенно манежиться. И, если в начале первой мировой еще подбирали упавших за борт матросов, то к ее концу никто бы не стал отягощаться подобными глупостями. А тогда же рожденное химическое оружие? Оружие против абстрактного врага. А средства для изничтожения мирного населения? Все разумно и всегда вовремя. На смену древнему приходит новое сознание, молодое, более жизнеспособное. Следовательно, мое сердечко, надо изжить колющие тебя атавизмы мышления. И в добрый путь!» Взбодрив себя таким рассуждением, Алла Медная вновь заполучила крылатость и, стало быть, благодаря сему обретению порхнула в отдел головных уборов и приобрела еще две кепочки: желтенькую и голубенькую.
Домой она прибыла поздно, однако в самом великолепном расположении духа. На пороге щелкнула по носу мужа. Полминуты почти успешно прожонглировала тремя апельсинами. Расцеловала спящего Славика, да так страстно, что тот сначала спросонья даже испугался. Но только зашла в кабинет и притворила за собой дверь – тошнотный комок вновь возник в горле, и в сердце опять закололо. «Проклятый ливер!» – так охарактеризовала этот внутренний орган его владелица. И тут опять ни с того, ни с сего хлынули бурным потоком слезы, размывая на щеках, на колотящемся мелкой дрожью подбородке персиковую пудру. Алла Медная рванула к милостивому, ласковому дивану, бросилась на него, уперлась лбом в его полосатый подлокотник, и мягкий, и упругий, роняя на бессчастный лист с надписью «Никита Кожемяка МУДРАЯ ДЕВА» горючие слезы. Да вдруг зарычала, не слыша себя, завыла совсем нечеловеческим голосом; и сколько Евгений Глебович ни выстукивал в дверь ритмы разных популярных мелодий, холодея от душераздирающих звуков, от непостижимости обстоятельств, так и не дождался родного властного «да-да».
Выходит, тот насыщенный день Алла провела с известной для себя пользой; во всяком случае, никто не упрекнет ее в том, что на данном отрезке доверенного ей земного пути она орудовала спустя рукава. А как проявили себя за истекший день прочие обитатели элизиума, обращенного в юдоль страданий, в достаточной ли мере продемонстрировали рьяность и тщательность? О, каждый показал себя молодцом! И Никита Кожемяка? Как же, и Никита, у него свое задание.
Весь день, который потребовал от Аллы Медной столько активнейших физических и психических затрат, политый ею и потом, и слезами, весь этот день Никита Кожемяка всего-навсего проспал. Он проспал день, проспал и явившуюся за ним ночь, и только к полудню, приложив невероятные усилия, выпростал себя из тенет постельных тряпок, чтобы вернуться к Божьему свету. Сон никак не желал покидать его, и потому дневная модель мира чудно накладывалась на хаотическую жизнь теней и сумбурных образов. Следует сказать, эдакое состояние долгое время не будет откладывать непрошенного попечения о Никите.
Выполз он из постели. Оделся. Согрел на электроплитке чайник. Но чаю вовсе не хотелось. Не хотелось ничего, даже курить. Позывало только на сон: зарыться бы опять поглубже в свое логово и забыться мертвецким сном. И он знал, что забыться вновь, пусть самыми тревожными грезами, ему удалось бы без затруднений. Но чей-то приказ, воспитания или Высшего Закона, предписывал ему, противоборствуя сну, стремиться все же к каким-то действиям. Память о полусомнамбулической прогулке позапрошлой ночи была почти вытравлена затянувшимся сном; и все же некий призрак ее неотступно следовал за каждым движением мысли. Никита не стал пить чай. А стал напряженно думать, хоть и удавалось ему это с трудом. И надумал, что должно ему обойти всех своих знакомых, всех тех немногих, с кем делил он подчас в этом городе простые услады: хлеб, постель, мысли. Правда, смертельно хотелось спать… Но он ощущал какую-то особую многозначительность сего деяния. Собираться долго ему не надо было: куртку на плечи – и шагай. Хотя круг его знакомств оставался весьма и весьма узок, чем растерянность перед выбором оченно умалялась, Никита понятия не имел, куда направит стопы. Вышел из дома, пересек гадостный двор, сплошь заставленный зловонными мусорными контейнерами, и, нырнув в арку, тут же оказался на одной из пригожих центральных улиц города. Заскочил в магазин, где позволил себе крайне неразумную расточительность: бутылку самого дорогого, имевшегося в наличии шампанского, пару килограммов пухлых гепатитной желтизны грейпфрутов и бонбоньерку конфет с ликером. Затем он направился к остановке. Не прошло и получаса, как ему пофартило протолкнуться в привычно набитый до отказа раздраженным, слабонервным людом троллейбус.
Любой человек, в каких бы условиях он ни обретался, все же склонен отыскивать в предоставленных ему обстоятельствах какие-то услады. Оказывается, и поездка в переполненном троллейбусе может содержать приятность и авантаж, если вам не светит в обозримом будущем обзавестись собственным выездом. Как ни говорите, только толкаясь в народной гуще и понять прорастающие в ней настроения.
Двое одинаково мурластых граждан в широкополых фетровых шляпах, выглядящие совершенно не угнетенными толпой, бурно предавались любезным сердцу воспоминаниям.
– А «Семипалатинскую» помнишь? – трепещущим голосом вопрошал один.
– «Семипалатинскую»?! Помнишь?! – оскорбленный нелепостью вопроса, вламывался в амбицию другой. – Говядины пятьдесят восемь процентов, полужирной свинины или соленой баранины тридцать процентов, двадцать процентов соленых сердца и мясной обрези, шпига или сала курдючного – семь, крахмала – два.
– Да-а… В этот фарш добавляли красный и черный перец…
– Чеснок!
– Да… чеснок…
– Ох, а «Московская»! «Московская»! Говядина первого сорта и твердый шпиг. Кардамон и мускатный орех.
– Что «Московская»! Как-никак, то была твердокопченая первого сорта. Но даже прежняя ливерная третьего сорта… из вареных легких (двадцать пять процентов), мяса, диафрагм и жилок (тридцать пять), рубцов и свиных желудков (тридцать), губ, ушей, пятачков, калтыков и других продуктов (десять), перец… лук… Пальчики оближешь!
– Истинно, ты прав! Но, согласись, как хочется порой ломтик зельца… хотя бы того, красного, из вареных языков, свиной шкурки, печени, твердого шпига и крови… От крови он и был таким красным!
– Кто сможет забыть свою молодость! – воскликнул один из них зазвеневшим голосом. – Ты помнишь, как мы всегда вдвоем делили их на четвертины?
– Помню ли я! Мы подвешивали их за ахиллово сухожилие…
– Ах, знали ли мы тогда, что это сухожилие называется ахилловым!
– На уровне нижней трети десятого ребра ножом между десятым и одиннадцатым ребрами ты делал сквозной прорез мускулов…
– А ты через него левой рукой захватывал десятое ребро, а правой разрезал междуреберные мускулы между одиннадцатым и двенадцатым ребрами до самых спинных позвонков. Ах, как ты все красиво проделывал!
– Но именно ты! Ты всегда заканчивал все! Блистательным ударом ножа-рубака отделял одиннадцатый спинной позвонок от двенадцатого!
Никита Кожемяка с вниманием слушал этих двоих, хотя непроходящая сонливость и размывала порой слова и лица едким туманом. Он смотрел на них и думал: что это за люди? Понятно, ему никогда не придется этого узнать. И мы не знаем. Согласитесь, чем-то они весьма напоминают Нинкина и Милкина, но Милкин и Нинкин, как будто, были заняты на литературном фронте, да и потом они ведь безбожно картавили… Впрочем, с них станется, они еще и не такие коленца выкидывали; что бы им стоило прикинуться некартавящими!
Еще долго мог бы Никита слушать действительно искренние и весьма пламенные речи своих случайных попутчиков, но тут он заметил сквозь запотевшее окно как-то болезненно белевший дом, а дом тот был ему немало знаком. Он сошел на ближайшей остановке, а далее ноги сами довели до обитой малиновым дерматином двери.
– Ника! Салют! Ну где же ты пропал! – заверещала возникшая перед ним белокурая курчавенькая девчоночка. – А у нас изменения. Мама с папой такого понаделали! Не волнуйся, сейчас ты все увидишь. Все по порядку.
Никита, надо сказать, ничуть не волновался. Ему даже обидно сделалось за себя, что уже ради элементарной вежливости надобно было бы взболтать внутри какое-то волнение, – но ничуть не бывало! Окаянная сонливость продолжала душить в нем всякие эмоции.
– Шампусик! Шампусик! – вновь рядом завизжала девчонка. – И тропические плоды. Это так кстати! Так в жилу! Сейчас ты все поймешь. Не торопись.
По лохматым коврам, мимо стен с масками якобы древних инков, она повела его в комнату и, резко отдернув затрещавшую бамбуковую занавеску с изображением каких-то болотных птиц, вскричала:
– Смотри! А?!
Справа от входа – зеркальная стенка. Перед ней широкая и явно недешевая, очень знакомая тахта, два кресла и журнальный столик. Далее набитый доверху хрусталем сервант. Но вот у окна помещалось воистину удивительное сооружение. Посередине стояла кадка с большой финиковой пальмой. Рядом были расставлены горшки с пальмами поменьше и маленькие вазончики, из которых торчала вовсе уж невзрачная ботаника. Самым же потрясающим являлось то, что половина комнаты, занятая всем этим хозяйством, была засыпана грудами серых окатышей, привезенных, натурально, с Черноморского побережья. Как видно, перекрытия в доме оставались достаточно прочны, поскольку способны были держать тонны этого камня. Все же оставалось загадкой, как удалось доставить сюда оную красоту. На понатыканных в углах сухих ветках висели разноцветные куколки и елочная мишура.
Против кадки с главной пальмой находилось оцинкованное железное корыто. Девчонка нажала на спрятанную где-то а камнях кнопку, – загудел мотор, – в корыте забил пятнадцатисантиметровый стручок фонтана.
– Каково, а! Это папа сделал! – радовалась дочь мастера. – Все гости просто с ума сходят!
Затем она нажала на другую потайную кнопку, и Никита увидел, что кое-где в гальку зарыты крупные банки с электролампочками.
– Ну, как ты думаешь, что это? – победно возгласила девчурка.
– Я думаю, что это трехлитровые бутыли с лампочками внутри.
– Да-а?.. – немного огорчилась принцесса Турандот. – А все гости просто с ума сходят, ничего понять не могут… Ладно, это еще не все!
– А это чья работа? – Никита указал на вылепленных из цветного пластилина кроко-дильчиков, китов, бегемотиков и прочих расположенных к водной стихии зверят, украшавших края бассейна-корыта.
– Это и папа… и мама… – бросила она, скрываясь за дверью. – Целую ночь, до шести утра, лепили…
Вдруг на подоконнике, прикрытый занавеской, ожил динамик, в одночасье затопив помещение петлистой индийской мелодией.
– Что теперь скажешь? Откуда музыка? – хитро улыбалось выглянувшее из-за бамбуковой занавески милое личико.
– Из динамика, с подоконника.
– Да ну тебя! Ты уже посмотрел. А, между прочим, никто догадаться не может, – не стала расстраиваться девчоночка, поскольку расстраиваться она вообще не умела.
– Слушай, Снежа, давай сядем и попьем.
– Вот теперь можно пока и сесть, – она широким жестом обвела комнату. – Мама называет все это зимним садом.
Девчоночку звали Снежаной. Впрочем, при более детальном исследовании она оказывалась не такой уж девчоночкой. Уж не менее двадцати шести годков ей досталось пристально изучать мир. Впрочем, она ничего никогда пристально не изучала. Зато красоткой была на загляденье. Глазоньки кругленькие, голубенькие. Носичек такой крошечка, такой – кнопочка. Ротичек – вишеночка. А вокруг личика кудряшки беленькие-беленькие. Просто кукленочек! Росточку тоже она была приятного: скорее маленького, чем высокого.
Снежана принесла два высоких стакана, в которых, кроме шампанского, болтались еще какие-то ягодки, корочки и даже цветные пластмассовые шарики. Она раскинулась на тахте в немыслимой журнальной позе и, проделав рукой в такт музыке изящное пор де бра, пропела parlando:
– Люблю красивую жизнь!
Это прельстительное движение, Провидением предписанное Снежане в программе нынешнего дня, призвано было заставить Никиту поскорее расправиться со своим шампанским и перебраться на тахту. Но только он все это покорно проделал, – Снежана отпрянула от него и при помощи другого, не менее симпатичного телодвижения откатилась к зеркальной стенке.
– Я забыла сказать, – изрекла она, прикрыв небесные глазки; вздохнула: – Я неверна тебе!..
Предстояла какая-то скучная, перезаштампованная сцена, только кто бы словчился не подчиниться замыслу бесплотного Режиссера; Никите положено было принять в ней участие – и он принял.
– Кто же он?
– Стоматолог.
– А… сколько ему лет?
– Протезист. Постарше тебя. На семь лет. Ему сорок.
– Прекрасно.
– Я могла бы солгать. Промолчать. Но как бы я потом смотрела тебе в глаза?
– У тебя ведь мама главврач?
– Да. Ну и что? Это ничего не значит. Он взяток не берет.
– Как это приятно.
– Правда же? И я так считаю. А подарки дарит, дарит, дарит. Мне просто неудобно. Я ведь все понимаю. А я еще так молода…
– Тебе повезло.
– Но моя трагедия в том, что я не люблю его! Он очень хороший. Он добрый. Я очень его уважаю, но… не люблю.
– Снежа, давай еще попьем.
– Ах, не хлещи, не добивай меня! Я сама себе противна! Я отвратительная! Я – чудовище! Но что же мне делать?! Ты понимаешь меня?
– М-м-м…
– Он некрасив. Он толст. Он очень хороший, да, но лысый!
Снежана заплакала, мелко и звонко всхлипывая.
– Ника, скажи, пусть я кажусь тебе ужасной, Ника, ты захочешь по-прежнему приходить ко мне?..
– Конечно, Снежа, в наших отношениях ничего не изменится.
– Правда?! Тогда я хочу выпить шампанского за ту жертву, которую я вынуждена принести!
Они выпили. Закусили грейпфрутами, которые Снежана резала пополам и настоятельно рекомендовала есть ложкой. Потом она потащила Никиту в родительскую спальню показать, какой мама соорудила из белого капрона полог над кроватью. Но тут пришла мама, они все вместе поели конфет, и Никита отбыл, клятвенно пообещав объявиться в ближайшие дни.
Он вернулся на остановку. Троллейбус. Вновь за окном в наплывающих дымчатых сумерках уходящего сентября, жалкая в унылости своей, галерея предлагаемых человеку обстоятельств. Никите следовало сделать очередной выбор (он, как и любой человек, склонен был усматривать в своих поступках присутствие выбора) меж скользящими мимо вариантами эпизодов, из которых в конечном счете складывается вся человечья жизнь. В салоне троллейбуса на сей раз народу было не так много, и Никита, повиснув на поручне, все боялся чрезмерно углубиться в края умиротворенности, чтобы не рухнуть внезапно сраженным силою сна. А так как он находился в столь странном состоянии, нельзя с определенностью сказать: сон ли – реальность перенесли его в очередное явление.
Троллейбус вывернул на набережную, Никита решил далее проследовать пешком, разумно полагая, что прогулка у чернильных вечереющих вод сможет его несколько взбодрить. Он двигался в пустынном серо-каменном пространстве: по левую руку темнела, вспыхивая подчас огнецветными последними кровавыми бликами, река; впереди поднималась белесая на фоне сумрачной вечерней сини громада высотного здания парламента. Никита не обращал внимания на то, что по мере приближения к этому огромному дому, в котором, несмотря на ранний вечер, все бессчетные окна неприятно чернели провалами, ему все чаще встречались какие-то нагромождения всякого хлама, железного лома, бетонных плит. Здесь же начали попадаться люди, серые, с решимостью последнего предела в лицах, они волокли на себе металлические трубы, кирпичи, доски и бревнах Бог знает где найденные в центре столичного города. Никита, разумеется, что-то знал о каких-то там таинственных дворцовых интригах, но, понятно, эти знания не распростирались далее газетных или телевизионных сплетен; к тому же, будучи глубоко убежден, что ему, человеку творческому, пристальное увлечение политикой для масс противопоказано, он никогда не стремился расширить свою заинтересованность в данной сфере. Никита шел дальше, не оборачиваясь, не вертя по сторонам головой, да вдруг наткнулся на заграждение из колючей проволоки, как выяснилось, опоясывавшее территорию вокруг высотного хмурого дома с черными окнами; он просто налетел на него, не разглядев сквозь распухшие сгустки мрака. Тут же точно из-под земли возникла парочка невзрачных персонажей, оба в фуражках, в плащах (по причине плохого освещения утративших определенность цвета) с блестящими пуговицами. В сапогах. Милицейские замахали на него дубинками, и еще при помощи табуированной лексики, профессионально свитой в многоцветные гирлянды, заставили его несколько изменить курс. Прочь от колючей проволоки, прочь от баррикад и проснувшихся где-то в глуби потемок редких одиночных выстрелов.
Куда же привел его этот путь? Он привел его в дом приятеля, поэта, произволением ли родителей – любителей изящной русской словесности, или же волею иронии Вышнего, носившего имя Федора Тютчева. Увидев Никиту, Федя обрадовался несказанно и на приветствие друга отвечал так:
– Здравствуй, кореш! Ближе брата,
Ты, друг ситный. Как я рад,
Мною созданный когда-то
Много-много лет назад!
Кисть моя совсем стиралась,
Да и красок было чуть,
Все ж сложил я счастья малость —
Лик, с которым легок путь,
И теперь уже мне нечем
Ha холстах резвиться вволю,
Но со мною в этот вечер
Ты. Чего еще мне боле?
Они прошли в комнату, которая в лучшем виде могла бы проиллюстрировать, нагляднейше изъяснить смысл слова «ералаш» И этот бедлам был проявлен ни только в бестолковой путанице вещей, наваленных грудами там и сям, где рядом с ботинком валялись косметические принадлежности, бесформенные носильные тряпки были перемешаны с магнитофонными кассетами, пустыми пачками из-под сигарет и какими-то фотографиями, а в грязной, но уже засохшей тарелке покоилась книжка, заложенная розовым дамским чулком; безалаберщина обнаруживалась уже и в самой невообразимой сочетаемости (совершенно несочетаемых) предметов: вещи старинные и ультрасовременные, новые и просто на глазах рассыпающиеся в прах, изящные и до расстройства желудка пошлые – казалось, здесь даже не нашлось бы двух одинаковых стульев. Однако Никите этот антураж был хорошо знаком (он заявился такой с появлением в жизни песнопевца некоей зазнобы, которую Никита так ни разу здесь и не встречал), потому он не уделил окружению и йоты внимания.