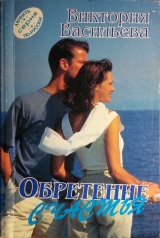
Текст книги "Обретение счастья"
Автор книги: Виктория Васильева
Жанр:
Короткие любовные романы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)
Глава 19
Дымок сигареты был сладок и приятен, как хрестоматийный «дым отечества». Итак, все ее замужество от начала до конца было просто мыльным пузырем. Благородный и несчастный академик, не способный обидеть даже муху, тишайший интеллигент, которого Ольга уже искренне начинала жалеть, приобретал теперь едва ли не зловещие черты.
«Этакий опереточный злой гений», – Ольга усмехнулась одними губами, представив Юрия Михайловича с Катей, и испытала искреннее чувство гадливости. – Но почему она осмелилась разыскать меня, рассказать мне все это? Неужели она думает, что я чем-нибудь смогу помочь ей и ее ребенку? Я, семь лет назад загубившая своего собственного?»
Ольга дала себе слово больше не заниматься бесплодными блужданиями в памяти. Но воспоминания навалились неотвратимо. И на этот раз они были поистине бесплодными.
…Все стало понятно через три недели после ночи «в обществе» благородных бордовых роз с пуховой проседью. Именно тогда Ольге приснился тот вещий сон, поразительно донесший живые черты не виденной раньше Вики. И вместе с ними необъяснимую уверенность, что у Алексея есть другая женщина. Странную уверенность – на уровне звериного инстинкта. Ей даже в голову не приходило, что она могла ошибаться. В том давнем сне Вика и Алексей стояли у невысокого водопада, глядя друг на друга, и Ольга чувствовала, что их пути соединены, как потоки, перемешивающиеся при падении. Облик этой черноволосой девушки, ее настроенность абсолютно соответствовали тому, новому Алексею, каким стал ее, Ольгин, любимый в результате чьих-то неведомых воздействий.
Он изменился, отдалился от Ольги, она перестала чувствовать его на расстоянии. Даже когда он бывал рядом, Ольга ощущала словно тонкий стеклянный барьер между ним и собой.
Когда-то она читала о личинках некоего вида тропических бабочек. Эти удивительные существа появляются из яиц, в целях безопасности отложенных среди камней. И каждая из личинок ползет в том направлении, в котором освободилась от тонкой оболочки яйца. Если на пути встречается камень, личинка пробирается сквозь него, растапливая кристаллическую структуру особым веществом, вырабатываемым железами. Повинуясь инстинкту, личинки выползают к свету, какие бы препятствия им не встретились. Но когда ученые накрыли камень тончайшей папиросной бумагой, все личинки погибли. Не потому, что не могли растопить бумагу – еще как могли – а потому, что просто не были запрограммированы на такое действие.
Так и Ольга не могла принять новых правил жизни, предложенных Алексеем. Она страшно устала от его постоянных исчезновений и недомолвок. А тут еще этот сон, показавшийся Ольге реальнее любой яви. Сон, наверное, и стал подобием «папиросной бумаги».
Нет, Ольга не разлюбила Захарова тогда. Она, как выяснилось, не смогла его разлюбить даже спустя целых семь лет. Но тогда вдруг ощутила себя незащищенной, одинокой, покинутой, как безутешная итальянка на картине Сандро Ботичелли… Она перестала чувствовать пульс любви, а значит, перестала жить.
И ребенок, случайный, нечаянно забредший в ее тело из какой-то неведомой Вселенной, был отвергнут Ольгой. Конечно, можно было сообщить эту новость Алексею, можно было даже приехать в Питер и поплакаться в жилетку сердобольной актрисе кордебалета. Но все эти действия означали бы вмешательство в естественный ход событий. Алексей, одержимый своими, только ему известными идеями, вряд ли смог бы переориентироваться на ее маленький женский мирок, жаждущий уюта.
Поэт выпадал из любой умозрительной житейской схемы, которую было способно выстроить Ольгино сознание.
Три дня, проведенные в клинике, уничтожили Ольгу не столько физически, сколько духовно. В отличие от других женщин, для которых подобное хирургическое вмешательство было делом обычным и регулярным, Ольга никак не могла отделаться от мысли, что она совершает преступление. А еще она понимала, что, случись ребенку прийти на несколько месяцев раньше, он остался бы жив. Потому что тогда Ольга еще не страдала от невразумительной тоски и депрессии, парализовавшей все ее мысли, всю ее волю.
Ее кровать стояла у окна, и Ольга, обмундированная в выцветший фланелевый халат, имела возможность смотреть на траву, на березы и плакучие ивы, уже подернутые предосенней желтизной.
«Странно, что в этом больничном дворе растут только два вида деревьев: березы и ивы, – подумалось ей, – почти как на кладбище».
Женщины в палате о чем-то без умолку болтали. В извечные женские разговоры, созвучные обстановке, вплетались вовсе неуместные импровизированные уроки кулинарии.
Процесс поглощения пищи, как и разговоры, был перманентным. У Ольги кружилась голова, пересыхало во рту, и вся эта казенная трапеза вызывала только отвращение.
Заблудшая павлиноглазка устало трепыхалась между стеклами двойной рамы. Со сложенными крылышками она выглядела совсем некрасивой. Но стоило пленнице расправить крылья – и на Ольгу смотрели четыре ока с мерцающими зрачками. И чудилось Ольге в этих зрачках нечто не от мира сего, отстраненное, словно глаза были сфокусированы на бесконечно далеком.
Ольга долго созерцала чужие крылья, и плоскость вдруг разверзлась глубиной. Глаза показались самыми что ни есть настоящими. В каждом черном зрачке плавала маленькая белая дужка. Как бы крохотный полумесяц – и достоверность потрясала.
Бурова вспомнила глаза на портретах, выполненных большими мастерами. Световые штрихи, точки в зрачке… Они придавали выписанным глазам глубину, делали их живыми. Они создавали несуществующих женщин и дарили им бессмертие.
А она, якобы, живая, на самом деле не существует, потому что оказалась неспособна привести в мир новое существо. Она зажата, как эта павлиноглазка, между прошлым и будущим. И так же не видит выхода, как и это создание с четырьмя вдруг ставшими ненужными глазами…
Соседки по палате с трудом успевали уничтожать принесенные мужьями и свекровями передачи, вовсе не вдаваясь, подобно Ольге, в философские размышления.
И Ольга с удивлением поняла, что, в отличие от нее, остальные женщины здесь были абсолютно нормальные. Они просто жили, существовали во времени.
А она весь пробытый на земле срок лишь собиралась жить. Она училась – собиралась кем-то стать, она бесконечно долго, целый год, собиралась замуж, она, наконец, снова собиралась учиться, писать диссертацию, ставить эксперименты – и так до бесконечности. Для нее реальным состоянием было «собираться». Как сказал когда-то Эдуард Бернштейн, преданный анафеме классиками марксизма-ленинизма: «Конечная цель – ничто, движение – все». Ольга долгие годы подчиняла существование именно этой формуле.
Но судьбе угодно было предложить что-то, подобное цели. Ольга оказалась не готова к такому повороту. Она была неуверена в себе, несамостоятельна, растеряна. Она еще не стала зрелой женщиной, способной брать на себя ответственность.
Она еще не понимала, что все люди и события появляются в нашей жизни только потому, что мы сами их вольно или невольно призываем.
Бабочка замерла, раскинув свои чудесные крылышки, словно подготовилась принять булавку, смирилась с судьбой.
Сигарета дотлела почти до фильтра. Ольга вернулась в комнату. Катя мирно жевала бутерброд. Поведав самое главное, она успокоилась и теперь, по всей видимости, чувствовала себя достаточно комфортно.
– Катюша, что я должна сделать? – Ольгу интересовала конкретика. – Поговорить с Растегаевым?
– Нет, ни в коем случае. – Катя даже вздрогнула.
– Тогда – что же?
– Ольга Васильевна, помогите мне найти другую работу… Если можете, – она вздохнула. – Я не хочу, чтобы в институте… Ну, вы понимаете меня. Я ведь не единственная из «дам директора» там.
– Что? Вот это открытие. Я была абсолютно уверена, что он в стенах института ведет себя безупречно. Катя, того, о чем ты говоришь, просто не могло быть!
– Вы наивная работяга, Ольга Васильевна. Простите… Я не хотела вас обидеть, но Растегаев только потому на вас и женился, наверное, что вы не стали его любовницей. Неужели до вас не доходило никаких историй? О нем же легенды ходят!
– Не может быть, Катя. Он такой тихий и беспомощный, и вдруг – чудовище!
– Он тихий и беспомощный академик, – Катя произнесла последнее слово тоном, проливающим свет на многое.
– Но, возможно, все же лучше будет, если ты поговоришь с ним. Или я. А?
– Нет, со своими проблемами я справлюсь сама. Придется справиться. А с ребенком и академиком, с двумя сразу я не управлюсь никак.
– Что ж, твое дело. И все-таки, почему ты оставила ребенка, Катя? Ведь не может быть, чтобы просто не решилась избавиться?
– Сначала просрочила, а потом подумала, что он может родиться умненький, в папашу.
Ольга не стала напоминать, что, как утверждают мудрецы, природа отдыхает на детях гениев.
– Я постараюсь тебе помочь. Сразу после праздника.
– Вот спасибо. С наступающим. С новым счастьем, – Катя уже встала и принялась собираться.
– Новое счастье, думаю, подаришь нам ты, – Ольга улыбнулась.
Когда за гостьей закрылась дверь. Бурова почувствовала себя окончательно свободной от всех данных и неданных обязательств.
Она подошла к зеркалу и поправила прическу. Потом надела прелестное светло-серое бархатное платье, серые же замшевые туфли, достала из шкатулки любимый, черненого серебра, комплект.
Серьги в форме полураскрытых раковин с импровизированными жемчужинами и такая же подвеска смотрелись очень оригинально. На глаза попалось обручальное кольцо. Ольга завернула его в бумагу и спрятала на дно шкатулки.
Так, в нарядном американском платье, вся в серебре, она, не проронив ни звука, просидела до полуночи, периодически подпитывая свое вольное существование чашечкой кофе и сигаретой.
Телефон был выключен. Трехпалая вилка валялась на полу. В этот вечер Ольге была просто необходима полная, не предполагающая никакого вторжения, тишина.
Около полуночи женщина неумело открыла бутылку шампанского, однако, прежде чем наполнить бокал, залила платье. Поскольку никто не мог ее видеть, Ольга сняла мокрое платье, и в одном белье, с бокалом искристого напитка похожая на одалиску, встретила Новый год.
Она чувствовала себя чем-то вроде телефонного аппарата, выключенного из розетки. Не задействованный механизм, казалось, был лишен всякого смысла…
Глава 20
– Ольга, Ольгушка! Завтра твой праздник. Ты не забыла? – Анатолий протянул ей большую коробку, перевязанную атласной лентой, с красивым бантом.
А Билл держал в руках пять алых роз. Когда он отдавал их Ольге, то не смог скрыть легкого смущения.
– Развяжи, – уверенным голосом произнес Кот. Он не сомневался, что Ольгу обрадует подарок.
Бурова осторожно потянула за кончики ленты, сняла крышку и увидела совершенно замечательную шляпку, как раз такой ей и не хватало в ожидании грядущего потепления. Весна наступала неизбежно и бесповоротно.
– Ой, какая прелесть!
– А ты надень, чтобы мы могли полюбоваться!
Ольга вынула шляпку из коробки и увидела, что там притаился еще один подарок – флакончик французских духов.
– И шляпка, и духи – из самого Парижа, – сообщил Билл тоном, предполагавшим раскрытие коммерческой тайны.
– Спасибо, мальчики. Я так рада.
Ольга взяла розы, но почему-то подумала: «Слава Богу, что не бордовые!»
– Ольга, а это для вашей подруги. Лекарства, которые вы просили, – Билл достал из дипломата несколько упаковок.
– Спасибо, что не забыл.
– Я забыл бы, но, к счастью, имею привычку все записывать, пояснил американец.
– Завидная привычка.
– Ладно, вы тут посудачьте, – несколько странным тоном произнес Кот, – а у меня еще дела.
– Ольга, я понимаю, что неудобно обращаться с такими просьбами к женщине, но, если вы за рулем, то не подвезете ли меня. Хотя бы до метро.
– С удовольствием, Билл. Я как раз еду в центр. Собираюсь отвезти лекарства той самой подруге.
Шляпка заняла привычное место в коробке. Розы были завернуты поверх целлофана в газету – температура на улице едва перевалила за 0 °C. Билл умело подал Ольге шубку, и через несколько минут темно-синий «форд» уже сдвинулся с места.
– Знаете, Ольга, это я решил, что вам нужно ездить на «форде», – признался Билл.
– Почему?
– Потому что моя фамилия Стилфорд, а вы мне очень нравитесь.
– Не нужно подобных разговоров, Билл. Мы с вами друзья – и только.
Билл замолчал и надолго уставился в окно. Ольга тоже задумалась о своем.
Ее время теперь исчислялось не по личным часам, а по всеобщим: Новый год, Женский день… Никаких импровизаций.
– Ольга, вы не будете против, если я приглашу вас, скажем, в театр? – неуверенно спросил американец. Видите ли, мне понятен без перевода только балет, – словно оправдывался он.
Ольге не понравилось упоминание о театре: такое в ее жизни уже было.
– А что, если я вас приглашу? Скажем, на премьеру спектакля по пьесе моей подруги. Она – драматург. Кстати, это та самая подруга, для которой вы привезли лекарство.
Билл расплылся в широкой, как прерия, улыбке.
– О, буду очень, бесконечно рад. Вы даже не представляете, как я буду счастлив. А когда?
– Кажется, через неделю.
Ольга остановила машину прямо у «Космоса».
– Good-bye!
– So long, Olga! See you soon![1]1
Увидимся скоро, Ольга! (англ.).
[Закрыть]
Заходить к Тане и Мише не хотелось. После радикальных перемен в жизни Ольга избегала общества даже самых лучших друзей. Никаких чувств у нее не вызывала и Катя, служившая теперь в фирме и ставшая к весне круглой, как готовая вот-вот лопнуть почка.
Несмотря на острое нежелание общения, лекарства нужно было передать. «Форд» остановился у знакомого дома на Колхозной площади. На два звонка, как всегда, вышел Миша.
– Ольга, ты проходи, подожди Таню. Она в театре задержалась, вот-вот вернется.
– Нет, Миша, я очень тороплюсь, – Ольга даже обрадовалась, что подруги не оказалось дома, – вот лекарства для нее.
– Ты просто клад! Погоди, я сейчас, – Миша забежал в комнату и стал что-то искать.
– Что ты ищешь?
– Вот, – он протянул ей книгу.
– Твоя?
– Нет. Это книга Алексея. Посвященная его отцу. Тут рассказы многих людей, изложение идей, воспоминания. Срез недавнего прошлого. И, между прочим, дневники самого Алексея.
Ольга нерешительно смотрела на материализовавшееся свидетельство жертвы, которую много лет назад Алексей принес на алтарь своего бога. В Ветхом Завете Авраам пожертвовал сыном. А кем пожертвовал Захаров? Знал ли он, кем пожертвовал? И он ли жертвовал?
«В своей жизни каждый прав и виноват сам», – абстрактно-мудрая мысль пришла в голову Буровой, как часто бывает, с небольшим опозданием.
Страницу за страницей читала Ольга странную книгу, это своеобразное «Евангелие от Алексея».
Безрадостное житие Захарова-старшего, великие в своей бредовости идеи, посещавшие этого человека, лишенного свободы, убирали последние камни на пути ее понимания прошлого.
Да, тогда, семь лет назад, Алексей был одержим и размолот проникновением этой безумной жизни в свое существование. Он собирал по крупицам судьбу отца и разрушал собственную. Он болен творческой свободой, внезапно отверзшей уста.
И вот теперь Ольга прикасалась, хотя и с опозданием, к тем истинам, которые когда-то повергли в изумление Алексея… К правдоподобным гипотезам, которые невозможно было ни безоговорочно принять, ни целиком отвергнуть.
«Мы подошли, наконец, к месту, координаты которого довольно точно указал в записке Валерий Захаров, – читала Ольга. – Здесь сливаются два потока, две речушки, образуя небольшой порожек-водопад.
Отец утверждал, что именно в таких местах, как это, как бы соприкасаются времена, – сходятся воедино прошлое, настоящее и будущее.
Нет, не зря японцы так любят смотреть на падающую воду! Таким образом они впадают в глубокое созерцание, путешествуют в своих мечтах и грезах, им открываются откровения, подобные тем, познать которые издавна стремится человек, гадая на воде.
Все, что существует, существовало или будет существовать, оставляет свой след во Вселенной. Каждая частица, как считал отец, содержит полную информацию о целом космосе. Человек, погружаясь в глубокое созерцание, сам становится такой частицей. Он выпадает из иллюзии последовательности, которую люди называют временем. Он начинает воспринимать события прошлого, настоящего и будущего пребывающими в некоем постоянном «сейчас». Он обретает возможность предугадывать, воскрешать в себе память всех предков и предвидеть пути всех потомков.
Сегодня я убедился, что отец был прав. Я проверил одну из его гипотез, отыскал точку, где могу испытывать те же ощущения, которые испытывал и он.
Мы с сестрой сидим на одном огромном валуне и смотрим на водопад. Я чувствую, что мы с Викой стали одним существом, ян и инь нашего отца. Почти одновременно мы закрываем глаза и начинаем воспроизводить ход его мыслей. Мы – это он. Но я боюсь испытать подобный опыт. Едва приблизившись к нему, я ощущаю совершеннейшую его чуждость, запредельность по отношению к знакомому мне опыту жизни. Я открываю глаза. И вижу мою невесту. Она спит. В Москве теперь пять часов утра. Я знаю, что в это мгновение снюсь ей, сидящим здесь, у водопада. Я боюсь думать о ней, потому что я теперь – не я, не Алексей Захаров.
Я хочу помнить только одно: невозможно потерять ее, мою любимую, потому что между нами действительно натянуты космические нити».
Ольга отложила книгу и зажмурила глаза. Она была ошеломлена прочитанным. И вновь перед ее внутренним взором пронеслись семь лет бессмысленного существования – без цели и без любви.
Темнело. Ольга зажгла свечу в старом медном подсвечнике, позеленевшем от времени и от тоски.
Алые розы в полумраке комнаты казались бордовыми.
А ночью ей приснился сон, будто не было этих семи лет, не прибавивших к ее душевному опыту ровным счетом ничего. Не было!
Была комната в общежитии, и медленный полет перышек, и любимые глаза – рядом, так, что ресницами можно было дотронуться до ресниц возлюбленного.
Он целовал мочки ее ушей. Серебряные шарики вздрагивали в черненых раковинах. Сквозь шторы просачивался лунный свет, холодный, как хрусталь. Ольге становилось зябко, но не телесно, а духовно. И тут появлялись лица, целый ряд лиц выглядывал из-за штор.
Увядшего Карла Карлыча сменял неунывающий Юрий Михайлович. Его изгонял астеничный физик Виктор. Полузабытый таксист подмигивал зелеными глазами, смущенный Билл демонстрировал великолепные зубы в рафинированной западной улыбке. Лица появлялись и исчезали, словно блики на стене. Чьи-то черты были вовсе незнакомы Ольге. Она четко знала только одно – среди участников видения не существовало Алексея, потому что он в это время был рядом с ней, и они общались беззвучно – телепатически.
– Ты знаешь, что весь мир – только любовь? – спросил Алексей.
– Да. Кроме любви, ничто не имеет смысла.
– И жизнь, и смерть все любовь.
– А все остальное суета сует. Душа приходит в этот мир нагой и нищей и уходит нищей и нагой.
– Все, что она может взять с собой – только любовь. Один из моих любимых поэтов писал: «Душа обязана трудиться и день, и ночь».
– Я слышала эту строку много раз.
– Но не поняла ее, не могла понять, потому что он говорил о любви. Если бы я был философом, то сформулировал бы следующее определение: «Любовь – способ существования души».
– Мне кажется, мы никогда не расставались.
– Мы на самом деле никогда не расставались, потому что реально только то, что мы чувствуем.
– А как же – другие, пути которых пересекались с нашими в эти годы?
– Не было других. Пути не пересекались, поскольку мы не изменили своих путей.
– Но каждый из нас так настойчиво и безуспешно боролся со своей любовью.
– Эта борьба была обречена на неудачу, потому что не было твоей и моей любви, а была и есть одна большая – наша.
Ольга проснулась, снова зажгла свечу и открыла Библию на странице 666, где значилось: «Книга Екклесиаста, или Проповедника».
«Доколе не порвалась серебряная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не разбился кувшин у источника и не обрушилось колесо над колодцем. И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратится к Богу, который дал его».
Свечка оплывала воском. Причудливые натеки казались реальными живыми существами.
«Наверное, я теряю рассудок», – решила Ольга.
Короткие гудки прерывались треском и механическими голосами: «Неправильно набран код города», «Вызывайте телефонистку», «Вы ошиблись в наборе номера»…
Ольга, как полоумная, крутила диск, снова и снова натыкаясь на механические преграды. Номер телефона она помнила, как и все, что происходило много лет назад.
«Только бы номер не изменился… Восемь. Гудок. Восемьсот двенадцать… Вызывайте телефонистку…».
После многих безуспешных попыток она наконец услышала на том конце провода длинные гудки.
«Алло», – послышался сонный женский голос – молодой, непохожий на голос матери Захарова.
Ольга потеряла дар речи. Даже если бы она захотела произнести хоть слово, то не смогла бы.
«У него там женщина. Из тех, которые не пересекают пути? Конечно же, глупо и наивно было думать, что он коротает одинокие ночи», – Ольга опустила трубку на рычаг и выдернула вилку из розетки.
«А вдруг изменился номер. Или неправильно соединили? Или этот голос ей вовсе почудился?»
Ольга вышла в лоджию. Уставший город спал, словно предчувствуя большие перемены погоды. В соседнем доме светилось единственное окно, нелепое в окружении слепых темных глазниц.
Где-то внизу, у спуска в подвал, пронзительно вопили бездомные кошки. Их мерзкие мартовские визги были похожи на телефонные гудки.
Охваченная безысходным отчаянием, она проплакала до утра. А на рассвете решила, что больше не в силах жить затворницей и что, если уж судьбе было угодно наказать ее такой неистребимой любовью, то должна хотя бы объясниться с Алексеем. Для этого нужно ехать в Питер. Хотя бы с единственной целью: расставить все точки над «i».
Звонок в дверь был долгим и пронзительным.
– Оля, открывай! Я знаю, что ты дома, – Таня делала вид, что очень сердится. – Ты слышишь меня? Думаешь, раз выключила телефон, то я тебя не достану!
Ольга нехотя щелкнула замком.
– Привет, красотка! – подруга придирчиво рассматривала Бурову. – Ну-ка, повернись к свету! Молодая, красивая, умная богатая – а до чего себя довела… Посмотрись в зеркало, праздник ведь, самодостаточная моя.
– Мне надо ехать в Питер, – сообщила Ольга.
– Театр абсурда да и только. В Питер? Может, присядем на дорожку? Я, между прочим, с удовольствием выпила бы чаю.
– Сейчас… А ты раздевайся пока, сними пальто.
Чай «Pickwick» заварился быстро. Аромат лесных ягод быстро распространился по всей квартире. Глядя на прозрачный чайник для заварки из цейсовского стекла, Ольга вспомнила, что совсем недавно со свежезаваренным чаем сравнивала цвет глаз Алексея. Сколько воды утекло со времени того обеда на четверых!
Таня, расположившись в кресле, листала первый попавшийся журнал. Ольга обратила внимание, что на подруге было изящное темно-зеленое платье несложного кроя, но тщательно выполненное. «По цвету похоже на то, в котором она танцевала на пароходе», – Ольга поймала себя на мысли, что, как козлик вокруг столбика, ходит вокруг воспоминаний об Алексее.
– Оля, тебе ни к чему ехать в Питер. Захаров сам приедет в Москву семнадцатого.
– Откуда ты знаешь?
– Он приедет на премьеру. Вика играет одну из главных ролей в моей пьесе.
Чай продолжал распространять неземные ароматы. Драматургесса сделала несколько глотков.
– Амброзия… А теперь, подружка, рассказывай.
– Что рассказывать? – вздохнула Ольга.
– О том, что с тобою происходит. По симптомам на языке психиатрии это называется МДП.
– Как?
– Маниакально-депрессивный психоз. Ушла в себя, на людях не показываешься, нерабочее время проводишь в интересных беседах сама с собой… Кстати, мне звонил твой… Бывший. Спрашивал, как тебя найти. Я не «навела».
– Хоть за это спасибо… Я пыталась дозвониться до Захарова сегодня ночью. Трубку сняла женщина.
– Снова – страсти. А ты правильно набирала номер?
– Да, – Ольга назвала по памяти семь цифр.
Таня достала из сумочки записную книжку.
– Повтори еще раз.
Ольга повторила.
– Память у тебя явно девичья, подруга. На конце не двадцать два, а двадцать три, – она засмеялась. – Бедная женщина, разбуженная среди ночи твоим сумасшедшим звонком. Хорошо ты поздравила ее с праздником, нечего сказать.
На сердце у Ольги мгновенно улеглась буря. Ее прекрасные серые глаза снова засияли неведомым внутренним светом. Таня знала, что это отражение любви.
– Ой! – вдруг вспомнила Бурова. – Я пригласила на премьеру Билла Стилфорда, помнишь, я тебе о нем говорила.
– Ну и замечательно.
– А как же Алексей? Я снова все запутываю.
– Не беспокойся. Американца я возьму на себя. Мне будет забавно придумать и для него светлую историю любви. Что-то вроде шахматной задачи.
– Таня, ты – бесенок!
– Ты тоже не ангел, моя дорогая, – парировала Таня.








