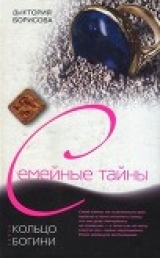
Текст книги "Кольцо богини"
Автор книги: Виктория Борисова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 17 страниц)
А рядом доктор в золотых очках мыл в тазике окровавленные руки, обтирал их полотенцем и приговаривал:
– Экий вы счастливчик, прапорщик! Вот еще на полногтя бы повыше – и все, прямо в сердце. А теперь поживете еще, мы вас подлечим, станете как новенький…
– А Никифор где? – спросил Александр. Почему-то ему казалось, что если он снова увидит Чубарова, то ему сразу станет легче.
– Никифор? – Доктор нахмурился. – Это кто такой?
– Ну, тот солдат, что меня спас!
– Не знаю, голубчик, не знаю… Тут каждый день их знаете сколько проходит? Не могу же я запомнить каждого!
«К стыду своему, я не ведаю и по сей день, что стало дальше с моим спасителем. Погиб ли он на фронте, вернулся ли домой невредимым, стал ли жертвой войны следующей, гораздо более чудовищной и бесчеловечной, когда брат идет на брата? Или, может быть, жив и поныне? Скорее всего, об этом мне не узнать уже никогда.
Но маменька моя еще долго ставила в церкви свечу „за здравие раба Божьего Никифора“».
Все-таки странное дело – каждый, кому довелось оказаться на войне, мечтает о том, чтобы вернуться домой живым, чтобы поскорее забыть ее как страшный сон и начать все заново… А потом вспоминает долгие годы, словно только тогда и жил по-настоящему.
Может быть, потому, что на войне, в состоянии постоянной опасности, когда каждый день – как последний, возникают особые узы между людьми. Они крепче родственных и дружеских, ведь в момент риска, на грани смерти боевой товарищ становится ближе, чем кто-либо.
И война постепенно превращается в самое яркое воспоминание на всю оставшуюся жизнь, подергивается романтическим флером…
Максим вспомнил, как недели две назад Леха пригласил его на свой день рождения. Идти ужасно не хотелось – он прекрасно знал, что представляют собой эти посиделки в дорогом ресторане, когда почти все гости – «нужные» люди. Контингент Лехиных знакомых он знал довольно хорошо… Сначала будут говорить длинные тосты, поздравлять именинника, вручать подарки, шуршащие праздничной упаковкой из дорогих магазинов, многозначительно переглядываться между собой и «выходить покурить» со словами: «Тут возникла такая тема… Перетереть по уму надо бы». Решают, надо понимать, свои вопросы с «откатами», «наездами» и «заморочками». Потом напьются, начнут бить посуду и горланить песни под караоке, кто-то непременно уснет прямо за столом, уткнувшись лицом в салат. Часам к двум гости разъедутся по домам отсыпаться, и только самые стойкие закончат вечер в какой-нибудь VIP-сауне с девочками нетяжелого поведения.
Максим уже придумывал какой-нибудь повод, чтобы отказаться, но Леха позвонил сам.
– Ты, Ромен Роллан, часам к восьми подгребай, – весело сказал он, – ресторан «Новый свет», схему проезда я тебе по Инету скинул уже. И не вздумай всякую хрень покупать, подарок типа… У меня и так этим говном вся квартира заставлена!
– Да я вообще-то… – замялся Максим. Очень не хотелось обижать друга отказом, но и тратить вечер на бессмысленные посиделки – тоже. На том конце провода воцарилось гробовое молчание, и это не предвещало ничего хорошего. – Может, как-нибудь в другой раз? – спросил он с надеждой. – Посидим вдвоем, отметим… Не будь ты таким формалистом!
– Даже не думай, – отрезал Леха, – обижусь. Знакомых у меня много, а друзей – нет. Должен же хоть кто-то глаз радовать за столом! Все, до встречи.
Максим с тяжелым вздохом повесил трубку пошел бриться. По дороге он мысленно клял себя за мягкотелость и в ресторан приехал в отвратительном настроении. Тяжелая, помпезная роскошь банкетного зала с вычурной позолоченной мебелью, дубовым паркетом и белоснежными крахмальными скатертями тоже почему-то совсем не радовала, а скорее раздражала его. Будто в музей пришел…
Веселье уже было в полном разгаре, звучали тосты, звенели бокалы, вино лилось рекой, и официанты сбивались с ног, таская тарелки с новыми и новыми блюдами. Он чувствовал себя немного лишним на этом празднике жизни. Сам никогда бы в такой ресторан не пошел…
Максим вручил Лехе пакет с его любимым парфюмом от Hugo boss, и хоть приятель и протестовал («Я же говорил – ни к чему это!»), но видно было, что подарок ему понравился. По крайности, лишним не будет.
Соседом Максима за столом был огромный, кряжистый, словно медведь, мужик, по недоразумению втиснутый в дорогой костюм от Армани. Пил он много, почти не закусывая, и на бокал Максима с минералкой косился явно неодобрительно.
– Здоровье бережешь? Ну-ну…
Максим как раз прикидывал, как бы поскорее свалить с этого сборища незаметно, и вступать в бессмысленную дискуссию ему совершенно не хотелось. Тем более с нетрезвым и агрессивно настроенным собеседником.
– Да нет… За рулем я, – ответил он вполне мирно.
Но сосед, кажется, и не слышал его. Он смотрел куда-то в пространство, и чем больше пьянел, тем дальше уходил от окружающей реальности.
– Это фигня… Вот в Афгане мы все больше спирт пили.
Удивительно – ведь больше двадцати лет прошло с тех пор, как по мановению сонных бровей впавшего в маразм генсека тысячи русских парней воевали и умирали в чужой стране, но видно было, что этот большой и сильный человек, много чего повидавший на своем веку, душой был все еще там. Он пил и все говорил, говорил… Рассказывал, как их автоколонна напоролась на засаду под Кандагаром, как духи расстреливали их в упор, прячась в скалах, как он, восемнадцатилетний пацан, угодил под пулю и думал – все, конец, а потом старшина тащил его, раненого, на себе к своим…
Максим как будто воочию видел обожженные солнцем горы, красно-желтую, сухую землю под ярко-синим небом, таким чужим, нездешним… И вертолет, зависший высоко-высоко в синеве. Оба они даже не заметили, как постепенно опустел банкетный зал, гости разъехались, и только какая-то парочка ворковала в углу, да усталые официанты убирали посуду со столов.
Выговорившись, странный собеседник Максима как будто успокоился. Теперь он выглядел совершенно трезвым, только глубже залегли жесткие складки на лице да глаза смотрели строго и грустно. Он налил очередную рюмку, встал, выпрямился во весь рост и произнес почти торжественно:
– Игорь Ткаченко, гвардии старшина десантных войск…[7]7
Подробнее об Игоре Ткаченко см. в романе В. Борисовой «Поезд следует в ад».
[Закрыть] Где бы ты ни был, пусть тебе будет хорошо!
Одним махом он выпил рюмку до дна и швырнул ее об пол. Стекло жалобно зазвенело, и официант, что как раз заканчивал собирать тарелки, вздрогнул от неожиданности, но ничего не сказал, конечно. Только быстро убрал осколки. Вышколенные они здесь, отметил про себя Максим.
– А тебе, братан, спасибо за разговор. Будь здоров.
Он опустил ему на плечо свою тяжеленную, широкую лапищу, сжал на секунду, повернулся и вышел прочь. В этот миг Максим почувствовал себя так, словно сам на секунду стал его боевым товарищем… И от этого почему-то сердце наполнилось гордостью.
Потом, уже в машине Максим сообразил, что даже имени его спросить не успел. Да, наверное, и не надо было.
«Ранение мое оказалось тяжелым. Один из осколков засел особенно глубоко, возле самого сердца, и доктор Вересов, оперировавший меня, не решился трогать его. Было время, когда даже он не надеялся, что я выживу. В госпитале я пролежал почти месяц, хотя на нашем направлении фронта шли тяжелые бои, немцы наступали и раненых старались поскорее оправлять в тыл. Доктор опасался, что я не вынесу долгой дороги…
Наконец, когда он посчитал меня достаточно окрепшим, я оказался рядом с другими моими товарищами по несчастью в ожидании поезда. Даже самому не верилось – неужели я еду домой?»
Ясным и прохладным осенним днем в тыл отправляли очередную партию раненых. Вот-вот должен был подойти санитарный эшелон, и носилки лежали длинными рядами прямо на земле.
Александр смотрел в небо, на белоснежные перистые облака, громоздящиеся далеко-далеко у самой линии горизонта, вдыхал запах сухой травы, не смешанный с пороховой гарью… Оказавшись здесь, на вольном воздухе после долгого госпитального заточения, он как будто впервые видел все это.
И всем своим существом чувствовал, что будет жить.
Рядом с ним лежал длинный, как жердь, худой австриец в серых обмотках и выгоревшей синей шинели. Он был ранен в горло и беспрерывно хрипел, поводя глазами.
Александр смотрел на него со смешанным чувством. Первый раз с начала войны он видел врага так близко – пусть раненого, беспомощного, но – врага, поднявшего оружие против его страны!
Он всматривался изо всех сил, стараясь разглядеть что-то злобное, отталкивающее в его лице, но враг совсем не выглядел страшным и вызвать мог только чувство жалости, а никак не праведного гнева.
Видно было, что человеку этому осталось жить совсем недолго. Черты лица заострились, нос торчал, словно птичий клюв, кожа выглядела сероватой, как пергамент. Выделялись только глаза – светлые, почти прозрачные, глаза ребенка на лице взрослого мужчины. В них застыло удивление, словно раненый и сам не понимал, почему оказался здесь и за что приходится ему так страдать.
Поймав на себе взгляд Александра, он вдруг чуть приподнялся, ткнул себя в грудь длинным грязным пальцем, похожим на обломок сухой ветки, и медленно, с усилием произнес клекочущим шепотом:
– Есмь славянин! Полоненный у велика битва…
Глаза его на секунду встретились с глазами Александра. Австрияк улыбнулся жалкой, замученной улыбкой и выдохнул:
– Брат мой.
Раненый закрыл глаза и вытянулся во весь рост. Смертная тень легла на его лицо, словно последние силы он потратил на то, чтобы быть услышанным. Очевидно, он вкладывал в эти слова особенный, глубокий смысл и долго ждал случая, чтобы произнести их…
Вдалеке послышался свисток паровоза. Вот и поезд подошел и остановился посреди поля. Из вагонов высыпали санитары – молодые парни в солдатской форме. Они весело перекрикивались, переговаривались между собой, и видно было, что ясный осенний день и синева неба радуют их, как расшалившихся школяров.
На головах у многих красовались почему-то студенческие фуражки, выглядевшие странно и нелепо здесь, в прифронтовой полосе. Как будто человек, надевая военную форму, забыл переодеться окончательно… Только потом Александр узнал, что в санитары шли студенты, признанные негодными к военной службе, и хоть считались они нижними чинами, но нередко фуражки эти спасали их от нелепого и унизительного «цуканья» военных комендантов.
Санитары принялись споро, умело грузить раненых. Один подошел к раненому австрийцу, склонился над ним на несколько секунд и безнадежно покачал головой.
Когда Александра внесли в вагон, он почувствовал смутное беспокойство. Санитары все носили новых и новых раненых, но пленного среди них не было. Неужто забыли?
– А этого… Австрияка? – спросил он у высокого, худощавого санитара с длинными светлыми волосами, похожего на студента-нигилиста прошлых времен.
Тот замялся на секунду, снял очки и потер пальцами покрасневшую переносицу.
– Так умер он. Только что.
Поезд тронулся. Александр прикрыл глаза. Его мысли вновь и вновь возвращались к тому, что сказал этот умирающий человек с заскорузлым от крови бинтом на горле. Не пожаловался, не попросил пить, не вытащил из-за пазухи за стальную цепочку – полковой значок с адресом родных? Может, хотел сказать, что не его вина в том, что поднял он оружие против братьев?
Или… Может быть, в последний миг жизни ему открылось, что все люди – братья? Тогда выходит, что любая война – просто братоубийственная бойня, какие бы слова ни произносили с высоких трибун политики и царедворцы, что бы ни говорили священники у своих кафедр и алтарей, о чем бы ни кричали газетные заголовки.
И по-настоящему война необходима не людям, даже не правителям народов, а тому существу, чьи глаза смотрели с неба на поле боя?
Думать об этом было так страшно! Теперь Александр чувствовал себя уже не героем, не защитником своей страны от иноземного нашествия, а всего лишь соучастником массового убийства, игрушкой в руках чужих и темных сил. Он пытался гнать эти мысли прочь, но они упорно возвращались снова и снова.
«Всю дорогу до Москвы я напряженно думал. Что я делал эти два года? Сражался с врагами? А кто он, мой враг? Этот длинный австрияк в обмотках? Немец? Император Франц-Иосиф? Кайзер Вильгельм? Или все они – только куклы, марионетки в руках кого-то несравнимо более могущественного, наделенного невиданной силой и злой волей?
Я задавал себе одни и те же вопросы, но ответа так и не нашел. Одно я обещал себе твердо – никогда больше, ни при каких обстоятельствах не брать в руки оружие. Кем бы ни было то существо, чьи багровые глаза я видел в темнеющем небе над полем боя, я больше ему не служу!»
Значит, дедушке тоже довелось увидеть Короля Террора! Не так близко познакомиться, как ему самому когда-то, но все же… Заглянуть в его глаза – уже немало. Человек, у которого хватило храбрости на такое, уже никогда не будет прежним, не сможет бездумно шагать в общем строю и прятать свою совесть за чугунное слово «приказ».
Когда-то в институте он изучал, каковы могут быть причины войн – экономические, политические, религиозные… Теперь он изрядно подзабыл всю эту премудрость, в памяти осели только отрывочные слова вроде «борьба за новые рынки сбыта» или «обострение межэтнических отношений». В глубине души ему и тогда казалось, что истинные причины лежат где-то совсем в иной плоскости…
Неужели и вправду все войны – игры могущественного и вечного существа, питающегося людскими страхами, страданиями и ненавистью, а все остальное – лишь отговорки, которые люди придумывают для самих себя?
«Путь до Москвы оказался томительно долгим. Приходилось стоять на каждом полустанке, пропуская воинские составы. Особенно тягостно было, когда из вагонов выносили умерших… Санитары прятали глаза, словно стыдясь чего-то, и сестры милосердия тихо крестились, шепча молитву.
Поначалу большую часть времени я спал, словно пытаясь наверстать упущенное за два года, проведенные в окопах. Санитарам нередко приходилось будить меня, чтобы накормить или поправить повязку.
Снилось мне все время одно и то же – Золотой город у моря под ярко-синим небом. Он стоял гордо и нерушимо, словно и не было нашествия варваров… Каждый раз эти видения наполняли мое сердце радостью, хотелось уйти туда, укрыться за тяжелыми и надежными коваными воротами, но что-то упорно не пускало меня. Каждый раз я просыпался на своей койке в поту, с бьющимся сердцем – и скоро засыпал снова.
Потом постепенно начал приходить в себя, осматриваться, привыкать к окружающей обстановке. Бывало, целыми часами я глядел в окно и видел, как мимо проплывают березовые рощи, пажити, безымянные извилистые речушки… Никогда еще не видел я такой осени, такой ясности небес, ломкости воздуха, серебристого блеска от волокон паутины, сияния мглистых далей, нежной гряды облаков, застывших где-то у линии горизонта.
Словно вся осенняя северная Россия явилась мне в сиянии своей неброской, застенчивой красоты.
Наш санитарный поезд состоял из теплушек. В нем было только два „классных“ вагона, да и то в одном оборудовали операционную. Из-за путаницы и тесноты я оказался в „солдатском“ вагоне. Правда, через день доктор хотел перевести меня в „офицерский“, но я отказался самым решительным образом. Чем я лучше этих людей? Если с ними бок о бок я лежал в окопах, ходил в атаку, мерз под промокшей шинелью и делился куском хлеба, то теперь ехать в одном вагоне и подавно не зазорно.
Именно там я с особенной остротой почувствовал себя русским. Я слушал разговоры моих соседей о косьбе и посеве, о ребятишках, о том, что бабам приходится тяжело и несладко, жалел от души сапера без ноги Ивана Молчанова и сокрушался вместе с ним, что дома – семеро по лавкам, а какой из него теперь работник? Я как бы растворился в народном разливе среди солдат – крестьян, рабочих, мастеровых… От этого на душе было легко и уверенно, и даже война этой уверенности поколебать не могла. Тогда мне казалось, что такой народ способен залечить самые страшные раны и с честью выйти из любого испытания.
Боже, как я ошибался!»
Санитарный поезд подходил к Москве ночью. Свеча дрожала и кренилась на бок, оплывая в жестяном вагонном фонаре.
– В Лефортово повезут. Там – военный госпиталь, – со знанием дела сказал рыжий вологодский ополченец.
– А ты откуда знаешь? – Хмурый сапер без ноги покосился на него из-под сросшихся бровей.
– Да уж знаю… Я тут, мил-человек, второй раз уже! Теперь вот, наверное, вчистую отделался. Да ты не боись, там – житуха! Щи с говядиной каждый день, почитай, чай с белой булкой… Сиделочки опять же.
Ополченец смущенно крякнул и подкрутил длинный ус. Видимо, было ему что вспомнить…
Вот и Брестский вокзал. Сверкающий дуговыми фонарями, как бы расплавленный от их мелового шипящего света, среди окружающей темноты он казался фантастическим видением, вроде волшебного замка из детской сказки.
Поезд подошел к перрону тихо, будто крадучись, словно нарочно дожидался темноты, чтоб не пугать людей видом раненых и изможденных «защитников отечества». Когда эшелоны провожали на фронт – было совсем не так… Их отправляли воевать белым днем, под песни и бравурные марши, и на каждой станции барышни махали платочками и бросали цветы, а возвращаются они в темноте, украдкой, как воры.
Эта мысль мелькнула – и исчезла. Все ерунда, все пустое! Главное – Александр чувствовал, что он снова дома. С наслаждением он вдыхал сырой и промозглый воздух. Совсем скоро наступит зима, Рождество, дома будут наряжать елку… Саша вспомнил, как в детстве прятался в темной гостиной, вдыхая смолистый запах. Не так дороги были пряники и конфеты, даже подарки, заботливо завернутые маменькой в разноцветную бумагу, как ожидание чего-то нового, что непременно должен был принести Новый год.
Раненых выносили из вагонов и ставили носилки прямо на пол в пустом и гулком зале ожидания. Санитары совсем забегались, торопясь побыстрее освободить состав.
Через окно Александр увидел, как к вокзалу один за другим подходят трамваи. Правда, выглядели они очень странно – белые вагоны с красным крестом на боку. Когда-то Саша с удовольствием катался на трамвае «А», любовно называемом москвичами «Аннушкой», по всему Бульварному кольцу – мимо усталого Гоголя, спокойного Пушкина, мимо Трубной площади, где всегда слышался птичий свист, мимо кремлевских башен, и златоглавой громады Христа Спасителя, и горбатых мостов через Москву-реку… А теперь так странно было видеть совсем иные, санитарные вагоны, куда одного за другим вносили его товарищей по несчастью.
Чуть поодаль, кутаясь в платки и шали, тесной группой стояли какие-то женщины. Промозглый ветер продувал до костей, они ежились от холода, но все стояли, не уходили, словно ждали чего-то.
– Кто это? Зачем они здесь? – спросил Александр.
– Своих ищут, – объяснил всезнающий ополченец, – есть такие – каждую ночь приходят! Все надеются.
И верно – как только из вокзальных дверей выходили санитары с носилками, женщины тут же бросались к ним, исступленно вглядывались в почернелые, осунувшиеся лица раненых, совали им в руки какие-то кульки и свертки, связки баранок, яблоки, пачки дешевых рассыпных папирос…
Когда подошла очередь Александра, женщины кинулись и к нему. Он видел их озябшие, красные лица, глаза, полные слез, и хотелось сказать им что-нибудь хорошее, утешающее, но слов не было.
– Ишь ты, молоденький какой! У меня сынок тоже такой…
Огромная, толстая бабища положила на одеяло пачку папирос и пару серых, слипшихся пирожков.
– Дементьев, Петенька… Может, слышал?
Александр покачал головой. Женщина смотрела на него с такой надеждой… Эта наивная вера, кажется, мертвого могла бы оживить! Он хотел было сказать, что все будет хорошо, и Петенька непременно вернется, но в этот миг другая подошла совсем близко – и в горле сразу же пересохло от волнения. Конечно, этого не может быть, никак не может, и все же… Теплая, громоздкая одежда скрывала очертания фигуры, но порывистые быстрые движения выдавали, что она еще совсем молода. Александр увидел, как из-под серого оренбургского платка сверкнули карие глаза… И тут все поплыло перед его глазами. Неужели…
– Конни! – крикнул он.
– Саша? Сашенька, это ты! Господи, какое счастье…
Она опустилась на колени прямо на мостовую, склонилась к нему, порывисто целовала его лоб, исхудавшие щеки, заросшие жесткой многодневной щетиной, и Александр почувствовал, как ее слезы текут по его лицу.
– Ну, будет, будет вам, голубки! Намилуетесь… Ехать надо, там другие ждут.
Рослый санитар хотел было оттеснить ее в сторону.
– Нельзя это, барышня! Не положено, – рассудительно говорил он, но Конни не слушала, упорно шла рядом с носилками и смотрела, пристально и неотрывно, словно не верила сама, что довелось им встретиться.
И санитар сдался.
– Ну ладно, что там… Мы же не звери, – пробурчал он и махнул рукой.
Конни просияла улыбкой сквозь слезы и быстрой тенью шмыгнула в вагон. Словно боялась, что передумают и прогонят.
«Этот путь через ночную Москву еще долго будет помниться мне. Вагоновожатый вел трамвай медленно и осторожно – боялся, видимо, потревожить раненых! – а Конни сидела рядом, согревая мои руки в своих… Я смотрел в ее глаза, такие сияющие, светящиеся любовью, и казалось, что вся боль, что накопилась в сердце за годы войны, исчезает, как ночная темнота под лучами солнца».
Максим посмотрел на часы. Надо же, половина шестого! Длинная же выдалась ночь… Будто всю свою жизнь прожил заново – и не только свою.
Ну что ж, ложиться спать уже не имеет смысла. Да и Верочку будить не хочется… Но самое главное – ужасно интересно, что стало дальше с Сашей Сабуровым и бабушкой! Сейчас они стали для него такими живыми, близкими, и он сопереживал им всей душой.
Да разве могло быть иначе, если их жизнь и судьба положила начало его собственной жизни? Максим уже не думал о странной путанице с отчеством, просто очень уж хотелось, чтобы Александр Сабуров и вправду оказался его родным дедом. Он чувствовал странную близость к этому наверняка давно умершему человеку, и хотелось верить, что какая-то часть его и поныне живет в нем, а теперь вот – продолжится в сыне, который родится через два месяца.
«Те дни и недели, что я провел в госпитале, странным образом будут потом вспоминаться как счастливые. В часы посещений меня навещали родители, сестры, но главное – Конни приходила каждый день и почти все время проводила возле моей кровати. Скоро и врачи, и сиделки привыкли к ней, тем более что Конни охотно помогала им, если нужно было покормить раненых, помочь сменить повязку или поднять тяжелого больного. Курсы сестер милосердия при Иверской общине не прошли для нее даром…
Выздоровление мое шло на удивление хорошо, и скоро я уже мог самостоятельно вставать с кровати и ходить по длинным больничным коридорам. Поначалу голова кружилась ужасно, я задыхался и сердце колотилось в груди, словно там поселился маленький сумасшедший барабанщик, но постепенно силы стали возвращаться ко мне.
В конце декабря я был признан более негодным для строевой службы и выписан домой для „дальнейшей поправки здоровья“, как было написано в сопроводительных бумагах.
Первые дни я почти не замечая ничего вокруг – таким счастьем было снова оказаться дома, увидеть отца, мать, сестер… Новый, 1917 год мы встретили в тесном семейном кругу. Только Конни я, разумеется, пригласил на это скромное торжество и тут же объявил родителям о нашей помолвке. Они, конечно, и так давно догадались… Отец немного поворчал, что мы еще слишком молоды, чтобы жениться, что я еще не встал прочно на ноги, чтобы достойно содержать семью, и все же я видел – он одобряет мой выбор.
Прошло Рождество, миновали веселые морозные Святки. Я уже строил планы о возвращении в университет. Войне не видно было конца, и даже в Москве чувствовалось ее тяжелое, смертоносное дыхание. Повсюду – раненые, так что даже здание гимназии, где прежде учились мои младшие сестры, было отдано под госпиталь, женщины в черных платьях с исплаканными лицами, фонари не горят на улицах по ночам, и в квартирах – жуткий холод… Повсюду выстраивались длиннейшие очереди за хлебом, и все чаще на дверях булочных красовалась надпись: „Сегодня хлеба нет и не будет“.
И все же я старался не падать духом. Казалось, что самое страшное уже позади, и я от души надеялся, что совсем скоро, может быть, к лету, война кончится и жизнь войдет в обычную колею. А там, глядишь, и раскопки в Крыму возобновятся… Очень хотелось верить, что пройдет совсем немного времени – и мне снова удастся ступить на эту обожженную солнцем землю, овеянную обаянием глубокой древности, увидеть Золотой город, продолжить прерванную работу. Мы с Конни встречались почти каждый день, ходили по Страстному бульвару, разговаривали обо всем на свете, мечтали о будущем…
Тогда мы и представить себе не могли, каким оно будет на самом деле».
В воздухе уже пахло весной, и снег начал подтаивать потихоньку. В то утро семья, как обычно, собралась за чаем. Маменька привычно вздыхала, сокрушалась, что цены на базаре опять ужасно поднялись, подумать только – коровье масло два рубля с полтиной за фунт! И дрова по пятьдесят рублей сажень, не напасешься… Куда катится этот мир?
Александр слушал ее вполуха. Прихлебывая жидкий чай, он думал о том, что сегодня надо непременно зайти в университет справиться о расписании лекций. Если удастся сдать экстерном хотя бы часть предметов, возможно, совсем скоро он кончит курс. Профессор Шмелев обещал похлопотать. А вечером… Вечером Конни снова будет ждать его на Страстном бульваре.
Отец, как обычно, развернул утреннюю газету – и вдруг побледнел и выронил чашку из рук. Тонкий фарфор разбился об пол, но отец, кажется, даже не заметил этого. Он всматривался в газетный лист, словно не веря своим глазам.
– Что случилось? – спросил Александр.
– Беда, сын. Император Николай Александрович отрекся от престола. Конец монархии, конец России…
Он опустил голову, снял пенсне, и Александр с ужасом увидел, что отец плачет не таясь.
Потом он часто вспоминал его слова – и эти слезы пожилого, усталого, многое повидавшего на своем веку человека. Дальше события развивались очень быстро…
С февраля до осени семнадцатого года по всей стране словно шел один сплошной нескончаемый митинг. Словно за несколько месяцев Россия спешила выплеснуть то, о чем молчала целые столетия.
Москва митинговала возбужденно и яростно. Клятвы, призывы, божба и матерная ругань – все это тонуло время от времени в хриплом «Долой!» или восторженном «Ура!». Крики эти перекатывались, словно гром, по всем перекресткам, и маменька, нервно вздрагивая, задергивала шторы на окнах.
– Вот, опять… – говорила она и мелко, суетливо, по-старушечьи крестилась. – Что-то будет, Сашенька?
Александр угрюмо отмалчивался. Ох, как он и сам хотел бы это знать… Что тут скажешь, если страна на глазах разваливается, словно ком мокрой глины? Провинция, уездная Россия не подчинялась более Петрограду, жила неведомо как и бурлила неведомо как. Армия на фронте стремительно таяла.
Хуже всего, что Александр совершенно не представлял себе, что делать дальше. Возвращение в университет ничего не изменило – там и в коридорах, и в аудиториях царили те же хаос и анархия. Некоторые преподаватели еще по привычке читали свои лекции, но их никто не слушал. Кому нужны теперь постулаты Салической правды или родословные франкских королей, когда здесь, прямо под окнами, творится настоящая история? Студенты собирались во дворе – и шли на очередной митинг.
Ходил и Александр. Он искренне хотел разобраться, понять, что происходит в стране, – и не мог. Сумбурные, трескучие речи, крики толпы, озлобленные, голодные солдаты вокруг… Кого-то качали, кого-то стаскивали за хлястик шинели с памятника Пушкину, с какого-то интеллигента сбивали шляпу – и через несколько минут его же триумфально несли на руках, и он, придерживая падающее пенсне, продолжал посылать проклятия неведомо каким губителям русской свободы.
На Таганской площади и вовсе говорили о чем попало. Например, что Керенский – выкрест из местечка Шполы, или о том, что в Донском монастыре нашли тысячу золотых десятирублевок, засунутых кем-то в сердцевину моченых яблок.
Весна была холодная, и град нередко покрывал молодую траву на бульварах хрусткой, колючей ледяной крупой. По вечерам Александр приходил к Конни, и они подолгу сидели в ее маленькой комнате у камина. Видя, что творится на улицах, отец запретил ей выходить из дому без необходимости, особенно по вечерам, и Конни, такая независимая и гордая, неожиданно легко согласилась – тем более что Александру, после того как он церемонно просил ее руки, двери их дома теперь были открыты в любое время. На правах жениха, надо полагать… Хотя профессор не ответил ни «да» ни «нет».
– Я вижу, какие чувства вы питаете к моей дочери. Не смею препятствовать, и все же… Я рассчитываю на ваше благоразумие, – повторял Илларион Петрович. – Когда-нибудь это сумасшествие несомненно кончится, и тогда…
Но заветное «тогда» все не наступало и не наступало. Холодную весну сменило жаркое, раскаленное лето. Прошло уже четыре месяца с начала революции, но возбуждение не затихало. Тревога томила сердце, и казалось, что самые главные события только начинаются.
С каждым днем речи ораторов на митингах становились определеннее, и вскоре из сумятицы лозунгов и требований начали вырисовываться два лагеря. Одни – сторонники Временного правительства – призывали к «войне до победного конца», но видно было, что эти растерявшиеся люди не способны удержать власть в своих руках. Другие – рабочие, солдаты и вовсе не понятные личности, называющие себя большевиками, требовали хлеба и мира, и слабые «интеллигентские» голоса тонули в их могучем реве.
Москва превратилась в буйное военное становище. Каждый день с фронта прибывали солдаты, валившие в тыл, несмотря на призывы Временного правительства. Они оседали вокруг вокзалов, подобно кочевникам, и привокзальные площади курились густым, едко пахнущим махорочным дымом. Жаркий ветер вертел серые смерчи из подсолнечной шелухи, гонял по мостовой обрывки рваных газет…
«Весной и летом семнадцатого года я плохо понимал, что происходит вокруг. Я ходил по давно знакомым улицам, будто пытаясь вспомнить родной город после долгого отсутствия, заново вжиться в него – и не узнавал ничего.
Словно уходил воевать из одной страны – а вернувшись, оказался совсем в другой».
Максим перевернул страницу. Чувства Саши Сабурова он понимал прекрасно. Ведь с ним самим было то же самое – присягу давал великой державе, а потом оказалось, что она больше не существует…
Когда Максим уходил служить, Советский Союз казался нерушимой и мощной державой. Разговоры о перестройке не воспринимались всерьез, а говорливый генсек, прозванный в народе «меченым» из-за родимого пятна на лбу, запомнился только безуспешной борьбой с алкоголизмом, вылившейся в огромные очереди у винных магазинов, расцветом самогоноварения и показушными «безалкогольными» комсомольскими свадьбами. Ну нельзя в России не пить! Тут ничего не изменилось со времен Владимира Красна Солнышка, и, как прежде, «веселие Руси есть пити, не можем мы без того жити». Хоть бы с историками посоветовался, что ли, прежде чем затевать такую заведомо провальную кампанию…







