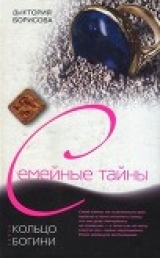
Текст книги "Кольцо богини"
Автор книги: Виктория Борисова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 17 страниц)
Все эти рассуждения выглядят вполне логично и убедительно – на первый взгляд. Как говаривал Семен Иваныч, в прошлом – капитан уголовного розыска, а ныне – начальник службы безопасности в издательском холдинге «Редан-пресс», с которым Максим уже давно и плодотворно сотрудничал, «это вряд ли!». Хотя бы потому, что первое поколение капиталистов новой России, судя по всему, станет и последним… Странно, но словно рок какой-то преследует «новых русских» – с детьми им, как правило, не везет. Почему-то «золотая молодежь» стремится не постигать тонкости менеджмента, финансово-кредитных отношений и международного права, чтобы потом вливаться в семейное дело и строить светлое капиталистическое будущее, а упорно желает нюхать кокаин, глотать экстези и отвязываться в ночных клубах.
Отцы были хищниками, рвущимися к деньгам и власти, чтобы успеть, ухватить, попасть из грязи в князи, чтобы после холодной коммуналки, а то и барака, осклизлой колбасы, дешевой водки – и коттедж с башенками, и ананасы с крокодилами, и пальмы где-нибудь на Майорке… Чтобы можно было встать Во весь рост и крикнуть: жизнь удалась! Удалась, бля… Смотрите все!
А детям повезло меньше. Их уделом стали самоубийства, наркомания, гомосексуализм или просто холодное равнодушие, когда вроде бы уже все есть и хотеть больше нечего, а значит – и жизнь не мила. Как будто чья-то неумолимая рука карает их за грехи отцов, что рвались к власти и богатству через трупы и слезы, не считаясь ни с какими средствами…
Правда, в последние годы колоритные бизнесмены, добившиеся всего собственными силами, и вовсе отошли на второй план. Их место заняли люди с холодной головой, горячим сердцем, чистыми руками… И пустыми глазами, в которых не светится ничто человеческое. Профессиональная подготовка, наверное, сказывается.
Только суть дела от этого не изменилась. Никто почему-то не задается вопросом, как это получается, что скромный правительственный чиновник носит галстук, который стоит как три его зарплаты, а начальник налоговой инспекции ездит на машине, накопить на которую смог бы лет за сто беспорочной службы! Даже говорить об этом вслух как-то неприлично.
Вот как раз вчера, обедая с Лехой в его любимом «Беликаре», Максим услышал примечательный разговор двух солидных господ за соседним столиком. Один длинно жаловался, что никак не пройдет согласование в Москомимуществе. Все бумаги уже собрали, дело на мази, но вот один чиновник уперся – и ни в какую.
Его собеседник, утирая губы салфеткой, посоветовал:
– Надо было денег дать.
– Так пробовали! Каких только подходов не искали – глухо, как в танке! Не берет, и все тут.
– Как это – не берет? – На лице собеседника отразилось искреннее недоумение. – Совсем? А как же он тогда живет?
«Учительствовать мне пришлось совсем недолго – всего полтора месяца. Я только-только начал осваиваться с новыми обязанностями, стал привыкать к детям, пытался рассказывать им о прошлом интересно и ярко, чтобы разбудить присущее юным стремление к познанию… И – как награда мне! – порой мелькала в глазах моих учеников та божественная искра, что когда-то привела меня к поискам Золотого города.
Но, видно, не судьба… Помешал арест».
В ту ночь их разбудил стук в дверь – грубый, настойчивый… Александр натянул брюки и пошел открывать, недоумевая про себя, что понадобилось этим людям среди ночи, – и тут же отступил, увидев людей в форме.
– Гражданин Сабуров? Вы арестованы!
– Я? За что?
Вырванный из сна, из тепла постели, он щурится на свет и, кажется, не вполне еще понимает, что происходит. Шинели и картузы кажутся мороком, пришельцами из дурного сна.
Первая мысль была – почему? Неужто все-таки дознались про комиссара Кривцова? А если так, то почему только теперь пришли за ним, чего ждали столько времени? Или Костя Звягинцев из мофективной секции после того приснопамятного разговора в ресторане побежал в ЧК из страха, что он донесет на него первым? Глупый, вот глупый…
– Там узнаете!
Грязные сапоги топочут по половицам, чужие, недобрые руки роются в вещах. Конни заметалась по комнате, собирая белье, какую-то еду, мыло, полотенце… Александр навсегда запомнил ее взгляд – отчаянный, молящий, когда в последний раз она прижалась к нему, и все никак не могла расцепить объятия, словно хотела слиться с ним, срастись всей плотью и кровью.
А шинели и картузы торопят:
– Эй вы, там! Поживее, гражданка! А то ведь и вас оформить недолго. Мешаете…
Конни будто и не слышала ничего, только прижалась еще теснее. Александр испуганно отстранился от нее. А вдруг и правда арестуют вместе с ним? Это было бы и вовсе ужасно… Он взял ее за подбородок, осторожно и нежно, как маленькой, отер слезы, беспрерывно катящиеся по щекам, посмотрел в глаза – огромные, наполненные ужасом, почти безумные – и очень медленно, строго произнес:
– Я вернусь! Что бы ни было, я вернусь, не бойся. Ты только береги себя. Поняла?
Конни покорно закивала. Он в последний раз поцеловал ее в губы (мягкие, розовые, сейчас они казались почти неживыми), закинул походный мешок за спину и вышел между конвоирами – один спереди, один сзади.
Машины у подъезда не было. Александр даже чуть усмехнулся про себя – видать, невелика сошка эти двое, что пришли его арестовывать сейчас… Улицы по ночному времени были совершенно пусты, безлюдны, даже извозчиков нигде не видно, и пришлось идти пешком по мерзлым лужам, чуть подернутым тонким ледком.
Александр шагал, придерживая лямки вещмешка за плечами, ежился от порывов холодного ветра, прохватывающего до самых костей. Тупое, мертвящее оцепенение охватило его. Даже самому было странно немного. Вот пришли ночью чужие люди, вырвали из привычной жизни, и он идет покорно, куда ведут, словно баран на бойню, и даже не пытается протестовать, выражать свое негодование… Бежать, наконец!
Но воля его была уже парализована, словно у петуха, которому, как в известном опыте, «причертили» голову. Просто так пригнуть – бьется, вырывается птица, а провести черту мелом через клюв и дальше, по столу – сидит смирно, будто держит что-то… Мелькала еще слабенькая, робкая надежда – может, не все еще потеряно?
Ворота распахнулись, и черное нутро Лубянки поглотило его, словно вечно голодная пасть древнего чудовища, не ведающего ни сытости, ни покоя.
В камеру-одиночку запихнули человек десять и все время кого-то дергали на допросы, иногда кричали «с вещами!» и отпускали, иногда выводили молча – и расстреливали тут же, во дворе, прямо под окнами.
А его почему-то все не вызывали и не вызывали. Он постепенно потерял счет дням и ночам, проведенным среди плотно спрессованных чужих тел, в духоте и зловонии. Спать приходилось по очереди, потому что не улежаться всем на грязном асфальтовом полу, и, когда приносили обед – жидкую баланду в железной миске, – Александр, как и все его товарищи по несчастью, быстро съедал отвратительное варево и только усилием воли удерживался от того, чтобы миску эту не вылизывать, как собака.
Все же он старался не терять надежды. Ведь должен когда-то состояться суд! По крайности, хоть там станет понятно, в чем именно его обвиняют… Для себя Александр решил: держаться твердо, ни в чем не признаваться, а там – пусть хоть на куски режут. Доказательств против него нет, а значит – вся надежда только на себя.
Он представлял себе, как войдет в зал, независимо и гордо, как умно и тонко будет парировать все обвинения, так что абсурдными и глупыми будут они казаться любому разумному человеку, и не будет у судей другого выбора, кроме как отпустить его и оправдать. Он даже целую речь сочинил – куда там знаменитому адвокату Плеваке! Даже папенька бы гордился, наверное.
Как говаривал кто-то из мудрых, к счастью или к несчастью, все имеет свой конец. Дошла очередь и до него. Промозглым и ветреным осенним днем, когда даже солнце, кажется, ленится выходить, в камеру заглянул веснушчатый круглолицый надзиратель:
– Сабуров! Выходи с вещами!
В первый момент Александр вздрогнул от неожиданности. Глухо стукнуло сердце – ну вот, свершилось… Он ждал чего угодно – расстрела или освобождения, судебного разбирательства или допроса «с пристрастием», а вышла какая-то скучная и нелепая канцелярская суета.
Сначала его долго вели куда-то по бесконечным серым коридорам. Он шел, зачем-то считая шаги (оказалось тысяча триста сорок два, это врезалось в память накрепко), и гадал – что-то будет? Пока, наконец, не оказался в тесной комнатушке, выкрашенной в противный тускло-зеленый цвет. Слева и справа громоздились стеллажи, заваленные картонными папками, пахло пылью и мышами, и, кажется, даже дневной свет из зарешеченного окошка под потолком не доходил сюда, терялся, рассеивался в сером сумраке. За столом, непонятно как втиснутым в узкое пространство, сидел полный и апатичный человек лет тридцати пяти в гимнастерке с расстегнутым воротом, галифе и начищенных сапогах с лицом, похожим на сильно помятую нестираную наволочку.
– Арестованный Сабуров доставлен! – гаркнул надзиратель.
Хозяин кабинета окинул его равнодушным взглядом, вытащил тонкую картонную папку из стопки справа от себя и положил перед Александром какую-то бледно отпечатанную на машинке бумагу:
– Распишитесь! Вам пять лет по ОСО.
Ну, не может такого быть! Александр изо всех сил напрягал зрение, силясь прочесть что-либо при свете подслеповатой лампочки под потолком, и все его существо возмутилось, словно не принимая реальность происходящего. В самом деле, невероятно, что приговор объявляют вот так – распишись, словно в ведомости на мыло, и убирайся.
– Как – пять лет? Ведь суда еще не было!
Следователь наконец-то поднял глаза, выразительные, как оловянные пуговицы, и разъяснил снисходительно, как неразумному:
– Суда – нет, а есть особое совещание. Вы осуждаетесь на пять лет исправительно-трудовых лагерей как социально опасный элемент.
– За что? В чем меня обвиняют?
Длинная, продуманная речь мигом вылетела из памяти, и остался только вот этот вечный вопрос – вечный, как беспомощное и жалкое блеяние агнца, ведомого на заклание, – за что? Как будто это имеет хоть какое-нибудь значение теперь.
– Я ж вам русским языком объясняю – за происхождение! Вы же дворянин?
– Дворянин.
– Ну вот! – Следователь обрадовался, словно получил признание у особо опасного, хитрого и изощренного преступника. – Ну, вот видите! Сами должны понимать.
В первый момент Александр вздохнул было с облегчением. Вот те на! Столько думал о том, в чем его могут обвинить, что известно следствию, а что – нет, есть ли свидетели… А оказалось – так просто! Пять лет за происхождение. И здесь, в этой комнатушке, не судья сидит перед ним, даже не палач – просто равнодушный чиновник. И надзиратель толкает в спину:
– Расписывайся давай, а то других задерживаешь.
– Но я не согласен!
Надзиратель аж фыркнул от смеха:
– Экой дурной попался! Да кто ж тебя спрашивает?
Даже апатичный следователь, кажется, начал терять терпение:
– Распишитесь, что с приговором ознакомлены!
Александр обмакнул перо в чернильницу и быстро написал внизу листа: «С приговором категорически не согласен!» – и подписался размашисто, брызгая чернилами. «Вот вам! – мстительно думал он. – Делайте теперь со мной что хотите, господа-товарищи, но в вашу игру я играть не буду!»
Но ничего особенного не произошло. Следователь взял бумагу в руки, зачем-то посмотрел на свет, укоризненно покачал головой:
– Ну вот… Перепечатывай теперь! – и вдруг рявкнул оглушительным басом, будто вся лень и апатия мигом слетели с него: – Увести!
«Так началось мое заключение. Тысячи, миллионы моих соотечественников оказались в том же положении… Да что там – иногда казалось, что за колючей проволокой оказалась вся страна, а тюрьма и воля – всего лишь разные проявления одной и той же общей несвободы.
За два века до нашей эры Плавт веселил римлян своими комедиями. От них в памяти остались только четыре слова: Homo homini lupus est. До сих пор, говоря о морали общества, которое построено на корысти, алчности, жестокости к ближнему, мы повторяем: „Человек человеку – волк“…
Плавт напрасно приплел животных. Волки редко дерутся между собой (а до смерти – почти никогда!), не обижают самок и детенышей и даже на человека нападают только доведенные голодом до безумия. А в моей жизни я видел неоднократно, как человек травил, убивал и мучил себе подобных без всякой к тому нужды.
Если бы волки могли мыслить и сочинять афоризмы, то какой-нибудь седой, умудренный жизнью зверь пролаял бы: „Волк волку – человек“».
Интересная все-таки штука получается – Александр Сабуров особой любви к советской власти не питал, не верил в нее и, по сути, являлся идейным противником. А пострадал – вроде бы ни за что… В то же время миллионы других, попавших под жернова людоедской государственной машины, были убежденными коммунистами и даже перед расстрелом выкрикивали: «Да здравствует товарищ Сталин!» – и пели «Интернационал».
Выходит, куда ни кинь – все клин. Если в стране нет законов (то есть они, конечно, существуют, но только на бумаге), свобода и жизнь человека зависят от чего угодно – от произвола властей предержащих, умения доказать личную преданность кому-то, от удачи в конце концов – только не от степени реальной законопослушности. Тот же Холодковский, что когда-то помогал сиротам, вряд ли был грешнее всех прочих, а вот оказался же опаснейшим преступником, сидит теперь и сидеть будет.
И любая спецслужба, наделенная широкими полномочиями, скоро начинает обслуживать исключительно собственные потребности. Так было всегда – и с преторианской гвардией в Древнем Риме, и с русской опричниной…
Недаром ведь Леха так старательно ублажает милицейских начальников! «Был бы человек, а статья найдется! – повторяет он. – Каждого можно за жопу взять… Если покопаться, конечно».
Так что Король Террора не дремлет… Он принимает любые обличья и заманивает людей в свои сети, пользуясь любой приманкой – построения рая на земле, борьбы с преступностью или вульгарного шкурного интереса, – но каждый, от президента великой державы, что посылает свои самолеты бомбить чужую страну, до рядового патрульно-постовой Службы, который с удовольствием избивает задержанных в околотке и выворачивает у них карманы, – служит Ему, и только Ему.
«Из холодных волн Белого моря поднимаются древние стены Соловецкого монастыря, обросшие бурым лишайником. С четырех углов возвышаются приземистые башни. Серо-белые чайки летают над водой с пронзительными криками, словно плакальщицы, провожающие покойника в последний путь.
Давным-давно, лет восемьсот назад, приплыли сюда в утлой лодчонке монахи Савватий и Герман. По красоте и уединенности этого места, по отсутствию тут хищных зверей сочли они это место святым и основали монастырь – души спасать.
Не ведали, что сделают с обителью, потомки и наследники русской земли! Там, где монахи когда-то пели церковные акафисты, отстаивали всенощные службы и трудились во славу Божью монахи, теперь стоят бараки и ходят строем заключенные. Где звучали молитвы и церковные песнопения – слышна только матерная ругань, лай собак да щелканье затворов.
Для сотен и тысяч людей, составляющих истинную славу России, станут последним прибежищем эти острова. Их похоронят без крестов, без пения и молитв, и вместо священников только конвойные скажут последнее слово. Сдох, мол, контра, туда ему и дорога…
Только чудо помогло мне выжить в этом аду. Только чудо помогло вернуться к моей жене и вновь обрести ее, когда, казалось, последняя надежда уже потеряна. Но и сейчас проклятая немота сковывает мне рот – я не могу рассказать, что там видел! Опасаясь за благополучие всех, кого люблю, да и что там греха таить – за свою жизнь тоже, я не смею рассказать о том, что происходило там, за высокими стенами.
И все-таки я верю – придет время, когда рухнет стена молчания, возведенная палачами и убийцами. Верю, что настанет день – и даже мертвые встанут, чтобы свидетельствовать…»
Трюм наш тесный и глубокий,
Нас везут на «Глебе Бокий»,
Как баранов…
Слабый, хриплый и надтреснутый голос гулко звучит в просторном заледеневшем «театральном зале» – бывшем Успенском соборе, кое-как приспособленном под больницу. Тифозная эпидемия застала Соловки врасплох – нет ни врачей, ни лекарств, да и кто будет лечить заключенных? Заболевших тащат сюда, и так лежат они на полу – кто выживет, кто нет. Раз в день приходят санитары – тоже из заключенных, священник из Суздаля отец Иоанн и бывший, ксендз поляк Ольшевский. Удивительно даже, что здесь они сумели побороть свои разногласия, чего так и не смогли сделать представители конфессий за полторы тысячи лет… А теперь святые отцы дружно носят воду и раздают пайковый хлеб и баланду – если кто еще может есть, конечно, кто способен наклонить железную миску и втянуть через край немного мутной, чуть тепловатой, противно пахнущей жижи и медленно, по крошкам прожевать кусочек вязкого тяжелого хлеба, который ни за что не стали бы есть на воле…
И сделать маленький шажок от смертного предела – обратно в жизнь.
Нас везут на «Глебе Бокий»,
Как баранов,
Эх, как баранов!
Поет Иван Добров, бывший рабочий Путиловского завода, посаженный за «сокрытие соцпроисхождения». Жил себе Ваня не тужил, гордо писал в анкетах «рабочий», честно считал себя пролетарием. Но приехал к нему кум из деревни, посидели за столом, выпили мутной самогонки, и рассказал кум, понурив голову, что Ванин папаша Демьян Матвеевич оказался злостным кулаком (корову да лошадь имел), а потому и сослан со всем семейством в отдаленные районы Сибири. Ваня во хмелю ругался крепко, даже порывался ехать в деревню и разбираться, а когда проснулся с гудящей головой – за ним уже пришли. Сосед Шендяпин донес – и тут же занял его комнату. Теснота, что поделаешь, сами впятером на шестнадцати аршинах, а тут еще гражданка Шендяпина снова в интересном положении… Но преступление было налицо – скрывал ведь! Маскировался! – и поехал Ваня на Соловки. И теперь, умирая на холодном полу, он с сумасшедшим упорством поет и поет одну и ту же песню. Среди стонов умирающих, молитв и проклятий пение кажется особенно диким и страшным.
– Да заткнись ты, падло, без тебя тошно! – рявкает на весь зал чей-то грубый голос.
Ваня замолкает на минуту, потом снова заводит свой тягучий, нескончаемый мотив:
Семь дней в барже прокачали,
На лагпункт, как скот, загнали
Утром рано,
Эх, утром рано…
Да уж… Александр весь передернулся, вспомнив их не такое уж долгое плавание. В трюм пароходика, названного по имени видного деятеля ОГПУ, впихнули заключенных под завязку, так что ни вздохнуть, ни шевельнуться. Трое задохнулись, так и не увидев белоснежного монастыря в бурых стенах. А может, им повезло больше других? По крайности, им не привелось увидеть бывшего ротмистра Копейко, встречавшего этап на пристани со словами «здесь вам власть не со-овецкая, здесь власть со-ло-вец-кая!», не пришлось испытать всех тягот и унижений, выпавших на долю своих товарищей по несчастью, которые добрались до скорбного острова живыми…
Поначалу ему повезло – в колонии как раз начала работать раскопочная комиссия. Александр даже духом воспрянул немного, когда бывший бухгалтер Иванов по прозвищу «антирелигиозная бацилла», посаженный за растрату, произносил с пафосом, поднимая вверх указательный палец: «Мы должны знать свое прошлое!» И непрошеная надежда трепыхалась в груди – может, еще и ничего? Поживем еще, поработаем – вот здесь, на святых местах?
Оказалось, радоваться было рано. Иванов сначала взволновал лагерное начальство предположениями о том, что где-то здесь должны быть закопаны монахами многие клады. Несколько месяцев копали, но так ничего и не нашли. Потом, чтобы как-то вывернуться из щекотливого положения, оправдаться перед чекистами за потраченное время и обманутые надежды, Иванов выдвинул новую идею: все подземные помещения – складские, хозяйственные, да и кельи даже – на самом деле были когда-то страшными пыточными камерами. Деталей никаких, конечно, не нашлось, но Иванов упорно продолжал твердить свое. Не сохранилось, мол, просто! Времени много прошло… Наконец, отыскался в подвале ржавый крюк – несомненно, здесь была дыба! Александр еще пытался объяснить, что на крюке этом, скорее всего, подвешивали мясные туши, и вбит он не позже второй половины девятнадцатого века, к тому же – слишком низко для дыбы, но его слушать никто не стал.
«Открытия» эти очень пришлись по вкусу чекистскому начальству и были отпечатаны в соловецкой типографии – да так и пошла гулять очередная ложь, задымившая историческую правду.
А сам он угодил на «общие работы» – раскорчевку леса. Дорого обошлось непрошеное правдолюбие, но ведь и такой «антирелигиозной бациллой» стать – с души воротит… Умом Александр прекрасно понимал, что этот путь – лучший, чтобы сохранить жизнь и выйти на волю человеком, а не трясущимся инвалидом, но все равно – не мог.
А потом пришел тиф. Каждый день косил он арестантов, бывало, что и целые бараки не могли по утрам выйти на работу. Заболевших стаскивают сюда, и здесь, в бывшем храме, где до сих пор со стен взирают изуродованные, изрезанные и оскверненные лики святых (под изображением Девы Марии кто-то огромными буквами нацарапал «б…», а святому Николаю Угоднику лагерные шутники пририсовали огромный нос и длинные уши), каждый оказывается поручен своей судьбе. Выжил – так выжил, а нет – так нет.
Он лежал на полу в заледеневшем «театральном зале» и смотрел на потолок, покрытый изморозью. Всего две недели назад здесь шел концерт лагерной самодеятельности, изломанные фигуры в платьях, перешитых из церковных риз, кружились в модном фокстроте, символизируя загнивающий Запад, а на заднем плане сверкала свежей масляной краской победная красная кузница – молодая Советская республика! Обрывки декораций виднеются и сейчас…
Сеня Шумский – разбитной и шустрый мальчишка, бывший беспризорник, выросший на улице – истое дитя гражданской войны, не углядела мофективная секция! – со своей неизменной лукавой улыбкой пел куплеты с эстрады:
Тех, кто наградил нас Соловками,
Просим – приезжайте сюда сами!
А дальше шло и вовсе крамольное:
Посидите вы годочка три или пять —
Будете с восторгом вспоминать!
И – взрывался зал аплодисментами! Убеленные сединами университетские профессора и молодые урки, офицеры-белогвардейцы и даже священники хлопали и хохотали – вас бы сюда!
Да что там заключенные! Сам чекист Усов в длиннополой шинели хмурился, конечно, но не обрывал дерзкого насмешника.
Давно ли это было? А сейчас даже стрелки-вохровцы боятся заходить сюда – тиф, тиф! Маленькая вошь не боится маузера, ее не отправишь в карцер «на жердочки» (это когда протягивают тонкие палочки от стены до стены и велят заключенным на них сидеть, а если кто упадет – бьют), и даже страшная Секирная гора ей не страшна. Каждый день санитары из заключенных выносят трупы в церковный притвор и ставят стоймя – так они места меньше занимают.
Сеня Шумский умер третьего дня, и его окоченевшее тело уже вынесли. Ксендз Ольшевский шепотом прочитал над ним молитву и перекрестил зачем-то по-католически – не тремя пальцами, а всей кистью. Вряд ли Сеня при жизни был католиком, но остается только надеяться, что Бог милосерднее людей и упокоит его не столь уж чистую душу в месте лучшем, чем это.
Рядом хрипит Сидор Колесников. Всего несколько дней назад это был огромный, сильный, красномордый мужчинище, а теперь превратился в такого же доходягу. Сидел он по легкой «уголовной» статье за пьяную драку в кабаке, хвастал, что убил по пьянке любовницу, да не дознались про это, потому выдвинулся в «самоохрану заключенных» – толстой палкой-«дрыном» каждое утро выгонял из бараков на работу измученных доходяг – и пайку получал по первой категории, и зачеты ему шли исправно… Он вот-вот уже должен был освободиться, ждал только, чтобы лед вскрылся и восстановилась связь с материком, но тиф не пощадил его. Тело еще цепляется за жизнь, но на лицо уже легла скорбная смертная маска, глаза запали в глазницах, и головные вши расползаются прочь, словно крысы, покидающие тонущий корабль.
Александр перевернулся на бок и глухо застонал. Все тело ломало и трясло в жестоком ознобе. Перед глазами мелькает бесконечная череда лиц и картинок. Он снова видел, как Михаила Оболенского, бывшего офицера-белогвардейца, светлого человека с удивительным чувством юмора (на вопрос «как дела?» от отвечал неизменно-бодро: «а лагер ком а лагер!»), ведут по расстрельной дороге, зимой в одном белье… Руки его связаны проволокой за спиной, но так горда осанка, словно впереди его ждет бал в Благородном собрании. Он щурится на утреннее солнце и одними губами курит последнюю папиросу. Видел, как возвращаются этапы со штрафных командировок на Заяцкий остров – недосчитавшись половины, люди ползут, полусогнутые, изнуренные тяжелой работой. Их так и называют здесь – «этапы на карачках». Видел, как привязывают к бревну живого человека – и сталкивают с высокой крутой лестницы в 365 ступеней, ведущей вниз от Голгофского скита…
Каждый раз Александр как будто заново переживал новую и новую смерть, чувствовал ужас, сжимающий горло и грудь ледяным обручем, и снова падал в бездну…
Озноб сменился мучительным жаром, все тело словно горит в огне. Еще немного – и сердце не выдержит, разорвется.
Усилием воли Александр вызывает в памяти совсем иные картины – Дорогие сердцу видения Золотого города. Вот уже возникают очертания башен над стенами… Вот улицы, мощенные камнем, дома, дворцы и храмы… И милое, теплое солнце в вышине, и волны бьются о берег.
Нет больше всей этой мерзости – опоганенных, изуродованных стен храма, товарищей по несчастью, что стонут, матерятся и мечутся в бреду на холодном полу, вшей, ползающих кругом, – только золотое сияние. Войти туда, слиться с теплыми лучами, остаться навсегда и раствориться в нем – это представлялось настоящим счастьем!
Он тихо засмеялся, протянул руки – и Золотой город как будто стал ближе. Нежная, ласковая волна подхватила его и унесла за собой. Боль, страх, отчаяние и ненависть – все осталось где-то далеко-далеко…
Александр Сабуров, узник под номером 2449, потерял сознание. Но в горячечном тифозном бреду он улыбался так светло и радостно, что даже отец Иоанн, обходя больных с ежедневной скудной пайкой, сотворил крестное знамение и тихо пробормотал:
– Истинно кончину праведника вижу! Господи, прими душу раба твоего и учини его в селеньях райских, идеже нет ни печали, не воздыхания…
Александр так и не узнал, что пролежал без сознания почти двое суток. А когда очнулся – увидел тоненький лучик света, пробивающийся сквозь заиндевевшее окно, глухо забранное железной решеткой.
Всем его существом, от головы до ног, овладело чувство бесконечной радости – странное, почти дикое и невероятное для того проклятого места. Слева и справа умирали люди, кто-то бредил, кто-то просил пить, звал маму, а десятник Храбров нудно и длинно матерился… И в этом аду он чувствовал себя счастливым! Он радовался своему дыханию, своему смеху, радовался этому солнечному лучику, самой возможности жить! Грудь и живот дрожали от сладкого, щекочущего смеха. Так страстно хотелось жизни, движения, любви…
А главное – свободы.
Тело еще лежало пластом, двигались только руки, но он едва заметил это. Голова была совершенно ясная, и мысль работала четко. Только сейчас он ощутил, какой это бесценный дар – жизнь, и нелепой, почти кощунственной показалась сама мысль проводить ее в неволе.
Александр вздохнул. Те три года, что отделяют его от свободы, представляются теперь такими долгими, огромными и бесконечными, что даже чувство возвращенной радости бытия как-то померкло, отступило на второй план. Жить – здесь? С Голгофой, Секиркой, штрафными командировками? Ждать, пока сведут «под колокольню» – под арку, в низенькую дверь, туда заталкивают и стреляют в затылок, и тело потом катится вниз по крутым ступенькам… Или бежать, как недавно бежал бывший студент Сергей Суханов – отчаянно, безнадежно, в никуда? Зимой в Соловках видно издалека, и черная фигура на снегу – отличная мишень. Его затравили собаками на болоте, потом голову разбили деревянным молотком и тело бросили напротив столовой – в назидание прочим, чтоб знали.
Или стать вот таким Колесниковым, подличать и лгать и глотку рвать ближнему ради лишнего куска, черпака жидкой баланды или призрачной надежды на досрочное освобождение? И то – не всегда помогает…
Взять того же Колесникова – разве впрок пошла ему верная служба? Сейчас он лежит рядом холодный, мертвый, такой же исхудавший, как и остальные бедолаги, словно совсем недавно и не разгонял дрыном толпу заключенных.
И воля ему больше – ни к чему. Только и осталось от человека (не бог весть какого хорошего, но ведь человека же!) – клеенчатая бирка, с криво нацарапанной фамилией, привязанная к большому пальцу. Раньше просто чернилами писали на руке, но записи эти часто истирались, пока обреченные метались в бреду, заливались горячечным потом или тряслись в ознобе, так что уже понять нельзя было, кто живой, а кто уже мертвый. Приходилось ходить и подновлять регулярно, а кому охота лишний раз рисковать? Вот и придумала санчасть – писать такие бирки и привязывать накрепко.
Бирка! Ах да, конечно! Александр даже засмеялся от счастья, так проста и очевидна была эта мысль. Сидору Колесникову на волю уже не выйти, а вот он сам может выйти вместо него. Собрав остатки сил, он подполз к окоченевшему телу и принялся осторожно развязывать бечевку. Только бы не порвалась… Пальцы слушались плохо, он даже заплакал от отчаяния, но все равно продолжал упорно теребить неподатливый узелок. Есть! Наконец-то… Теперь свою отвязать… поменять… снова привязать, чтоб никто не заметил… Вот, кажется, и все!
Каждое движение давалось с неимоверным трудом. Когда Александр закончил, он чувствовал себя совершенно обессиленным. Зато – сделал, смог, и робкая надежда забрезжила впереди…
Он счастливо улыбнулся и вновь провалился в забытье.
«Вот так и получилось, что я принужден был потерять не только имущество, семью, но даже имя свое. С тех пор прошло много лет, но и по сей день я вздрагиваю, если за спиной кого-нибудь окликнут Александром. Не в один день я привык и к новому имени, и до сих пор оно чуждо и немило мне.
И все-таки… Я безмерно благодарен судьбе! Благодарен за то, что мне была дана возможность вновь оказаться на свободе, жить, ходить по земле, дышать воздухом… А главное – снова увидеть мою любимую, и каждый час, каждый миг рядом с ней я ощущаю как безмерное счастье. Не знаю, сколько еще оно продлится, но, может быть, это и не важно?»
Перед глазами все плывет… Максим отложил тетрадь и зажмурился на секунду, как он делал обычно, если приходилось долго сидеть перед компьютером.







