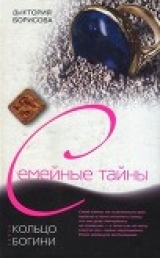
Текст книги "Кольцо богини"
Автор книги: Виктория Борисова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 17 страниц)
Через несколько минут он уже сидел в столовой. Белая скатерть, приборы, тарелки с голубым ободком – все здесь было привычно и памятно до мельчайших деталей. Электрическая лампочка светила вполнакала, но в остальном – как будто и войны нет…
Новым и непривычным было только одно – ужинали в полном молчании. Раньше такого никогда не было.
Саша расправлялся с большим куском холодной говядины, усиленно работая ножом и вилкой. Мясо было жестковато, но сейчас оно казалось ему удивительно вкусным. Отрезая кусок, он нажал слишком сильно, нож противно скрежетнул по тарелке, и в напряженной тишине, царящей за столом, этот звук показался особенно резким и неприятным. Саша даже сконфузился немного. Разумеется, в приличном обществе такое поведение недопустимо, но, впрочем, сейчас не до условностей.
Маменька посмотрела на него виновато и сказала:
– Мясо жесткое, да? Все продукты вздорожали чуть ли не вдвое. И не найдешь ничего…
Саша кивал с набитым ртом и чувствовал, как уши пылают от стыда. Бог с ним, с мясом, сойдет и такое, лишь бы маменька не смотрела таким печальным взглядом! Теперь война, и понятно, что с продуктами будет только хуже.
И тут он вспомнил, что сегодня получил жалованье в полковой канцелярии. Маленький, плешивый капитан интендантской службы, более похожий на чиновника, чем на офицера, долго что-то сверял в бумагах, считал какие-то «прогонные» и «суточные»… Саша ждал, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, потому что давно было пора ехать на полигон, зато в руках у него оказалась значительная сумма денег. Пожалуй, впервые в жизни – не считая, конечно, того дня, когда он нашел клад в Чуриловском овраге.
А вот теперь и деньги пригодятся! Саша торопливо полез в карман и вытащил ассигнации.
– Чуть не забыл! Вот, возьмите… На хозяйство.
Он протянул деньги матери. Она не взяла, и Саша небрежно бросил их на стол. Купюры легли веером, словно игральные карты. Ему казалось, что в этом жесте есть что-то красивое, по-настоящему мужское, но вышло нелепо и даже грубо. Тоже мне купец Иголкин нашелся… Уже в следующий миг Саша устыдился своего поступка, но было уже поздно.
– Что это такое? – спросила мать дрожащим голосом. – Что это?
– Армейское жалованье, – терпеливо объяснил Саша, – я ведь теперь прапорщик, офицер… Могу помочь семье. А там, на фронте, деньги мне все равно ни к чему!
Но маменька, казалось, не слышала его. Она смотрела на ассигнации непонимающим взглядом, словно впервые видела, и глаза у нее были совершенно растерянные, словно эти деньги были свидетельством того, что все это действительно происходит, и не сегодня завтра сын окажется на передовой, там, где убивают…
– Саша, Сашенька, ну почему же так… Зачем… – бессвязно повторяла она. Из широко открытых глаз текли по щекам слезы, но она не вытирала их, словно вовсе не замечая.
Отец встал, с грохотом отодвинув стул, и отложил крахмальную салфетку. Он подошел к маменьке и бережно обнял ее за плечи.
– Не надо, Соня. Время сейчас такое. Мы должны гордиться сыном! Не плачь, пожалуйста.
Он говорил размеренным тоном, пытаясь успокоить, но голос его предательски дрожал. И в эту минуту оба они казались такими беззащитными, слабыми, сразу постаревшими, что сердце сжала печаль. Даже на лицах младших сестер появилось новое, взрослое выражение – как всегда, одинаковое у обеих.
Саша отодвинул тарелку. Только что он был так голоден, что, кажется, съел бы целого быка и добавки попросил, а теперь есть расхотелось совершенно. Молча он поднялся к себе в антресоли, разделся и лег в постель.
«Я в первый раз задумался – почему долг перед моей страной приходит в такое противоречие с долгом перед самыми близкими, самыми любимыми людьми? В ту ночь я долго лежал без сна – и не находил ответа.
Тогда мне казалось, что я сделал правильный выбор… Так ли это на самом деле – я не знаю и по сей день».
Максим перевернул страницу. У него-то как раз выбора не было… В те годы гребли всех, и студентов тоже. Первый курс закончил – и вперед, хорошо еще, если сессию успел сдать, а то потом еще год терять придется. Как же, «защита Отечества есть священный долг каждого гражданина», это и в конституции записано… А в Уголовном кодексе, кстати, и статья есть – за уклонение от этого самого долга.
Некоторые его однокурсники умудрились-таки «откосить» – родители, кто побогаче, давали взятки в военкомате, кто-то пристраивал любимое чадушко в больницу, и хорошо задобренные медики находили у них такие болезни, какие не во всякой медицинской энциклопедии сыщешь.
– Здоровых людей нет, есть недообследованные! Если надо – что-нибудь все равно найдем, – бодро говорили люди в белых халатах и деньги свои отрабатывали честно – в те годы, по крайней мере.
Но откупаться было нечем, здоровьем Бог не обидел, а «косить под дурака» в психушке, как однокурсник Вовка, было как-то противно. К тому же – клеймо на всю жизнь, ни тебе на работу приличную устроиться, ни на права сдать. А потому, получив повестку, Максим покорно отправился в военкомат.
Дальше были проводы с обязательной пьянкой, и друзья, кого еще не забрали, хором горланили «не плачь, девчонка!», а мама смотрела грустно и укоризненно – мол, что за дикие обычаи? Неужели обязательно такой шалман устраивать? В конце концов она не выдержала и ушла спать к соседке. Максиму даже стыдно стало немного – все-таки человеку завтра на работу, а тут дым коромыслом!
Только бабушка не возмущалась. Сначала она весь день что-то жарила, парила, резала бесконечные салаты, а потом села на стул в уголке и так просидела весь вечер. Казалось, шумное веселье вовсе ее не раздражало, она хотела провести рядом с внуком последние часы…
«В последний вечер перед отправкой на фронт я решился, наконец, зайти к Конни – проститься. Встретила она меня неласково… Даже не пригласила войти, так и разговаривали в полутемной передней.
Я стоял перед ней в военной форме – в гимнастерке, перехваченной ремнем, в галифе, сапогах, а она, кутаясь в старый оренбургский платок, словно ей было холодно, долго смотрела на меня колючим, почти ненавидящим взглядом. Не такого приема ожидал я от нее, совсем не такого!»
– Значит, идете воевать? Почему? Пострелять захотелось?
Это непривычное «вы», этот холодный тон изрядно покоробили его. Как будто не было между ними ничего – ни задушевных дружеских бесед, ни пещеры, ни того, единственного поцелуя на берегу моря, за несколько минут до войны… Хотелось подойти, взять ее за плечи, встряхнуть, чтобы хоть немного привести в чувство, и крикнуть: «Это же я! Разве ты меня не узнаешь?»
А Конни уже почти кричала, выплескивая ему в лицо злые, жестокие слова:
– Хотите кровь пролить за веру, царя и отечество? В погонах покрасоваться? Как вы можете – вы, ученый? Ну хорошо, будущий ученый… Папа о вас хорошо отзывался, а я теперь вижу, что зря! Уходите! Видеть вас не желаю! – крикнула она и вдруг заплакала, вздрагивая худенькими, острыми плечами. – И кольцо заберите, заберите, немедленно…
Она потянулась снять с пальца кольцо, но оно никак не снималось. Конни тянула и дергала изо всех сил, но безуспешно. Кольцо сидело крепко, будто намертво приросло.
Саша хотел было повернуться и уйти, не сказав более ни слова. Что еще остается делать, если женщина не желает понять очевидных вещей? Даже если больно, невыносимо больно, все равно надо сохранить достоинство! Ведь он офицер, в конце концов…
В этот миг порыв ветра со звоном распахнул маленькое полукруглое оконце под самым потолком. Свет луны упал на лицо Конни. Александр совсем по-иному увидел ее – и острая жалость пронзила его сердце. Огромные, скорбные глаза, как у Богоматери на иконе, искусанные губы, мокрые дорожки от слез на щеках, судорожно стиснутые руки… И все это из-за него, из-за него! Теперь он видел уже не злость – любовь. Александр наклонился к ней, пригладил растрепавшиеся волосы и тихо сказал:
– Не могу, милая. Оно – твое теперь. Так уж вышло.
Он четко, по-военному повернулся на каблуках и почти выбежал за дверь. Сапоги простучали по лестнице… Прочь, прочь отсюда – и скорее!
«В тот вечер я расстался с ней поспешно и глупо. Долго еще мне слышалось, как там, в полутемной передней, плачет Конни – совсем одна. Сердце мое плакало вместе с ней и рвалось назад, но я точно знал – если задержусь хоть на мгновение, то вовсе не смогу уйти отсюда».
Максим чуть прикрыл усталые глаза. Пожалуй, впервые в жизни он задумался над тем, каково это – провожать любимых и знать, что, возможно, прощаешься навсегда? А потом ждать, надеяться, считать дни, не находя себе места от тревоги…
Верно говорит восточная пословица, что в разлуке две трети печали достается тому, кто остался, и лишь одну греть берет с собой уходящий.
Максим вспомнил, как на проводах смотрела на него бабушка – тоскливо и жадно, словно напоследок хотела наглядеться, как истово крестила его у порога, повторяя: «Спаси тебя Христос!» Будто чувствовала, что больше не увидит. А он, балбес, даже написать лишний раз времени не находил! Поток новых событий, людей, впечатлений подхватил его, словно щепку, и понес прочь от привычной жизни, от родных, от учебы…
И наверное, в конечном счете – от себя самого.
«Тот день, когда я простился со всеми, кого любил, навсегда останется в моей памяти. Молодость часто бывает невнимательна, и только теперь я понимаю, каких трудов стоило моим родителям сохранить хотя бы внешнее спокойствие, чтобы мое сердце не омрачилось перед расставанием».
Наутро Саша проснулся рано. В доме стояла тишина, словно все еще спали. Он подумал, что это даже к лучшему. Долгие проводы – лишние слезы…
Из дома он хотел было ускользнуть незаметно, но не тут-то было! Когда Саша вышел в гостиную, держа в руках свои сапоги, чтоб не стучали об пол, отец с маменькой сидели на диване, словно ожидали гостей. Сестры стояли чуть поодаль, держась за руки, как будто искали поддержки друг у друга. В столь ранний час все одеты, как днем, – папенька в наглухо застегнутом сюртуке, маменька в шелковом платье с большими буфами на плечах, и сестренки успели заплести тугие косы и надеть гимназические платья с белыми передниками.
Увидев его, отец встал, подошел к нему большими шагами… Саша почувствовал себя на редкость глупо, стоя перед ним с сапогами в руках, будто пойманный воришка или незадачливый любовник, удирающий из чужой спальни, но папенька, кажется, даже не заметил его смущения. Он обнял Сашу, на миг прижал к себе – и тут же отпустил, словно устыдившись своих чувств.
– Прощай, сын! Служи честно. Мы все – и я, и мама, и твои сестры, – мы гордимся тобой, Александр! И… – тут голос его дрогнул, – и возвращайся непременно!
Маменька перекрестила его, поцеловала в лоб сухими, горячими губами.
– Храни тебя Христос! Мы все будем за тебя молиться.
Саша поцеловал ее в щеку, потом наклонился – и припал к маленькой руке, пахнущей духами. Никогда раньше он не целовал рук у маменьки, как-то не заведено было в доме особых нежностей, а вот сейчас, перед разлукой, хотелось поцеловать ладони, что когда-то гладили его по голове.
Сестры повисли на нем с двух сторон. Саша обнял их обеих – Катю правой рукой, Олю – левой. Или наоборот? Да, в общем, не имеет значения.
– Прощайте! Я вернусь, вернусь непременно!
Уже в передней, надевая сапоги, он задумался. В обращении отца к нему появилось что-то новое, но Саша никак не мог понять, что же именно. Он думал об этом, сбегая по лестнице, думал, шагая по улице… И только когда впереди показались очертания Брестского вокзала, понял, наконец, в чем дело. Папенька впервые назвал его полным именем!
Саша расправил плечи. Теперь он и впрямь чувствовал себя уже не Сашей – Александром.
Эшелон грузился на запасных путях. Солдаты таскали ящики со снарядами, вносили зачехленные орудия, похожие на чучела древних чудовищ, винтовки, патроны… Александр распоряжался погрузкой. Он как раз прикидывал, войдет ли еще один ящик в узкий зазор между другими, когда кто-то тихо тронул его за плечо.
Александр обернулся. Перед ним стоял рядовой Никифор Чубаров – степенный, солидный мужик лет под сорок с широкой окладистой бородой. Сейчас он почему-то смотрел в пол и смущенно покашливал, словно не решаясь сказать.
– В чем дело?
– Ваше благородие… Там барышня какая-то пришла, вас спрашивает.
Не чуя под собой ног, Александр выскочил из вагона. Конни стояла на путях, беспомощно оглядываясь по сторонам, прикрывая глаза от солнца маленькой рукой в тонкой лайковой перчатке.
– Саша! – Она шагнула к нему и заговорила быстро, словно боялась, что поезд вот-вот тронется и она не успеет высказать все, что накопилось на сердце. – Прости меня, пожалуйста! Я всю ночь не спала, все думала… Уж бог с тобой, делай как знаешь. Только возвращайся, пожалуйста!
Он стоял перед ней, улыбаясь глупо и счастливо. Пришла, все-таки пришла! Как только отыскала его? Глупости, все это не имеет значения, главное – она здесь, рядом. Глаза ее, такие большие, лучистые, сияют любовью… После такого – и умирать не страшно!
– Прапорщик! Ну, где вы там?
Из вагона вышел штабс-капитан Бутвилович – кадровый офицер лет сорока, огромный, рыжий, с громовым голосом и толстым красным носом, наводящим на мысль о регулярных и обильных возлияниях. Он недовольно оглядел Конни с ног до головы и рявкнул:
– Почему посторонние здесь? Тут военный эшелон, а не бал в благородном собрании и не карусель на Святой неделе!
Потом помолчал недолго, теребя длинный рыжий ус, и, словно устыдившись своей грубости, неожиданно тихо спросил:
– Ваша невеста?
Ну что сказать этому солдафону? Что единственная и любимая – это больше, чем невеста, пусть даже он еще не успел сделать официального предложения и не принят на правах жениха в ее доме? Александр замялся на секунду, но Конни опередила его.
– Да, невеста! – смело ответила она, глядя в лицо бравого штабс-капитана. – Я пришла… проститься.
Бутвилович вздохнул, отвел глаза.
– М-да… Уж бог с вами, прапорщик! Все мы когда-то были молоды. Идите. Эшелон отходит в три часа. И не опаздывать! Честь имею, сударыня!
Он щелкнул каблуками и тут же ушел распоряжаться погрузкой. Через несколько секунд уже разносился по путям его зычный голос:
– Сидоренко, куда ящики с патронами ставишь, матери твоей черт!
Потом они шли по Страстному бульвару, и золотые осенние листья все сыпались и сыпались им под ноги, а небо сияло над головой глубокой чистой синевой, словно улыбаясь на прощание.
Увидев вывеску «Фотография Карл Иогансон и сыновья», Конни вдруг остановилась:
– Давай зайдем?
Саша пожал плечами. Идея сфотографироваться сейчас, в их последний день, когда каждый миг, что дано провести им вместе, был так дорог, показалась ему странной, но спорить он не стал:
– Хорошо… Если хочешь.
В темноватом и тесном помещении пахло пылью и еще чем-то старинным, таинственным, словно и не фотография помещается здесь, а диккенсовская лавка древностей. Хозяин – маленький, седой человечек в потрепанной жилетке, с пятнами от реактивов на руках – вышел к ним и вопросительно уставился выпуклыми глазами с красноватыми жилками, словно давно не видевшего света солнца филина.
– Что вам угодно, господа? – спросил он тихо.
В речи человечка явственно прочитывался немецкий акцент, «вам» звучало как «фам», и вид у него был какой-то испуганный, как будто он каждую минуту опасался, что его вот-вот придут арестовывать.
– Нам угодно сфотографироваться! – весело сказала Конни.
– Пожалуйста-пожалуйста… Проходите! – засуетился человечек. – Вот сюда.
На фоне бутафорского горного пейзажа, грубо намалеванного на куске плотного картона, Александр почувствовал себя неловко, словно вылез зачем-то на театральную сцену. А тут еще хозяин суетился вокруг, просил то приподнять подбородок, то повернуться в полупрофиль… Александр был рад, когда он угомонился наконец-то и спрятался под черной материей, укрывающей фотоаппарат на треноге.
Он робко положил руку на плечо Конни, и она не отстранилась, наоборот – теснее прижалась к нему, словно ища защиты и покровительства. Сквозь тонкую шершавую материю он чувствовал ее горячее тело, попробовал даже представить себе на миг, какая она без платья, но устыдился столь недостойных мыслей.
Вспышка магния ослепила их на секунду, будто высвечивая лица, чтобы сохранить надолго каждую черточку, остановить мгновение…
– Зайдите за карточками на следующей неделе. Или на дом прислать? – осведомился хозяин.
Конни чуть смутилась:
– Нет, не надо… Я сама приду.
Выйдя на улицу, она зажмурилась на мгновение – таким ярким показался осенний день после полутемной комнаты. Она чуть прикрыла рукой глаза, и Александр увидел, как синей искрой сверкнуло кольцо на безымянном пальце. Почему-то от этого ему стало легко и спокойно, словно, уходя, он оставил рядом с ней частицу своей души.
А солнце уже приближалось к зениту. Александр посмотрел на часы – да так и ахнул. Времени до отхода поезда оставалось совсем немного.
– Конни… Идем скорее. Иначе эшелон уйдет без меня.
Конни вздрогнула, будто очнувшись от сладкого забытья, и в глазах у нее появилась тревога.
– Да, да, конечно…
Они вернулись на вокзал за пять минут до отхода поезда. Увидев Александра, штабс-капитан Бутвилович недовольно поморщился и рявкнул громовым басом:
– Прапорщик! Где вас носит столько времени? Под трибунал захотели за дезертирство? Я многое могу понять, но есть же границы!
Александр едва слышал его. Пусть разнос, наказание… да хоть трибунал! Все это будет потом. А сейчас, пока Конни оставалась рядом, пока можно смотреть в ее глаза, держать в руках ее руки – какое это имеет значение!
Поезд тронулся. Александр ловко запрыгнул на подножку вагона. Конни шла рядом и все махала белым платочком, губы ее шевелились, словно она хотела сказать что-то на прощание. Из окна вагона она казалась такой маленькой, беззащитной, одинокой… Вскоре ее фигура скрылась из вида.
Александр нарочно отвернулся от окна и прикрыл глаза. В горле будто застрял горячий шершавый комок, стало трудно дышать… Еще мгновение – и он позорно разревется, как девчонка!
Поезд набирал ход. Вот уже и Москва осталась позади. За окном мелькали холмы, луга, перелески… Александр вышел из вагона и долго еще стоял на площадке, глядя, как мимо проплывают такие знакомые и памятные с детства картины простой среднерусской природы. Казалось, что березы, качающиеся на ветру, машут ему на прощание. «Вот за это я иду воевать!» – думал он про себя, и на душе становилось легче. Немного, но легче…
– Эй, фендрик! – Поручик Вишневский незаметно подошел к нему сзади. – Что вы здесь стоите один? Идемте водку пить!
– Да-да, конечно. Идемте.
«Фотографию я и сейчас держу в руках. Моя жена каким-то чудом сумела сохранить ее все эти страшные годы, и теперь, много лет спустя, я как будто снова переживаю тот день, когда мы с Конни простились на Брестском вокзале. Боже, благослови штабс-капитана Бутвиловича…
Эти несколько часов были дарованы нам – как чудо! Мы не говорили. Слов не было – связь между нами была так глубока, так чиста и нежна, хрупка и беззащитна, что мы оба будто опасались, что слова могут нарушить ее. Только рука в руке, только шаг в шаг, и кажется, даже дыхание – одно на двоих и сердца стучат в унисон…
И как натянутая струна звучит сильнее и звонче, так предощущение близкой разлуки многократно обострило наши чувства».
Максим почувствовал, что в горле у него совсем пересохло. Он щелкнул кнопкой электрочайника, достал любимую кружку с забавной рожицей и надписью «Я люблю тебя со всеми твоими недостатками!» (Верочка купила и приподнесла ему) и начал рыться в кухонном шкафчике в поисках заварки. Где-то тут должен быть чай с бергамотом… Ага, вот! Пусть в пакетиках, но все равно пахнет хорошо. Не возиться же сейчас с заваркой по всем правилам!
А тут еще и под ложечкой засосало… Верно говорят французы, что аппетит приходит во время еды. Максим достал из холодильника сыр, масло, нарезал хлеб и соорудил себе пару бутербродов. Хоть и говорят, что ночью есть вредно, но что делать, если хочется?
Услышав звяканье посуды, на кухню лениво вышел Малыш и уселся рядом со своей миской. Весь его вид говорил: непорядок, хозяин, что ты тут сидишь вместо того, чтоб спать, но раз полуночничаешь – может, и мне что-нибудь перепадет?
Максим вздохнул и отломил полбутерброда. Наташа всегда ругала его, если он баловал пса человеческой едой, но когда темно-медовые глаза смотрят с совершенно человеческим выражением, отказать невозможно.
– Так и быть, хвостатый, поделимся по-братски!
Малыш в одно мгновение проглотил предложенное угощение, благодарно вильнул хвостом и улегся у ног.
А Максим задумался. Сколько лет миновало с тех пор, когда он уходил в армию, но теперь воспоминания нахлынули с такой силой, что он будто воочию увидел прошлое…
Ясным прохладным утром он стоял во дворе военкомата в строю среди других новобранцев. Выглядели они довольно жалко и нелепо – невыспавшиеся, вялые, кто-то еще после проводов не протрезвел, другие – страдали от жестокого похмелья… Одеты как попало – в джинсах, в трениках, один вообще заявился в костюме и белой рубашке. Видно, что еще вчера кто-то был студентом, кто-то на заводе работал, а кто и вовсе балду гонял под крылышком у папы с мамой. Странно было, что все они, такие разные, теперь называются одним словом «солдаты» и объединены общей судьбой – пусть всего на два года, но общей.
– К автобусам шаго-ом марш! – зычно скомандовал военком, и они, волоча свои сумки, нестройно зашагали навстречу новой жизни.
Поначалу, пока ехали в поезде, было даже весело – знакомились, горланили песни под гитару, сообща поедали домашнюю снедь. Все это напоминало поездку в пионерский лагерь или на военные сборы после девятого класса.
Ехать пришлось долго. Максим неотрывно смотрел в окно, видел, как леса и поля постепенно сменяет выжженная степь… Раньше ему не доводилось уезжать так далеко от Москвы. В другое время это было бы очень интересно, но сейчас он остро ощущал чувство несвободы. Ни на перрон выйти, ни сойти, когда хочешь, ни назад вернуться. Не ты едешь – тебя везут, как скот.
Конечным пунктом их путешествия стал сборный пункт в Баладжарах, неподалеку от Баку. На вокзал приехали ночью, погрузились в автобусы и к утру уже были в части.
Все действо сильно напоминало невольничий рынок – приезжают «покупатели» – офицеры из разных частей, расквартированных в округе, рассматривают «живой товар», ходят, задают вопросы вроде «кем на гражданке был? Паять умеешь? Машину водишь? Спортом занимался?». Хорошо еще, зубы во рту не пересчитывали, как на конской ярмарке.
Высокий, плечистый капитан из десантных войск в лихо заломленном голубом берете устроил новобранцам настоящее испытание – заставил бежать кросс на время и подтягиваться на турнике. Тогда еще слово «десант» звучало гордо, попасть в элитную часть было лестно для каждого, и ребята старались изо всех сил.
Только Сурик Амбарцумян после первого же подхода к перекладине свалился как мешок с картошкой. Максим даже удивился – почему? Ведь сам же рассказывал, что до армии учился в спортшколе, имел разряд по спортивной гимнастике, в соревнованиях участвовал! Даже здесь, на сборном пункте, Сурик по нескольку часов тренировался, делал «подъем переворотом» и крутил «солнце», к зависти и восторгу своих товарищей. По утрам, когда умывались, видно было, как литые мышцы перекатываются под гладкой смуглой кожей.
А сейчас он выглядел таким беспомощным и слабосильным, с сутулыми плечами, неловкими, замедленными движениями, что просто смотреть жалко.
– А ты чего? Каши мало ел?
В голосе капитана явственно звучало презрение к его слабости, но Сурика это, казалось, ничуть не задевало.
– Нет, не могу! Высоты боюсь с детства, – сказал он, виновато улыбаясь. Простите, мол, вот такой я…
– Ладно уж, иди отсюда, нам такие не нужны!
Капитан безнадежно махнул рукой и отошел. А у Сурика вид почему-то был ничуть не расстроенный, напротив – вполне довольный.
– Ты что, заболел? – спросил у него Максим.
Сурик недовольно нахмурился, посмотрел на него как на недоумка и снисходительно ответил:
– Я что, дурак, что ли? В десантуру заберут – там вздохнуть не дадут, загоняют до смерти. И в Афган их отправляют регулярно. Не знаю, как ты, а я еще жить хочу!
В следующий раз, когда приехал толстый, лоснящийся, как отъевшийся кот, прапорщик из службы обеспечения ракетной части, Сурик вышел вперед из строя и поведал, что проучился два курса в кулинарном техникуме и почти год проработал в кафе, умеет готовить все блюда русской и армянской кухни. Прапор одобрительно покивал, и Сурик пошел собирать вещи. Так и прослужил два года поваром…
А Максим – остался. Невелик же оказался спрос в армии на студентов-историков! На сборном пункте он провел почти два месяца, изнывая от жары и скуки. Хотелось, чтобы это бесцельное сидение кончилось поскорее. Максим даже обрадовался, когда на раздолбанном запыленном «Урале», который будто только что свернул с фронтовой дороги, приехал мрачный сержант-сверхсрочник и забрал их, оставшихся.
Оказалось, что радовался он совершенно зря. Мотострелковая часть в горной Шемахе, где он в конце концов оказался, была местом отнюдь не райским.
Сначала всех постригли наголо. Максим так и не понял – зачем. Разве что со вшивостью боролись… Скорее всего, настоящая цель была совсем иная – обезличить, сделать всех одинаковыми. Он знал, конечно, что так и будет, но, когда зажужжала машинка и он увидел, как волосы падают на пол, стало как-то не по себе. Было в этом что-то от монашеского пострижения, словно вместе с волосами терял он нечто важное… Свободу, наверное, право жить «как себе любо» и распоряжаться своей жизнью.
Часть оказалась укомплектована в основном выходцами из национальных республик. Только здесь Максим впервые убедился воочию, что «союз нерушимый республик свободных» представляет собой отнюдь не монолитную силу, а клубок неразрешимых противоречий.
Тихие, молчаливо-упорные, немного угрюмые латыши и литовцы сторонились остальных, узбеки часами лопотали на своем непонятном языке, усевшись в кружок, а уж если заведется в роте хоть один чечен или дагестанец – все, пиши пропало. Даже офицеры не всегда отваживались связываться с ними.
Максим чувствовал себя так, словно попал в иной мир, живущий по своим, непонятным законам. В день присяги оказалось, что внятно произнести не бог весть какой мудреный текст в своей роте способен он один. Остальные либо плохо понимали по-русски, либо вообще читали по складам, что было особенно дико и странно. Максим привык думать, что неграмотность в СССР победили сразу после Гражданской войны, а вот поди ж ты…
Он стоял перед строем, держа в руках красную папку с вытесненным золотом гербом, и читал с выражением – совсем как в четвертом классе, когда их принимали в пионеры:
– Я, Максим Сабуров, вступая в ряды Вооруженных сил Союза Советских Социалистических Республик, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь…
Дальше шло что-то вроде «быть честным, верным, мужественным и защищать советскую Родину до последнего вздоха». Словом, стать идеалом человека, который в природе, как известно, практически не встречается.
– Мужественно выносить все тяготы и лишения воинской службы…
Именно на эту фразу будут потом особенно напирать отцы-командиры, когда в горном учебном центре зимой, в морозы вдруг выдадут летнее обмундирование (а зимнее, добротное, оставят для парада), сухой паек будут выдавать через два дня на третий или питьевую воду привезут такую, что смотреть страшно на эту мутно-желтую гадость, а не то что пить. Но пили, а куда денешься? Помнится, тогда еще многие желтухой заболели… Зато на все жалобы будет один ответ – помнишь, мол, про тяготы и лишения? Вот и неси, раз присягу принимал!
– И если я нарушу эту священную клятву, пусть меня постигнет суровая кара…
В этом месте Максим почувствовал, как его разбирает совершенно неприличный смех. Хотелось добавить из сказки Андерсена: «И ты превратишься в морскую пену». Ему стоило немалого труда справиться с собой, чтобы не испортить торжественность момента.
И это еще цветочки! Для соседней роты, где мало-мальски грамотных солдат не нашлось вовсе, текст присяги пустили в записи на пластинке, а будущие «защитники Отечества» даже повторить толком не могли, только мычали в нужных местах вразнобой.
А дальше – потянулись армейские будни.
Жизнь в казарме оказалась чем-то вроде Существования в коммунальной квартире, многократно усиленным теснотой и общей нелепостью армейского бытия. Вечно кто-нибудь искал место, куда повесить только что выстиранные портянки, кто-то начищал медную бляху на ремне темно-зеленой, противно пахнущей пастой ГОИ (таджик Юрмаматов однажды перепутал ее с насом[6]6
Нас – легкое наркотическое вещество растительного происхождения, употребляемое жителями Средней Азии.
[Закрыть], и крику было на всю казарму), а кто-то писал письмо домой, примостившись на уголке тумбочки, пытаясь хоть ненадолго сосредоточиться…
А если еще прибавить бесконечные наряды, занятия строевой подготовкой, ночные тревоги – то получается совсем кисло. Оставалось только чувство бесконечной усталости, раздражения да желание дотянуть свой срок любой ценой, не сорваться, как Янис Ручис – тихий, неразговорчивый, словно в глубь себя устремленный латыш, который вдруг ударился в бега за полгода до дембеля и получил два года дисбата, или Лешка Сурков, ставший инвалидом после того, как старослужащие, «деды», как их называют в армии, заподозрили парня в краже денег из тумбочки. Дело тогда замяли, но Максим навсегда запомнил, как уносили его в санчасть, полуживого, как моталась голова на тонкой мальчишеской шее и кровь стекала струйкой от угла рта…
Случалось иногда и похуже. Не проходило ни разу учений, чтобы кто-нибудь не погиб или не покалечился серьезно. Командование относилось к этому философски – что поделаешь, норма потерь! Главное, чтобы не превышали они кем-то установленную цифру в два процента.
Однажды произошел и вовсе вопиющий случай – минометчики попали по своим, так полвзвода в клочья разнесло. Солдата-вычислителя, допустившего ошибку, отдали под трибунал, но ведь погибшим от этого не легче…
Среди офицеров, особенно молодых, попадались, конечно, честные и грамотные люди, но через несколько лет службы эти качества почти всегда сходили на нет. Скука, повальное пьянство и та ужасная, почти немотивированная жестокость, которая неизбежно просыпается в человеке, получившем волею судеб почти неограниченную власть над себе подобными, быстро снимают тонкий слой цивилизации и культуры, моральных принципов, доброты и благородства, обнаруживая под ними сущность, достойную павиана.
К примеру, капитан Сырокомля – огромный верзила, с низким сужающимся кверху лбом неандертальца, славился тем, что не раздумывая пускал в ход кулаки. Его даже нарочно переводили из роты в роту «для поддержания порядка и дисциплины». У него всегда можно было получить по морде просто так, без всякого повода… За рукоприкладство «с тяжелыми последствиями» (одному солдату сломал нос, другому – разбил барабанную перепонку) его разжаловали из майоров в капитаны, но привычек своих Сырокомля все равно не бросил. Как горько шутили в полку, «до лейтехи дослужится – совсем озвереет!».







