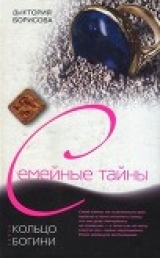
Текст книги "Кольцо богини"
Автор книги: Виктория Борисова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 17 страниц)
Кривцов приосанился и заговорил громко, с пафосом, как на митинге:
– Именем Советской республики! Вот постановление совнаркома – производится конфискация всех церковных ценностей в пользу голодающих Поволжья. Предупреждаю – лучше сдайте добровольно. В противном случае имею полномочия упразднить ваше культовое учреждение.
Он сплюнул себе под ноги и добавил совсем другим тоном:
– Да и тебя, долгогривого, в расход отправим! У нас разговор короткий – раз, два и в Могилев!
Отец настоятель повертел в руках бумагу с печатью, потом строго посмотрел на него сквозь очки в стальной оправе и сказал:
– Не нужно. Завтра, в светлый праздник Пасхи, я сам отслужу в последний раз, и оклады эти сам оплачу и отдам. Злато и серебро не стоят жизни человеческой… Но вы должны мне дать слово, что святыни наши послужат благому делу.
Глаза его смотрели строго и грустно, и под этим взглядом Александр готов был под землю провалиться от стыда. Но Кривцов не унимался:
– Э нет! Знаем мы вас… Припрячете все, что поценнее, ищи потом. Давай, показывай!
– Ну что ж… – вздохнул настоятель. – Пожалуйте в храм.
В церкви пахло ладаном и свечным воском. Древние, почерневшие лики в тяжелых серебряных окладах, казалось, укоризненно взирали на непрошеных гостей, так что даже парни из отряда явно чувствовали себя неловко, а у кого-то и рука тянулась привычным жестом совершить крестное знамение.
Только Кривцов все ходил, топая сапогами, дотошно совал нос повсюду, что-то записывал в маленькой книжечке… Когда Александр заметил, как он, по-воровски оглянувшись по сторонам, рассовал по карманам несколько маленьких лампадок чудесной старинной работы, его передернуло от стыда.
«Что я делаю здесь? – тоскливо думал он. – Кому помогаю?» В прежние времена даже воры церквей почти не грабили, тех, кто все же шел на такое, презирали в тюрьме – отец рассказывал, что и убить могли! – а теперь люди, называющие себя слугами народа, по-хозяйски распоряжаются тем, что не ими нажито.
Ночевали в доме деревенского «активиста» – тщедушного, с редкой бороденкой и бегающими глазами. Откуда-то появилась на столе вареная картошка, сало, огурцы, а главное – большая четвертная бутыль мутноватого деревенского самогона. Кривцов быстро опьянел, сначала все порывался бежать куда-то и угрожал маузером невидимому врагу, так, что даже страшно было – вдруг да пальнет по дури?
Потом он успокоился немного и начал рассказывать про свои боевые подвиги. Получалось, что без него, Харитона Кривцова, потомственного пролетария, мировая революция никогда бы не состоялась… В конце концов он пришел в состояние почти благодушное, расстегнул гимнастерку, так что видна стала несвежая нижняя рубаха, и сказал:
– Ну все, ребята! Завтра забираем это барахло – и в Москву!
Потом подумал немного, почесывая впалую грудь, и добавил:
– Только гадючник этот, рассадник культа, запалить бы надобно… В назидание. Будет им пасхальная заутреня!
Александр почувствовал, как кусок сала стал поперек горла.
– А как же монахи?
– Религия – опиум для народа! – наставительно выговорил Кривцов, подняв соленый огурец на вилке. Он с хрустом откусил изрядный кусок и пьяно засмеялся. – Хватит, попили нашей кровушки, угнетатели трудового класса. Завтра же – всех в расход!
Картошка в большом закопченном чугунке исходила паром, и сало с тонкими розоватыми прожилками, «со слезой» казалось чудесным видением после голодной Москвы… Но Александр почему-то и смотреть не мог на это. В другое время – наелся бы от души, чтоб за ушами трещало, а сейчас просто кусок в горло не лез.
Вокруг пили, ели, горланили песни, только он сидел, подперев рукой голову, и напряженно думал. Была еще слабая надежда, что угроза Кривцова – всего лишь пьяная болтовня и завтра он уже не вспомнит об этом, но что-то подсказывало ему, что это не так. В глазах комиссара появился особый, холодный блеск – тот же, что виделся в них, когда он рассказывал о расстрелах в Крыму.
А значит, монастырь обречен… Александра даже передернуло от мысли об этом. Ему уже случалось отнимать жизнь у человека, не сделавшего ему ничего дурного, наводить оружие – и стрелять по приказу. Длинного австрияка, умершего в ожидании санитарного поезда, ему не забыть никогда, и в первое время особенно тревожила мысль – а что, если это именно он его убил?
И все-таки… Одно дело – война, а другое – расправа над старыми, беспомощными людьми, за всю жизнь никому не сделавшими зла. И пусть стрелять будут другие, но все равно и сам он станет невольным соучастником. Александр чувствовал, что после такого он не сможет спокойно жить.
Надо было что-то сделать – и немедленно. Остается только вопрос – что именно? Бежать? Глупо, а главное – бессмысленно. Помешать? Но как? Неужели взывать к совести этого троглодита, находящего болезненное удовольствие в том, чтобы глумиться над теми, кто слабее, показывать свою власть – и упиваться ею?
Александр крепко сжал зубы. Бессильная злость душила его, перехватывала горло. Он смотрел в лицо комиссара, видел каждую черточку, каждый волосок, каждую пору на лице. Как он ненавидел сейчас этого человека! Если бы ненависть могла убивать, то сейчас она испепелила бы Кривцова на месте.
Но этого, конечно, не произошло. Кривцов так же сидел за столом, смотрел вокруг осоловелыми глазами и громко отрыгивал. Наконец он поднялся и, шатаясь из стороны в сторону, вышел во двор.
Александр направился за ним. Зачем – он и сам бы не смог ответить.
Каждый шаг давался бравому комиссару с большим трудом. Спускаясь с высокого крыльца, он чуть не упал, но удержался, вовремя ухватившись за перила. Покачиваясь, он отошел за угол дома, и скоро оттуда донеслись характерные отвратительные «булькающие» звуки. Александр скривился от отвращения, но почему-то не ушел в дом, а последовал за ним.
Кривцов сидел на корточках, склонившись над большой лужей талой воды. Его неудержимо рвало. Не впрок же пошли деревенские разносолы… – рассеянно подумал Александр.
Когда он подошел совсем близко, комиссар уже поднялся на ноги. Услышав его шаги, он постарался принять «начальственную» позу, выпрямившись во весь свой невеликий рост, и сурово насупил брови.
– А, это ты… Чего выпялился? Чего надо? – вымолвил он заплетающимся языком. – Пшел отсюда!
А ведь это – последняя возможность поговорить с ним наедине, без свидетелей! – промелькнуло в мозгу у Александра. Конечно, шансов мало, но попытаться стоит… Наконец, он собрался с духом и выпалил:
– Товарищ Кривцов! Я должен вам сказать… Одним словом – не трогайте монахов! В противном случае я вынужден буду написать докладную о вашем самоуправстве…
Потом он подумал немного и добавил:
– И о тех ценностях, что вы присвоили, – тоже.
И Кривцов понял его! В маленьких свиных глазках впервые появилось некое подобие осмысленного выражения. Он зачем-то ощупал нагрудный карман, куда утром небрежно сунул церковные лампадки, словно хотел удостовериться, что они все еще там, потом вытащил маузер из кобуры и пошел прямо на него.
– Ах ты, интеллигент вшивый! Писать он будет, сильно грамотный… Да я тебя шлепну прямо здесь, за измену делу революции – и все! Забыл, кто ты такой есть, буржуй недобитый?
В свете луны Александр видел направленное на него черное смертоносное дуло, но страха почему-то не испытывал – слишком уж смешно и нелепо выглядел этот уродливый карлик в галифе и гимнастерке, обильно заляпанной собственной блевотиной. Вот поди ж ты – на ногах стоит нетвердо и оружие дрожит в руке, а какой грозный!
– По законам революционного времени… – Кривцов просто задыхался от возмущения, – девять грамм ты себе уже обеспечил! И женке своей тоже. Ее-то мы используем сначала… Тоже – реквизиция!
Вот этого ему говорить точно не следовало. Александр почувствовал, как глаза заволокло багровой пеленой, будто ярость, которую он так старательно прятал, таил в себе, вырвалась наружу. Он ударил по стволу – и маузер отлетел в сторону, потом схватил комиссара за плечи, поднял в воздух, как ребенка, бросил на землю…
Дальнейшее он помнил смутно. Кривцов еще пытался подняться, но ноги не слушались, все время разъезжались в разные стороны. А сам Александр будто обезумел. Схватив противника за голову, он раз за разом опускал его лицо в вонючую лужу под ногами. Сначала комиссар еще бился, потом затих…
Когда к Александру вернулась способность осознавать себя, он с ужасом увидел безжизненное тело, распростертое на земле. Лицо его все еще утопало в грязной воде, и он порадовался, что не видит глаз покойника. Это было бы уже слишком… Руки тряслись, сердце бешено колотилось, но вместе с тем в душе появилось чувство странного, жестокого удовлетворения, словно он только что раздавил опасную ядовитую тварь вроде большого паука или гадюки. Холодный рассудок твердил, что теперь, раз уж так вышло, надо сделать все, чтобы смерть комиссара выглядела как можно более естественной. Он подобрал маузер, валяющийся поодаль, и аккуратно вложил в кобуру.
Когда Александр вернулся к столу, его отсутствия никто даже не заметил. Он и сам удивился, когда, посмотрев на старинные, отцовские еще, серебряные часы-луковицу, обнаружил, что прошло не более пяти минут. Он еле дошел до лавки, застеленной каким-то тряпьем, без сил упал на нее и тут же провалился в сон.
За окнами еще только рассвело, когда Александр почувствовал, как кто-то трясет его за плечи.
– Александр Васильич, вставайте! Беда…
Он открыл глаза, увидел склонившееся над ним лицо Васьки Смыслова – того самого, который вчера в церкви только усилием воли удержался, чтобы не перекреститься на иконостас. Видать, не совсем пропащая душа… Сейчас он выглядел совершенно растерянным, как ребенок. Над губой повисли крохотные капельки пота, и в бледно-голубых глазах под белесыми бровями плескался страх.
– Что случилось? – спросил Александр вялыми, непослушными губами.
В голове будто колокол гудел. События вчерашней ночи казались чем-то далеким, призрачным, почти нереальным… Да и было ли это на самом деле?
– Комиссар… Пойдите, сами посмотрите.
Ага, значит, все-таки было. Ну, теперь – только держаться, не выдать себя! Александр встал, взъерошил волосы пятерней и сказал, стараясь, чтобы голос его прозвучал спокойно:
– Ну, пойдем! Показывай, что там стряслось.
Кривцов лежал лицом в луже посреди двора. Сейчас, при свете дня он выглядел таким маленьким, слабым, беззащитным… Его ноги в хромовых сапогах почти детского размера раскиданы в стороны, руки со скрюченными пальцами вцепились в землю. Видно, что в последний миг своей жизни он пытался встать – и не смог.
Глядя на дело своих рук, Александр почувствовал, как тошнота подступает к горлу. Но – ничего не поделаешь, этот спектакль придется играть до конца.
– Ну, и как это произошло? – строго спросил он.
– Да как… Обнакновенно, – пробасил рослый парень, имени которого Александр так и не запомнил, – выпимши был сильно, вышел по нужному делу, да, видать, и сковырнулся. Блевотина кругом опять же… Много ли ему надо было? Соплей перешибешь.
– Что будет-то, а? Что будет? За пьянку из чеки погонят… – выдохнул Васька.
Александр обвел взглядом лица своих спутников. Все они выглядели бледными, помятыми после вчерашней ночи, но главное – потерянными, как овцы, оставшиеся без пастуха.
– Значит, так, – твердо сказал он, – старший над вами теперь я. Комиссар умер скоропостижно, ночью… Сердце отказало. Геройское сердце. Поняли?
Парни послушно закивали. На лицах их отразилось видимое облегчение. Видно было, что покойного Кривцова никто особенно не жалел, все озабочены в первую очередь собственной судьбой.
– Похороним его прямо здесь. Деревенским скажите, пусть могилу выкопают, гроб там, все как положено. Смыслов! Гривенко! Под вашу ответственность. Поняли? Выполняйте. А мы, – Александр обернулся к остальным, – идем сейчас в монастырь. Изымаем, что положено, и уезжаем отсюда! Сегодня же.
По дороге он думал, как легко оказалось узурпировать власть в их маленьком отряде. Все-таки мастерство не пропьешь, как говаривал старый сапожник Савельич, который когда-то латал его сапоги и шил сестрам первые бальные туфельки. Сколько лет прошло с тех пор, как он командовал солдатами на фронте, а теперь эти парни, которые в любой момент могут застрелить его без суда и следствия, покорно кивают и только что честь не отдают. Сделают все в лучшем виде, можно не сомневаться! Им главное – чтобы приказ был.
В церкви шла пасхальная заутреня. Там толпились женщины в платках, лохматые мужики, старухи, дети… На лицах этих людей было общее, удивительно радостное выражение, словно на краткий миг все они вырвались из своей скудной и тяжелой жизни, чтобы хоть краешком прикоснуться к чему-то светлому, вечному… Александр и его спутники не посмели войти внутрь, остановились в дверях.
– Где твое, смерте, жало, где твоя, аде, победа? Воскресе Христос, и ты низвергся еси. Воскресе Христос, и падоша демоны. Воскресе Христос, и радуются ангелы. Воскресе Христос, и жизнь жительствует. Воскресе Христос, и мертвый ни един во гробе; Христос бо восста из мертвых, начаток усопших бысть. Тому слава и держава во веки веков, аминь, – неслось с алтаря.
Александр слушал эти слова, памятные с тех пор, когда ходил в церковь еще гимназистом, и чувствовал себя таким одиноким, несчастным, потерянным… Почему так получается, что ради благого дела приходится иногда совершить настоящее злодейство? Где та мера добра и зла, что способен осознать человек? Где грань, за которой они меняются местами?
Он думал – и не находил ответа.
Служба кончилась. Отец настоятель вышел на крыльцо и устало сказал:
– Вот и все, господа чекисты. Делайте свое дело.
Александр с болью в сердце видел, как оклады икон и серебряные чаши упаковывали в рогожные мешки и сваливали на телегу, как у монаха, что вызвался зачем-то помогать им, слезы стекали но щекам и висели, как капель, в седоватой, спутанной бороде… Храм сразу показался каким-то пустым и словно бы осиротевшим. Какая-то старушка в черном платке торопливо перекрестилась и плюнула вслед:
– Ишь, антихристы! Пропасти на вас нет…
Настоятель остановил ее:
– Молчи, раба Божья. Сказано в Писании – не осуждай ближнего своего… Христос терпел и нам велел.
Когда со сборами было покончено, Александр повернулся к нему:
– Прощайте. Не поминайте лихом… Если можете, конечно.
Отец настоятель помолчал недолго, глядя ему в глаза, словно читая в них некие знаки, ведомые только ему, и сказал:
– Прощайте. Мы будем молиться за вашу душу, чтобы Господь просветил и наставил вас.
– Молитесь лучше, чтоб Он простил меня, – тихо ответил Александр.
«Так случилось, что я, давши самому себе клятву никогда не поднимать оружия против ближнего, стал виновником убийства. Хоть Кривцов был отвратительным человеком, но смерть его и по сей день тяжким грузом лежит на моей совести. Я ушел от земного суда, за это мне, вероятно, придется держать ответ перед иным, высшим Судьей… Некоторым оправданием мне может послужить только то, что поступком своим я предотвратил другое, гораздо более тяжкое злодеяние.
Вернувшись в Москву, я сдал конфискованные ценности под расписку – и тут же подал заявление об увольнении».
Максим опять потянулся за сигаретой. А ведь все-таки молодец Саша Сабуров, ей-богу, молодец! Сколько тогда расстреливали священников и монахов – никто не считал, и оставшаяся еще старая интеллигенция молчала по своим норам, боясь хоть слово сказать против, а вот он – не побоялся. И не только сказать…
Может быть, и правда в смутные времена, когда закон перестает действовать или превращается в кистень для неугодных власти, остается только полагаться на свою совесть – и действовать, как она подсказывает тебе? Или это – еще одна ловушка Короля Террора? Ведь в любом конфликте каждый считает себя правым, и даже большевики искренне полагали, что не людей убивают, а наводят порядок в стране, руководствуясь революционным правосознанием!
Где та грань между добром и злом, за которой они меняются местами? Кто знает… Александр Сабуров решил этот вопрос по-своему, и только Бог может быть судьей для него.
«Время шло, и жизнь в стране понемногу налаживалась. После того как очередной директивой была провозглашена новая экономическая политика, открывшая свободу частному предпринимательству, словно по волшебству повсюду стали появляться новые магазины, кафе, рестораны… Полки заполнились невесть откуда взявшимися продуктами, о которых мы успели забыть за долгие голодные годы.
Следующая страница моей трудовой биографии оказалась воистину загадочна – я был назначен „заведующим секцией эстетического воспитания мофективных детей“. Слово это ныне совершенно вышло из обихода, но в первые годы революции появилось много таинственных терминов… Так, „мофективный“ – означало „морально дефективный“, под это слово подходили и малолетние преступники, и просто беспризорные дети, выброшенные на улицу голодом и войной.
Мы долго разрабатывали проект „опытно-показательной колонии“, где малолетних правонарушителей можно будет воспитывать в духе творческого труда и всестороннего развития, обсуждали, как действуют на нервных детей яркие краски, влияет ли на коллективное сознание многоголосая декламация и что может, дать ритмическая гимнастика в борьбе с детской проституцией…
Несоответствие между нашими дискуссиями и реальной жизнью было вопиющим. Я занимался обследованиями исправительных заведений, приютов, ночлежек, где ютились беспризорные. Мне пришлось составлять доклады, где речь шла не о ритмической гимнастике, а о хлебе и ситце. Я ходил, требовал, писал бумаги, но большая часть моих усилий оставалась втуне, погрязая в пучине бесконечных заседаний.
Казалось чудовищно несправедливым, что где-то сверкают огни, сияют витрины, звучит музыка, люди в дорогих костюмах с нарядными дамами пьют вино и небрежно бросают пачки червонцев, а совсем рядом по улицам бродят грязные, голодные, никому не нужные дети. Они попрошайничают, воруют, дерутся жестоко, по-взрослому, калеча и убивая друг друга. Мальчики идут в банды, становясь подручными взрослых преступников, а девочки превращаются в предмет гнусной торговли…
Скоро я вовсе перестал видеть какой-либо смысл в своей работе. Одна-две показательные колонии существовали в виде „потемкинских деревень“, а остальные представляли собой учреждения с тюремным режимом, откуда воспитуемые сбегали при первой же возможности – и вновь возвращались на улицу».
Время давно перевалило за полночь, но Александр никак не мог уснуть. Сначала казалось, что мешает звяканье посуды на кухне и голоса соседок, помешивающих что-то на своих примусах – квартира ведь давно стала коммунальной, и пришлось жить бок о бок с совершенно чужими людьми! – но сейчас дом, гудящий день-деньской, словно потревоженный улей, давно угомонился, а он все лежал, уставившись в потолок, и думал.
Александр осторожно перевернулся на бок, стараясь не разбудить Конни. Ей ведь тоже завтра на службу… Яша Горенштейн по старой памяти устроил ее машинисткой в Комдрев, и теперь жена по праву получает свои пять с половиной червонцев ежемесячно. Поначалу он, конечно, был против, но с другой стороны – не сидеть же ей в четырех стенах целый день? Тем более что и дом, когда-то родной, теперь не принадлежит ей больше, и «хозяйкой» соседки на кухне называют ее из чистого ехидства.
Сегодня от «мофективной секции» направили трех человек в Замоскворечье – осматривать новый, недавно открытый детский дом. Проект разрабатывали долго, много спорили, обсуждали… Седые чудаки и молодые энтузиасты никак не могли прийти к единому мнению о том, что лучше – фребелевская система или старые, добрые методы Песталоцци?
Результат же их усилий производил впечатление скорее тягостное. Сначала состоялся концерт самодеятельности воспитанников. Александр с трудом выдержал это почти полуторачасовое действо – слишком уж заметно было, что детей долго дрессировали, натаскивая, как собак. Они пели хором «Взвейтесь кострами, синие ночи», маршировали по сцене, по команде строили «пирамиду», какой-то мальчик с оттопыренными ушами читал стихи… В память Александру намертво врезалась дурацкая строчка: «В небе птицы пролетали, пели: Сима – пролетарий!».
Потом директор Алексей Михайлович – толстый низенький человечек с острой бородкой клинышком – долго водил дорогих гостей, показывая то спальни с одинаковыми железными кроватями, застеленными подозрительно новым, свежим бельем, то столовую, то классные комнаты. Все это, несомненно, должно было стать прекрасной иллюстрацией к картине счастливого детства будущих граждан Страны Советов, но впечатление несколько портили слишком бледные, даже зеленоватые лица детей и настороженные, совсем взрослые глаза. На вопрос «Как вам живется?» они неизменно отвечали: «Хорошо!», а некоторые даже рассказывали про множество интересных дел, которыми они здесь занимаются, про походы, костры, сбор лекарственных растений и летние выезды за город, но в этих ответах было что-то от хорошо выученного урока.
Только один мальчик – коренастый, с широким лбом и упрямым выражением лица – стоял в стороне. Когда Александр подошел к нему, он отвернулся и пробурчат под нос: «А я все равно убегу!»
Уезжали ближе к вечеру. Товарищей Александра по «мофективной» секции это «хождение в народ» весьма утомило, и видно было, что им хочется поскорее вернуться в свои кабинеты и погрузиться с головой в привычную работу, состоящую из бесконечных заседаний и переписывания бумаг.
Они уже стоял у калитки, когда маленькая, коротко остриженная девочка подбежала к нему и сунула в руки букетик ромашек.
– Дядя, ты хороший! Приезжай к нам еще.
Она тут же застеснялась и убежала, Александр не успел даже сказать спасибо, но в душе осталось впечатление маленького чуда. За воротами их ждала казенная машина, и по дороге он думал: «Может, все-таки я не зря живу и работаю, если хоть кого-то из беспризорных детей можно спасти? Конечно, детский дом – далеко не рай, но все-таки ведь и не улица…»
Остаток рабочего дня он бестолково перекладывал бумаги. Когда стрелки часов подобрались к заветной цифре «шесть», к нему подошел сослуживец Костя Звягинцев – шумный, веселый молодой человек в модном коверкотовом пиджаке и ярком галстуке. Каким образом он оказался на этой службе – уму непостижимо… Костя был человеком редкой, дремучей необразованности и столь же редкого апломба.
– Ну что? По домам?
Александр кивнул.
– Я тут подумал… Может, зайдем поужинаем в один ресторанчик? Разговор есть, – таинственно добавил он.
Это предложение, этот панибратский тон покоробили его, да и сам Звягинцев был не самым приятным человеком в мире, но Александр почему-то не стал отказываться сразу. Идти в ресторан, выбрасывая на ветер свое невеликое жалованье, ему совсем не хотелось, но, с другой стороны… Конни предупредила, что сегодня придет поздно – накопилось много сверхурочной работы, а сидеть одному в пустой комнате было еще хуже. В конце концов, можно и развеяться иногда…
– Ну хорошо, пойдемте!
«Один ресторанчик» оказался недавно открытым коммерческим заведением. Александра ошеломило все – сверкающий паркет, хрустальные люстры под потолком, переливающиеся разноцветными огоньками, гром оркестра, исполняющего модную мелодию фокстрота, танцующие пары, официанты, снующие туда-сюда с тарелками и подносами, запахи с кухни… Он чувствовал себя совершенно лишним, неуместным здесь, среди этой позабытой роскоши и нарядной публики.
А Костя Звягинцев вел себя уверенно, по-хозяйски. Седой величественный метрдотель, гордым профилем напоминающий римского сенатора, встретил его почтительным поклоном:
– Добрый вечер, Константин Андреевич! Проходите, пожалуйста. Вам как обычно?
Их усадили за столиком у окна, и на крахмальной скатерти быстро, словно по волшебству, появился запотевший графинчик с водкой, маринованные грибочки в хрустальном салатнике, а главное – настоящий ростбиф с кровью, испускающий дивный аромат! Александр смотрел на все это великолепие с некоторой опаской, прикидывая, хватит ли денег. Он потянулся было за портмоне, но Костя остановил его:
– Обижаете, Александр Васильевич! Я пригласил – я и угощаю.
– Но ведь дорого, наверное…
Костя беззаботно отмахнулся:
– Это что… Деньги – мусор! Главное – умение жить. Я вас с таким человеком познакомлю… Да вот и он сам.
И действительно – к их столику уверенной походкой шел высокий плотный мужчина в клетчатом костюме. Костя привстал ему навстречу, и сразу стало понятно, что этот клетчатый – здесь главный.
– Вот, познакомьтесь – Сергей Иваныч Сыромятников, настоящий гений коммерции. А это – Александр Васильевич, наш завсекцией.
Лицо Сергея Иваныча было тяжелое, будто рубленое, с бульдожьим подбородком и маленькими, прищуренными глазами. Легкомысленный клетчатый костюм выглядел нелепо на его могучей фигуре, а золотой перстень с бриллиантом, посверкивающий на мизинце, казался и вовсе неуместным.
– Ну что ж, давайте выпьем за знакомство! – Костя суетливо потирал руки.
Сергей Иваныч молча поднял рюмку, одним махом опрокинул ее и так же молча принялся за еду. Выпил и Александр… От водки в голове сразу зашумело, и все окружающее поплыло перед глазами. Он ел нежное мясо, наслаждаясь каждым кусочком, подцеплял вилкой скользкие грибы… Все было просто божественно! Он жалел только о том, что Конни нет рядом. Даже мрачный Сергей Иваныч стал казаться ему вполне милым и симпатичным человеком. Его голос гудел, как осенняя муха, но и это казалось мирным, успокаивающим.
– Значит, подписываете накладную – и все! Ваша доля – триста червонцев. Ну, и потом еще, на будущее…
Александр вздрогнул. Только сейчас он понял, что ему предлагают завернуть «налево» продукты, предназначенные для детских домов, – и получить за это иудины сребреники. Нажиться за счет обездоленных, чтобы потом, сидя в таком же ресторане, жрать икру и пить водку… Это было так чудовищно, что он даже задохнулся от возмущения.
– Да как вы можете! – крикнул он.
– Ну хорошо, пятьсот, – вполне мирно согласился Сергей Иваныч.
Он еще говорил что-то об аспирине и бязи, о вагонах с хлебом и сахаром, но Александр не слушал его больше. Неверной рукой он вытащил последний червонец, бросил его на стол и пошел к выходу.
Слышны были мелодия фокстрота, звон посуды и смех накрашенных дамочек. Было в этом веселье что-то надрывное, почти сумасшедшее, напоминающее пир во время чумы.
А в голове упорно, снова и снова звучал тонкий детский голосок: «Дядя, ты хороший! Приходи к нам еще…»
«На следующий день я уволился из „мофективной“ секции и вскоре устроился работать учителем истории в школу-коммуну имени Карла Либкнехта – ту самую, что мы ездили осматривать тогда».
И опять – все было, было и было… В «развеселые девяностые», когда в стране царила полная неразбериха, одни люди потеряли последнее, а другие очень даже неплохо заработали. Мигом, будто из-под земли, появились какие-то юркие личности, которых в прежние времена и на порог бы в приличный дом не пустили, а теперь они и только они почувствовали себя хозяевами жизни. Совсем недавно за спекуляцию срок давали, а несколько долларов в кармане приравнивались к государственной измене со всеми вытекающими отсюда последствиями вплоть до высшей меры, а теперь вчерашние фарцовщики гордо именовали себя бизнесменами, молодые парни мечтали стать бандитами, а бывшие партийные боссы становились пламенными демократами…
А тут еще бывшая государственная собственность оказалась без хозяина! Все они бодро принялись «приватизировать» и делить между собой сладкие куски – кто сколько успел урвать. Понятно, что такой дележ не мог быть бескровным – и вот вам криминальные войны. Никто не знал, доживет ли до завтра, и вот – сумасшедший разгул с битьем посуды, зеркал, мебели и друг друга. Большие деньги, свалившиеся в одночасье, не могут привить человеку ни стиля жизни, ни общей культуры, ни даже вкуса к красивым вещам – и вот вам «новые русские» из анекдотов, в малиновых пиджаках, с инкрустированными бриллиантами сотовыми телефонами и пудовыми золотыми цепями на бычьих шеях.
Но, как говорил великий Ломоносов, «если что-то где-то прибыло, значит, что-то где-то убыло». И в самом деле – безудержная, сумасшедшая роскошь всегда оплачена чьей-то нищетой. Сколько детей оказалось на улице за эти годы? Пожалуй, после гражданской войны – и то меньше было! И если тогда редкие энтузиасты еще пытались как-то цивилизовывать беспризорную братию, чтобы вырастить из них достойных членов общества (какого общества, это, конечно, вопрос, но ведь пытались же!), то теперь всем абсолютно безразлично, что будет с этими детьми – даже людям, в чьи непосредственные обязанности входит о них заботиться. Разве что иногда кто-нибудь из высоких чиновников, проезжая на бронированном «мерседесе», вдруг заметит из окошка копошащиеся отбросы общества и ткнет перстом указующим – непорядок, мол! Разобраться! И идет бумажный поток, взрослые дяди и тети создают комитеты, заседают в них, принимают какие-то программы, требуют финансирования… Деньги эти, кстати, «осваиваются» артистически – если посчитать, каждого детдомовца можно кормить ананасами, обучать иностранным языкам и бальным танцам и вывозить на отдых на Канарские острова. Как говорится, главное – прокукарекать, а там хоть не рассветай.
И пока мудрые люди ломают голову над тем, как решить проблему, выброшенные дети живут своей, невидимой для благополучных граждан жизнью – таскают ящики где-нибудь на рынке, воруют, попрошайничают, ночуют в подвалах, нюхают клей или что там еще…
Зато есть чем гордиться – в списках самых богатых людей мира появились фамилии наших соотечественников! И прикормленные социологи, журналисты, психологи рьяно принялись обслуживать запросы «новой элиты». Максиму неоднократно приходилось слышать ставшее уже расхожим мнение о том, что ничего особенного, собственно, не происходит – просто период первичного накопления. И пусть, мол, теперешние «капитаны капиталов» начинали свой жизненный путь в качестве фарцовщиков, перепродавая американские джинсы и жвачку, или «братков» с бритыми затылками, а жены их – модели, манекенщицы, третьесортные актрисульки, «мисски» с конкурсов красоты, а иногда и бывшие проститутки – не прочитали за свою жизнь ни одной книги и, несмотря на все потуги быть леди, имеют манеры базарных торговок и лексикон, какому лет двадцать назад позавидовал бы любой портовый грузчик.
Мол, все это ничего, пройдет время, они цивилизуются, приобретут известный лоск, поймут, что Моцарт – это не только конфеты, научатся есть ножом и вилкой, не чавкать и не отрыгивать за столом, отправят своих детей учиться в Гарварды и Кембриджи, и они-то станут первым поколением цивилизованной элиты в России…







