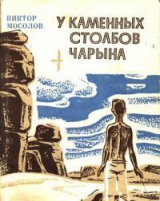
Текст книги "У каменных столбов Чарына"
Автор книги: Виктор Мосолов
Жанр:
Природа и животные
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 11 страниц)
– Сом!
– Ха-ха! Если расстраиваться из-за каждого сома, то на озере делать нечего…
– Я думал, буду гордиться, – продолжал Колосков монотонным голосом. – Нет, не буду…
– Да брось ты гундеть, – засмеялся Миша, хлопая Колоскова по плечу. – Такой сом – это ящик водки! Завтра приедут знакомые кореша – заберут!
– Я его боялся, – сказал Колосков. – А теперь там пусто…
– Где пусто?
– В той яме!
Миша промолчал, покачал головой и сплюнул сквозь зубы.
Я подошел к берегу. Сом лежал на траве и еще шевелил жабрами, огромный, не меньше двух метров в длину, и, как потом оказалось, весом в девяносто пять килограммов.
ЗЕЛЕНЫЕ ЧАЙКИ
Бурджарское водохранилище, когда плывешь на лодке, не очень привлекательно, даже наоборот – вода мутновата, по всей поверхности плавают какие-то ошметки, а берег усыпан круглыми орешками овечьего помета. Купаться в такой воде неприятно, кроме всего прочего, здесь водятся крупные пиявки с оранжевыми полосками по бокам.
Но стоит забраться на высокий обрыв и взглянуть оттуда, как сразу все меняется. Перед вами дивное озеро с изумрудной водой, прихотливо извивающееся между крутыми желтыми берегами. В обрывах, истыканных норами, гнездятся ярко окрашенные птицы: сизоворонки, щурки, удоды. Но самое удивительное на этом водоеме – зеленые чайки! Будто обрызгало их изумрудной Бурджарской водой, да так и осталось. Сначала думали – летит чайка над водой, а на оперении зеленоватые отблески или что-то в этом роде. Но когда она летела над берегом, было точно так же…
Чайки не могут быть зелеными, это всем известно. Получалось, что хоть не верь своим глазам!
Первым увидел зеленых чаек молодой лаборант Сева. Ему очень хотелось добыть хотя бы одну, чтобы рассмотреть поближе. Но как ее добудешь, да и ружья у нас не было. Однако Сева не унимался.
– Вот и дежурный с насосной станции говорит, что здесь зеленые чайки, – сказал он однажды за обедом, а сам, кажется, что-то задумал.
Так оно и было. Через некоторое время в верховье водохранилища раздался выстрел, а спустя час появился Сева и радостно сообщил:
– Можете не сомневаться – чайки зеленые!
С этими словами он вытащил из сумки убитую птицу. Чайка, а если точнее, – речная крачка, была такой, какой и должна быть: снизу белая, сверху сероватая с темной шапочкой на голове.
Больше всех это поразило Севу, он прямо раскрыл рот от удивления.
– Она была зеленая! Я сам видел!
– Как ты ее добыл?
– Дежурный по насосной застрелил. Ведь зеленая была. Точно, как эта, – он показал рукой на летящую над водой зеленую чайку.
Так и уехали, не разобравшись с чайками, ничего не поняв, кроме того, что был во всем этом какой-то обман…
Я не раз вспоминал чаек, обращался к специалистам-орнитологам, но они пожимали плечами: каждый занимался своим вопросом, а метаморфозы с чайками никого особенно не заинтересовали.
Однажды попалась мне книжка, в которой был рассказ со странным названием «Розовые куропатки». Ведь розовых куропаток в природе тоже нет. Прочитал я этот рассказ и понял, что хоть наши южные чайки и куропатки Колымы по окраске и по месту обитания очень далеки друг от друга, однако, есть в них нечто очень близкое и похожее.
Автор рассказа стрелял розовых куропаток, а когда, дома высыпал их из рюкзака, они оказывались белыми. Это его, понятно, очень удивило. Через несколько лет он случайно наткнулся на статью ученого, который заинтересовался розовыми куропатками, изучил это явление и и объяснил его. Оказывается, окраска птицы зависит не только от пигмента, но и от структуры пера, то есть строения составляющих его щетинок, шипиков, бородавок, от прозрачности роговых пластинок и их расположения. У одних птиц структура перьев, а значит, и цвет, сохраняется долго, даже если птица стала музейным чучелом, у других она разрушается сразу после смерти. К последним относятся розовые куропатки Колымы и зеленые чайки Бурджара.
Эти случаи как будто напоминают, что самое чудное, тонкое, неуловимое можно увидеть в природе, только когда она жива…
ФИЛИНЫ
Всякое строение в пустыне, будь то брошенный домик, кошара или могильный памятник, привлекают животных, особенно птиц, как нечто прочное и надежное в зыбком мире песков.
Утром по холодку иду к поселку, оставленному рыбаками, до которого от лагеря километра два. Долго брожу среди барханов, заросших джузгуном, тамариском и песчаной акацией, но поселка все нет, хоть я точно знаю, что он где-то здесь, совсем близко. Об этом говорит многое: круглые шарики лошадиного и верблюжьего помета, сухие коровьи лепешки, поплавки, обрывки сетей – все это, казалось бы, должно быть погребенным под слоем песка, но песчинки легко приносятся ветром и с такой же легкостью уносятся…
Но вот, перевалив через крутой бархан, оказываюсь против большого деревянного дома, похожего на амбар. Крыша полуразобрана, в небо смотрит черная пасть чердака, перекрещенная остатками стропил. Дальше опять дома, приземистые, невысокие. В поселке много солнца, просторно и даже как-то уютно. В некоторых жилищах сохранились оконные стекла – отраженный солнечный блеск ударят в глаза; другие чернеют пустыми провалами. Заглядываю в окна, захожу, где можно, в двери – всюду птичьи гнезда: ласточкины, воробьиные, даже каменка поселилась в трещине стены. А вот очень интересное гнездо. На гвозде, вбитом в глиняную стену, висит оставленная когда-то матерчатая сумка. Эта сумка теперь забита всяким хламом, перьями, и пухом, а на ней хозяином сидит и громко чирикает воробей.
Иду дальше по поселку, наполовину погребенному под песком. Заглядываю еще в одно разбитое окно и… волосы на голове поднимаются дыбом. Прямо на меня смотрят несколько пар круглых горящих глаз, слышится костяной стук! Отшатываюсь от окна, но уже соображаю – филины! Испуг сменяется радостью – в доме семья филинов и птенцы совсем взрослые. Это удача! Надо сфотографировать. Дверь плотно закрыта, придавлена тяжестью песка, наметенного ветром. Разгребаю песок и протискиваюсь в узкую щель – филины выставляют навстречу клювы, как пики, и угрожающе щелкают. Ни одному из них я не желаю причинить вреда, но птицам это неведомо, для них я опасный враг и только. Один за другим филины бесшумно взлетают и исчезают в проеме окна. Их пять или шесть. Без всякого сомнения это семья, но где молодые и где старые птицы, отличить трудно. Один – это, конечно, молодой – замешкался в проеме за печкой, грозно топорщит перья… Я хватаю его. Филин вонзает когти в мою штормовку. Я держу его, он – меня мертвой хваткой и стучит клювом. Какое-то время я стою в растерянности. Только что видел перед собой всю семью филинов, их уже нет, но один в руках и яростно дерет когтями мою одежду. Я не совсем доволен таким поворотом дела, лучше бы, конечно, оставаясь незамеченным, понаблюдать за семьей, но вернуть уже ничего нельзя…
Выбираюсь из тесного помещения, с трудом разжимаю крепко стиснутые когти хищника и бросаю его на песок. Филин распушил перья, распахнул метровые крылья и не сводит с меня пристального взгляда. В глазах его страх и жестокость, ничего хорошего он от меня не ждет и готов постоять за себя или умереть.
Щелкаю два раза затвором фотоаппарата – кончается пленка, как всегда в самый неподходящий момент. Надо перезаряжать, что я и делаю, повернувшись спиной к солнцу и поглядывая за филином. Пленка застревает, и я вижу краем глаза, что филин опускает крылья и, ссутулившись, неторопливо уходит за угол дома.
«Ничего, – думаю я, продолжая заниматься пленкой. – Никуда ты не денешься».
Все, готово. Фотоаппарат заряжен. Иду за угол дома – филина не видно. След на песке обрывается – улетел.
…Думаю, не прийти ли сюда ночью, может, удастся услышать, как они кричат? Кто-то наверняка скажет – глупо шагать по ночной пустыне несколько километров в надежде услышать крик филина, потом тащиться обратно, по скучной песчаной равнине. Может, и глупо, но ради этого можно пройти и большее расстояние…
С вечера взошла огромная красная луна, такая луна, что спать все равно нельзя – залит светом весь мир! Далеко видна кочковатая низина, совсем недавно бывшая дном моря, по которой то здесь, то там поднимаются и ползут, гонимые ветром, космы морской травы-чалана. И гряда барханов тускло белеет вдали. Все равно не уснуть, будешь мучиться и томиться.
Я беру ружье, все же ночь, и волчьи следы видел на отмели, и иду в сторону белеющих барханов. Найду ли в темноте поселок? Чтобы не заблудиться в песках, отыскиваю в небе Большую Медведицу, потом Полярную звезду и держу прямо на юго-восток.
Иду долго. Вроде бы и светло при луне, но поселка все не видно. Не прошел ли мимо? Все вокруг одинаковое: белые бугры и черные кустарники…
Внезапно прямо передо мной вырастает дом. За ним другой… Ночью поселок лучше и чище, чем днем. Не видно ни обрывков сетей, ни поплавков, ни ржавых консервных банок. Стены домов и крыши в лунном свете кажутся голубыми, на белом песке лежат резкие квадратные тени. Из-за низкого глиняного забора-дувала бесшумно поднимаются две голубые птицы. Я вижу их не более двух секунд, в следующее мгновение они растворяются в белесом, от отраженного песками света, небе. Это филины! Если днем я случайно захватил их врасплох, то ночью такого случиться не может. Ночью филины не спят.
На песке в тени деревца стоит забытая старая железная кровать. Я сажусь на нее и, кажется, ночь облегченно вздыхает, избавившись от моего движения, от скрипа шагов по песку.
Тишина, покой, сияние… Из-под камышовой маты скользнула светлая волнистая струйка и пропала в черной квадратной тени. Это удавчик отправился на охоту.
– Ку-ить, ку-ить! – пронзительным голосом кричит домовой сыч и снова тишина…
Что-то колдовское в этих тенях, в этом безукоризненно чистом блеске ночи. Кажется, вот сейчас появится маленький горбатый джин с длинной бородой и совершит какое-нибудь чудо.
Долго сижу, глядя на луну и безмолвные полуразрушенные строения. Джин не появляется. Но что это? Легкий, почти незаметный топоток по песку. Сначала торопливо, а теперь медленно – шаг и остановка, будто кто-то крадется… Вот совсем стихло… Нет! Снова шаги. На светлом бугорке на мгновение возникает заяц, маленький заяц-песчанник, и снова катится в темноту, унося с собой легкое постукивание маленьких лапок.
Вдруг что-то косматое промелькнуло на фоне луны, и тонкий дрожащий крик просверлил тишину. И где-то далеко за поселком глухо раскатилось:
– Ух, ху, ха-а…
Я вскочил, бросился туда, где только что видел зайца. Включил фонарь. Рука дрожала, луч света плясал на песке, тыкался в кустарник и траву. Никаких следов! Ничего! Только песок, песок да колючие кусты чингила.
СТЕПНОЙ КОТ
На песке тонкий, едва проступающий следок. Его оставил дикий кот, животное смелое, осторожное. След пропадает на голых песчаных буграх, здесь его замело ветром, но вновь появляется и идет вдоль полосы джузгунов и селитрянок. Даже в этих диких безлюдных местах, где опасаться как-будто нечего и некого, кот держится вблизи кустарника, чтобы самому все видеть и оставаться незамеченным. Такая у него скрытная натура…
Я не собираюсь преследовать кота, хоть увидеть его и хотелось бы. Он может оказаться где-нибудь неподалеку, но может уйти и за десяток километров. Кота не застать врасплох, да и след его обязательно потеряется, ведь кругом пески…
Я уже прошел много километров, устал и сажусь на прогретый солнцем песок отдохнуть. Я думаю об этом небольшом скрытном хищнике, о его одинокой, тоскливой жизни среди песчаных бугров, поросших своеобразными жилистыми растениями, ветки которых умеют так заунывно петь под ветром.
Передо мной лежит широкая ложбина, и со своего места я хорошо вижу, что вся она истыкана темными норами песчанок. Доносятся их пронзительные голоса. Желтоватые зверьки то выскакивают на поверхность земли и становятся столбиками, как суслики, то со всего разбега ныряют в норы, выбрасывая задними лапами фонтаны песка. Играют!
Видны только дальние норы. А ближнюю часть ложбины заслоняет ряд невысоких деревцев в темно-фиолетовых соцветиях. Это песчаные акации в весеннем наряде.
Со стороны брошенного рыбацкого поселка неожиданно прилетел молодой серый сорокопут. Он уселся на верхушку одной из акаций и сразу как-то возбудился, заволновался, завертелся, задергал хвостом, закричал странно, тревожно: «Трю-рю-рю-рю-черр…»
Такое спокойствие было вокруг, солнце садилось в редкую лиловую тучку, тихо угасал день, и только один сорокопут беспокоился непонятно почему. Я пошел посмотреть, чему удивляется эта так неожиданно прилетевшая птица. Когда я поравнялся с первой акацией, сорокопут взмахнул крыльями и улетел, а когда вышел за вторую – остановился как вкопанный. Пятнистый степной кот, наверное, только что сделал прыжок, над изрытой норами землей еще плыло пыльное облачко… В зубах кот держал песчанку…
Он первым опомнился и бросился бежать мягким скорым галопом. На моих глазах он пересек наискосок ложбину, сначала бежал по освещенной солнцем стороне, потом в длинной тени, отбрасываемой противоположным склоном, и совсем пропал среди низких солянок, где уже начали зарождаться сумерки.
Я все стоял и смотрел, угадывая, в каком месте он должен бежать в эту секунду и в следующую… Обидно было, что встреча эта так быстро прервалась.
МОРЕ
Море спокойно дремало под белесым знойным небом Азии, окаймленное желтыми берегами. Вода была густо-синего цвета. На мелководье, где мы купались, дно заросло густой морской водорослью-зостерой. Из-под ног стреляли мелкие рыбешки-бычки, стремительно пробегали два-три метра и затаивались в траве.
Километрах в полутора от берега покачивался на волнах «Лев Берг», похожий издали на большую белую птицу. Нам предстояло пересечь на нем Аральское море, чтобы высадиться на восточном берегу в песках Кызылкум. А пока мы ждали…
Город Аральск был налит зноем. Горячий ветер, обдавая горьким запахом полыни, стелил песок по асфальту улиц, поднимал в пыльных переулках крутящиеся вихри. Окна в домах были наглухо заклеены газетами и бумагой.
– Иначе не спастись от жары, будь она неладна, – ворчал наш сосед по бараку Петрович, третий помощник капитана на «Льве Берге».
Но вечера были хороши! Темнело поздно, сумерки длились невероятно долго. На западе все тлел и тлел закат, из розового превращался в малиновый, потом в темно-зеленый, наконец, воцарялась тьма… Зажигались звезды, маленькие и тусклые из-за висящей в воздухе мелкой пыли.
Однажды утром нас разбудил Петрович.
– Пора грузиться!
…На судне гремят якорные цепи, работает двигатель, сотрясая палубу, капитан кричит с мостика. «Лев Берг» разворачивается и берет курс на юго-восток. Большинство из нас впервые на Арале, все высыпали на палубу, мешают команде работать.
– Это что такое? – спрашивает молоденький лаборант Гена третьего помощника.
– Кнехты, – отвечает Петрович.
– А зачем?
Петрович терпеливо объясняет.
– А это?
– Мачта, – улыбается Петрович.
– Мачта? А зачем? Ведь это не парусное судно?
– Без мачты судна не бывает, – поясняет Петрович. – На ней блоки, антенна…
Гена вежливо благодарит и, посвистывая, отходит к борту.
– Эй, паренек, – окликает его Петрович. – На судне не свистят.
– Почему? – испуганно оглядывается Гена.
– Ветер насвистишь… Задует – тогда держись!
– Разыгрываете? – обиженно вспыхивает Гена и больше ни о чем не спрашивает…
Мы плывем уже часа четыре. Кругом вода, насколько хватает глаз. Никогда не подумаешь, глядя на этот простор, что Арал мелеет. Трудно передать словами цвет воды, прозрачной, зеленоватой, темной. Именно такой представлял я себе воду океана. На мелких острых волнах играют солнечные блики, миллионы бликов и каждый горит, как маленькое солнце.
Ночью поднялся ветер, насвистел-таки Гена. По крутому узкому трапу я выбрался из каюты на палубу, набив в темноте большую шишку на затылке. Судно, как живое существо, переваливалось с боку на бок и постанывало. С правого борта через всю палубу летели брызги, били в лицо, и я слизывал с губ горькую аральскую соль. В носу судна, укрывшись плащом, спал Петрович. В рубке крутил штурвал Абдильда. Он улыбнулся и махнул рукой.
– Сколько баллов? – крикнул я ему, застегивая на все пуговицы мокрую куртку. Он показал мне пять пальцев, поморщился – это не ветер!
«Лев Берг» держал курс на одинокую яркую звезду, низко висевшую над ночным морем. Крест мачты покачивался строго и значительно между звездами. Я подставлял ветру и волнам лицо, хотелось петь и кричать во все горло. Брызги казались ледяными, а в каждом порыве ветра была ласка, он приносил тепло недалекой, прокаленной солнцем земли.
Когда я вернулся в каюту, там еще не спали. Кто-то постанывал, страдая от морской болезни.
– Неужели оно совсем высохнет? – спрашивал голос Гены.
– Может, и не совсем, – отвечал другой голос. – Останется небольшое соленое озеро…
Я лег, но никак не мог уснуть. Вспоминалась первая моя встреча с морем… Мне было шестнадцать лет, я учился в школе. Жил в Алма-Ате, далеко от моря. Никто дома не мог понять, зачем мне море, – блажь, очередная глупость. Чтобы добыть деньги, в начале лета я устроился на завод временным рабочим. Два месяца трудился, страшно уставал, но шли дни и шум моря раздавался все ближе. По вечерам ходил на вокзал и смотрел на поезда, на уезжающих куда-то людей. Рельсы блестели, отражая розовое вечернее солнце, звали в дорогу. Я бродил у вокзала до сумерек…
Наконец он настал, мой день! Я купил билет и сел в поезд. Состав громыхал по мостам и туннелям, по степи… За окном – черная бездна, звезды. Теплый ветер врывался в окно, приносил незнакомые терпкие запахи. И вдруг – огонек… Далеко в ночной степи – огонек! И я думал с волнением, кто там в степи, зачем…
Рано утром я сошел на станции Аральское море. Прошел через город и увидел море! Оно было точно таким, каким я его представлял: темно-синяя вода уходила далеко за горизонт, тихие волны набегали на песок… На берегу сидели загорелые люди в пестрых тюбетейках, ели арбуз и бросали на песок зеленые корки. Тут же ходил двугорбый верблюд, срывал губами колючую траву, поднимал голову, неторопливо жевал и смотрел куда-то далеко. Из-под ног брызгали в разные стороны мелкие ящерицы.
Долго-долго сидел я на крутом глинистом обрыве, смотрел в море и думал: «Какая большая, чудная и разная наша земля…»
…Не спалось. Я встал, вышел на палубу. Светало. Над серой водой стелилась утренняя дымка. У самого горизонта, почти касаясь крыльями воды, летели большие птицы – розовые фламинго…
БЕРЕГ
Утро. Судно стоит на якоре, покачивается на волнах. С левого борта виднеется желтая полоса берега. Капитан вылезает из рубки и смотрит в большой бинокль.
– Узун-каир! – отрывисто бросает он и жестом подзывает матроса, смуглого и мускулистого, как знаменитый боксер Стивенсон.
– Проход там, – показывает рукой. – Поселок, видишь? Держи правее…
– Поселок с людьми?
– Брошенный…
Я тоже смотрю в бинокль на желтые холмы Кызылкумов, на поселок, затерявшийся в песках.
– А что там, на бугре?
– Кладбище.
Странное кладбище. Обычно казахи строят могильные памятники из глины или кирпича, а здесь они выложены из толстых стволов саксаула. То ли это от недостатка нужного строительного материала, а может, местный обычай такой. Одни мазары представляют собой низкие округлые ограды, другие поднимаются ввысь острыми конусами.
На этот берег нам предстоит высадиться и поработать там дней пятнадцать.
– Палатки ставьте подальше от моря, – предупреждает капитан. – А то подует юго-восток, нагонит воды… Берег низкий, затопит…
Ну что ж, начинаем переправляться. Море в восточной части Арала мелкое и добраться до суши нелегко. Мешает водная растительность – листья рдеста плавают буро-зелеными поплавками по синей поверхности моря, а чуть глубже, у дна, качаются, как пышные зеленые волосы, водоросли вошерии. Трава наматывается на винт, и двигатель то и дело глохнет. За кормой поднимаются клубы черного ила, гребной винт цепляет дно. Оставляем лодку на якоре в море, а сами бредем по колено в воде к берегу – надо устраивать лагерь.
Много раз я бывал в пустыне, не в этой, так другой. И знаю – нового будет мало: такой же песок и те же растения. Но каждый раз при встрече с пустыней охватывает волнение…
Земля эта кажется мне живой, не в том смысле, что здесь много живности, а сама земля будто живая… Я смотрю на холмистую гряду барханов, что поднимается в полукилометре от моря, а эта живая песчаная цепь угрюмо смотрит на меня и наш лагерь.
Впечатление – не обман, земля действительно живая, и я постепенно постигаю это.
Низина, что лежит между морем и барханной грядой, совсем еще недавно была морским дном.
– Хруп, хруп, хруп, – раздается во время ходьбы, ломаются под ногами ракушки-сердцевидки, сплошным толстым слоем покрывшие землю. Путается в ногах, сухо шелестит морская трава-чалан, оставленная морем на суше. Бурая эта трава лежит большими горбатыми кочками по всей низине от моря до барханов. Подует сильный ветер и вдруг – что такое? Бегут один за другим круглые неуклюжие звери, похожие на медведей. Так ведет себя на суше морская трава-чалан…
Ветер властвует над морем. По его прихоти оно то отходит, далеко обнажая берег, то, наоборот, наступает на сушу. Поэтому вблизи от моря всегда мокрая земля. Все здесь истыкано острыми следами сайгаков и джейранов. И волки приходят сюда, прячась за кучами чалана, подкарауливать добычу. А дальше, куда не достают никакие волны, надуло песчаную рябь, и по ней уже принялись в рост пустынные травы и кустарнички: лебеда да кое-где молодые ростки тамариска.
Полуденные песчанки обживают «морское дно», выкопали себе норки в песке и с писком убегают в них при приближении человека.
Вот оно – живое движение земли! Пустыня наступает на море, постепенно, но уверенно покоряя его.
Еще дальше от воды высокая песчаная гряда, она неподвижна, но похожа на стремительный вал, катящийся на море. На гребнях барханов цепко держаться кривые узловатые кусты – джузгуны, увешанные, как елочными игрушками, красноватыми шариками плодов. Шарики отрываются от растения и наперегонки катятся по крутому склону бархана в низину. Тоже наступление пустыни.
По песку, то вверх, то вниз тянется двойной след, будто прошел миниатюрный гусеничный трактор. Черепаха! Забралась на высокий бархан и смотрит с высоты на открывшийся синий простор. Вытянула вперед морщинистую шею, по-старчески жует челюстями, будто размышляет… Постояла и повернула обратно. Дальше нельзя, не пришло время…
У КАМЕННЫХ СТОЛБОВ ЧАРЫНА
Много в Семиречье географических названий странных, волнующих, загадочных: Тасмурун, Кетмень, Хан-Тенгри, Алтынэмель…[6] А в слове Чарын есть что-то чарующее. В одном этом названии целый рассказ из намеков, предположений, догадок…
Река Чарын протянулась от истока до впадения в Или на триста пятьдесят километров, течет она среди горных ущелий, стиснутая отвесными скалами, потом выходит на просторы ровной глинисто-песчаной пустыни.
Не сразу, а может быть, и не всякого поразит своеобразная красота этой реки. Помнится, был я на Чарыне во время недолгой студенческой практики. Но тогда так весело и счастливо проходили дни, что сам Чарын отступил на второй план. Были вода и солнце, луна и звезды, но были так, как могли быть в любом другом месте.
Но Чарын не забылся… Где-то в глубинах памяти осталось беспокойство, связанное с именем этой реки, порой звучали в ушах плеск воды и гулкое эхо обвалившихся глинистых берегов. И все тянуло вернуться к Чарыну, посмотреть на него подольше в повнимательней, поразмышлять…
Время идет. Однажды я ехал по каким-то делам, дорога пересекала Чарын. Только на миг мелькнула река и пропала. С волнением смотрел я на буйную воду, сероватую от примеси ила. Стиснутая с двух сторон отвесными скалами, она неслась таким стремительным и мощным потоком, что почти не пенилась на перекатах. Автобус промчался по мосту, и река осталась позади, но перед глазами все мелькали искрящиеся волны и курчавые зеленые туранга на берегу Чарына.
Вот нашлись попутчики, и мы втроем решили добраться до реки и провести там хотя бы дня два-три.
– Мы говорим, Африка или там – Амазонка… – сказал между прочим один из них. – Разве не так же загадочен и неясен для нас Чарын?
Вышли из автобуса перед перевалом через невысокий хребет Турайгыр и направились по накатанной автомашинами дороге на восток через ровную, как асфальт, Сюгатинскую равнину, окаймленную двумя хребтами, один из которых был так далеко, что казался лиловым. Легкая дымка стелилась над равниной, случайный ветерок гулял, где ему вздумается. Такой был покой вокруг.
– Тают вдали синие дали Синьцзяна… – проговорил один из моих попутчиков и потом все повторял эту фразу. Не знаю, откуда эта фраза, из китайской поэзии или из песни, и по ошибке повторялось здесь «вдали» и «дали», или так надо было. Но эта строчка стала неотъемлемой частью настроения, которое не покидало нас во время похода.
Путь наш длинен и тяжел. Хребет Турайгыр, вдоль которого мы идем, понизился, припал к земле, как раненый зверь. Начинается узкий пологий коридор. Дорога ушла, вильнув в сторону. Едва заметная тропа ведет куда-то по распадку между обвалившимися глыбами красной глины, среди сказочного царства причудливых фигур, столбов и строений. Некоторые скульптуры, сотворенные ветром, дождем и солнцем, напоминают суровые человеческие лица.
Вот сфинкс лежит, высокомерно глядя перед собой, словно собирается задать коварный вопрос. Там собака, а еще дальше, голова верблюда на длинной шее. Здесь, кажется, и должно наступить то мгновение, когда так радостно осознавать себя малой песчинкой среди величавой природы.
– Стойте! Слушайте… Вода шумит.
Снизу, издалека, ветерок приносит шорох, похожий на тот, с каким маленький жук выбирается из спичечного коробка.
Как тут хорошо! Но беспокоит неприятное ощущение – вдруг там, у реки, все истреблено, изломано, разрушено? Странное это чувство, но я не считаю его необычным для человека второй половины двадцатого века.
Река шумит все ближе и вот уже виден сверху ее серебристый излом в зелени деревьев и тростников. А когда мы спустились вниз, то попали в настоящие джунгли. У самой воды стоят на корявых стволах приземистые ивы и туранги. С одного дерева на другое свешиваются длинные гибкие лианы – ломонос. Растения помельче, более сухоустойчивые отодвинулись от реки подальше, среди них: саксаул, тамариск, чингил, барбарис, карагана…
Из-под джузгуна, очень близко от нас, выскакивают сразу два зайца и, удивленно косясь на людей, короткими прыжками убегают в заросли. Свежий след горного козла – тека уводит вверх по распадку. На плоских камнях под редкими стебельками трав журчат во всю мочь толстые короткие кузнечики – зичии. Возьмешь в руку пузатого музыканта, он весь содрогается, как будто от страха, но поет пуще прежнего. Отпустишь его, он уходит, неуклюжий и совершенно беспомощный…
Крошечный тугайчик, прилепившийся к берегу Чарына похож на заповедник. Мало людей бывало здесь – очень трудно добраться. За поворотом реки такой же девственный тугай. До него рукой подать, но река не пускает, она раздробила, изрезала берег, перемешала тугаи с неприступными скалами, будто для того, чтобы уберечь от опасности. В воду войти – унесет, расшибет о камни, а если пойти по берегу, наткнешься на отвесные стены, поднимающиеся прямо из воды. Нет, не люди сберегли эти дивные рощицы, а сама река, проложившая свой путь по таким неудобным местам.
Дойти до реки в изнурительную жару. Сесть устало на теплую землю и прижаться спиной к шершавому стволу дерева. Окунуть руки в быструю холодную воду. Это ли не радость?
– Тают вдали синие дали Синьцзяна…
Блекнут яркие краски. То, что было зелеными кронами деревьев, синими и оранжевыми скалами, становится однотонным. Не зеленым, не синим и не оранжевым, а таким, чему и названия нет…
Вечером горит костер, бросая багряные блики на скалы, стиснувшие с двух сторон поляну, поют сверчки, летучая мышь вычерчивает зигзаги в темнеющем небе. Луна выпутывается из корявых веток…
Спасибо тебе, Чарын!
ГНЕЗДО РЕМЕЗА
На дне ущелья, перекатываясь по камням, бурлит поток… Над ручьем на тонкой ветке ивы раскачивается маленькое гнездышко, похожее на мягкий пушистый мячик. С одного края его загибается вниз «трубочка» – вход с таким узким отверстием внутри, что, кажется, не только птице, но и насекомому проникнуть туда не легко. Такие гнезда строит только одна птица – ремез.
Смотрю на это сооружение и удивляюсь его бесхитростному совершенству. Расположено оно на высоте пяти-шести метров от земли – никакой крупный зверь не достанет. Мелкий хищник тоже не подберется – слишком тонка и гибка ветка, на которой оно висит. В гнезде тепло, сухо, безопасно.
Пока я раздумываю, обитаемо ли гнездо или брошено, ремез с зеленой гусеницей в клюве со всего хода, не сбавляя скорости, точно влетел в раскачивающееся жилище.
Сначала казалось, что внутри пушистого шарика птенцы. Затем стало ясно – там яйца, а насиживают их поочередно самец и самка.
Через две недели снова иду к ремезам. Беспокоюсь – как бы не разорили. Но гнездо цело, из него доносится громкий писк.
Наружу высовывается маленькая симпатичная головка с желтым клювом. В таком неудобном положении, вниз головой, птенец висит долго, разевает клюв и требовательно пищит. Прилетает один из родителей, сует в разинутый рот бабочку. Но этого мало, птенец просит еще.
В последний раз я пришел к гнезду, когда птенцы стали взрослыми. Сразу я этого не понял. Они по-прежнему висели вниз головой, выпрашивая поесть, а родители носили им насекомых. Вдруг один из птенцов «выпал» из гнезда и… уверенно перелетел на соседнее дерево. Вслед за ним вылетел второй, потом третий. Я насчитал шесть птенцов, но может, их было и больше…
К вечеру разлетевшееся семейство стало собираться. Молодые ремезы облепили свой дом, каждый из них, сталкивая другого, стремился влезть внутрь первым. В конце концов – все дома. Гнездо шевелилось, словно живое, и все больше «раздувалось»…
Солнце закатывалось. Последние лучи догорали на вершинах деревьев. Гнездо было уже в тени. Его, словно маленькое суденышко в бурю, раскачивало ветром из стороны в сторону. Ремезы засыпали под убаюкивающий шелест листьев…
БЕСПОКОЙНЫЙ СОСЕД
На приемном пункте кто-то из рыбаков рассказывал про енота, а его собеседник возражал:
– Ты, Винни-Пух, что-то путаешь, в Казахстане и Средней Азии нет и никогда не было енотов. Они водятся в других местах.
– Не было? – повернулся рассказчик. – Не было для тех, кто спит на ходу и дальше своего носа ничего не видит…
Другие рыбаки в спор не вмешивались, а только покачивали в сомнении головами. Я знал, что попытки акклиматизации енота и енотовидной собаки на юге Казахстана были, правда, закончились неудачей. То, что я услышал, показалось мне вполне достоверным и даже, в какой-то степени, дополняющим сведения о судьбе некогда выпущенных зверьков. Единственно, в чем я сомневался – о ком шла речь, о еноте или енотовидной собаке? Последнюю рыбаки и охотники часто называют енотом. Но, как говорится, за что купил, за то и продаю, все равно мне уж больших подробностей не раздобыть. Предлагаю этот рассказ в том виде, в каком услышал и запомнил.








