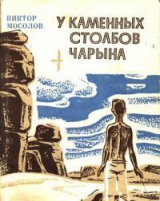
Текст книги "У каменных столбов Чарына"
Автор книги: Виктор Мосолов
Жанр:
Природа и животные
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 11 страниц)
…Но живые продолжали свой путь на юг. Уже виднелись впереди горные хребты Тянь-Шаня с синими склонами. По-прежнему кругом лежал глубокий снег, и идти с каждым днем становилось трудней и трудней. Чаще стали попадаться на пути населенные пункты. Сайгаки от голода и истощения забывали осторожность и заходили прямо в поселки. Кое-где в полях стояли стога сена. Люди пытались помочь животным: расчищали машинами снег, чтобы они могли добраться до травы, разбрасывали по полям сено охапками. Но сайгаки недоверчиво относились к таким дарам: было для них в этом что-то противоестественное и непонятное. Сайкан же первым подходил к сену, начинал есть, и все стадо следовало его примеру…
Уже не за горами была весна. Снег потерял свою мертвенно-белую пушистость, стал радостно-колючим, ноздреватым, то алел, то голубел, каждой своей крупинкой отражая небо. Солнце выкатывалось из-за горизонта, желтое и ясное, и чудилось, с той стороны, откуда оно встает, наплывают теплые ветры, пахнущие землей, и скоро грянут с обрывов и косогоров веселые весенние ручьи.
Вслед за весной спешило лето… И сайгаки, повинуясь инстинкту, устремились на север, чтобы набираться сил и растить новое поколение. Желтыми лавинами проносились их стада по холмам и равнинам, и стелилась за ними тонкая белесая пыль…
И снова осень в пустыне Бетпакдала. Холодный ветер раскачивает причудливые стволы саксаула, со свистом прорывается сквозь редкие ветки, катится дальше, ничем не сдерживаемый, по гладким такырам, несется вслед за быстрыми антилопами, которые опять где-то в пути…
Сайкан теперь трехлетний сильный самец с красивыми длинными, похожими на лиру, рогами. Все его стадо удобно расположилось на отдых. Кто знает, что снится сайгакам, когда они ложатся после трудного пути… Они и понятия не имеют, что предки их были современниками мамонтов, что едва не вымерли, преследуемые человеком за вкусное мясо и целебные рога. Правда, люди потом опомнились и прекратили на время охоту за сайгаками. И снова появились тысячные стада.
Проснулся Сайкан от какого-то жужжания, словно жук запутался в траве и никак не может выбраться. Он поднял голову, всхрапнул – сразу заколыхалось, поднимаясь, стадо. В той стороне, откуда доносились странные звуки, двигался столб света, то упираясь в заросшие кустами курганы, то чертя звездное небо. Словно гигантское белое щупальце, луч приблизился и охватил стадо. В глаза ударил яркий свет. Он ослеплял, околдовывал, вызывал ужас, но животные стояли, не шелохнувшись. Глаза их горели зеленым огнем и издали казались огнями далекого города…
Машина приближалась, а стадо будто окаменело. Ужас животных передался Сайкану. Он рванулся вперед, стоящие за ним антилопы устремились следом…
Сайгаки бежали в кругу света, сбившись плотным косяком. Фарщик на машине был опытный, умело держал сайгаков, заставляя их бегать вокруг машины. Там, за светлым кругом, стояла тьма, плотная, как стена, и повернуть туда было так же страшно, как прыгнуть в пропасть. После первых выстрелов несколько сайгаков осталось на такыре. Остальные побежали быстрее – миллионы лет сайгаки спасались от врагов бегством, и этот способ был самым верным в борьбе за существование, благодаря ему сайгаки сохранились со времен глубокой древности до наших дней.
…Охотники таились в темноте, неслышно крались наперерез, мелькали огоньки, хлопали выстрелы. Стадо рассеивалось, сайгаки выходили из смертельного круга, неслись, безумные, ослепшие, натыкались на кусты, выпутывались и вновь бежали…
Сайкан мчался по буграм и сухим травам. Осколок того страшного враждебного света разгорался в нем все жарче и жарче, становился невыносимым. Ничего больше не чувствуя, кроме заполнившей его боли, ткнулся он со всего бега в колючий, как проволока, куст. Он долго лежал с открытыми глазами, но ничего не видел, кроме вздрагивающей перед зрачками сухой веточки. Опять, как когда-то, уныло и монотонно гудел ветер, пошевеливал длинную шерсть на боках сайгака, унося с собой его последнее тепло. Медленно выплывала большая красная луна, выпутываясь из цепких пальцев саксаула…
II. ВСТРЕЧИ
МАСТЕРСКАЯ ЗВОНКИХ КАПЕЛЬ
День солнечный и ветер слабый, но такой пронзительный, дунет – словно уколет холодом.
В тени обрыва на стеблях и корнях травы повисли сизые бугристые сосульки: большие и маленькие, одни длиннее, другие короче. Ветер легко шевелит их, будто настраивает ледяные гусли…
А на солнечной стороне – ручеек, даже не ручеек, а струйка бежит, торопится среди плотного, видавшего и морозы, и оттепели, снега. Бежит, позванивает тревожно и весело. А снег – берег этого ручейка – колюч и тверд, и будто даже угрюм. Не тает, не отвечает на звонкий призыв воды.
Где же родился бесстрашный маленький ручеек? Чтобы узнать, лучше всего пройти по нему вверх.
…Вот она – мастерская звонких капель. Нужно не раз нагнуться и отвести руками голые ветки, чтобы войти в нее. Она окружена с одной стороны кустами и невысокими деревьями, а с другой и вовсе хода нет, там золотистым полукругом навис глиняный обрыв.
Ветер сюда не проникает, а солнца много, поэтому от голой земли обрыва струится теплый воздух. Все здесь наполнено движением и звоном. С сосулек стекает вода. Клинг-кланг, клинг-кланг – постукивают крошечные молоточки, без устали кующие этот маленький весенний ручеек.
Тинь-пинь, тинь-пинь – это уже не капли, а синицы на ветках торопят весну…
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ВЕСНЫ
За окном в рассветной мути кто-то шагал прямо по лужам. Тонкий лед ломался и звучал: крупные льдины раскатывались и шуршали, мелкие позванивали тоненько и печально…
Я заторопился. Быстрей, быстрей!
Зарождающийся день был полон звуков. Где-то вблизи тенькал маленький колокольчик – синица. Над путанными узловатыми ветками груш неслась громкая чистая песня черного дрозда. Горло маленького певца, одетого в черное оперение, дрожало от напряжения. А дальше, очень далеко, сквозь прозрачный туман холодно синели горные пики.
Солнце катится вверх и наливает горное ущелье теплом и блеском. Вода в речке булькает и пенится. Лед местами провалился, открылись прозрачные оконца. Солнечные зайчики пляшут по разноцветной гальке. Там, где стаял снег, яркими пятнами проступает зелень. По зелени – подснежники, будто кто-то недавно прошел с дырявым ведром, наполненным известью или белой краской.
На цветок звонко опускается пчела – наверное, это ее первый вылет. Сколько сегодня такого первого: в норе проснулся барсук, на пригорке распустился цветок, под прогретым камнем шевельнулся жук…
Ворона сидит на ветке, вытягивает шею, тужится, а крика не слышно. Может быть, застудила горло? Вот еще напряглась, раздалось едва слышное «крук», потом щелчок и вдруг негромкая трель полилась над набухшими водой сугробами. Это она, ворона, поет!
Вторая ворона выделывает что-то непонятное – летит, летит, вдруг камнем падает к земле и снова взмывает ввысь. Птица все ближе, и уже видно – что-то держит в клюве. Бросает то, что несет, но догоняет, ловко подхватывает в воздухе и снова летит. Опять бросает, догоняет и так повторяется раз за разом. Но вот ворона промахнулась и даже вскрикнула от досады. Та штука, которую бросала и ловила, падает на снег.
Подхожу, поднимаю… Это не кость, не съедобный кусочек, а гладкая белая палочка. Игрушка! Вот что значит – первый день весны!
К вечеру все угомонились. Пропали краски. Сквозь путаницу ветвей засветились желтые окна. Под крышами домов стук и плеск весенних капель…
ПРИЛЕТЕЛИ ОГАРИ
Ганг, ганг, ганг! – раздалось в вышине и полетел над хребтами, одетыми темным еловым лесом, над мокрыми сугробами трубный крик. Возникла в памяти строчка из Багрицкого: «…над миром плыла труба…»
Ганг, ганг, ганг! – отозвались коричневые скалы, и все четыре пестро-красных огаря услышали зов и повернули к ним…
Была середина апреля, кругом еще холодно, сыро, неуютно. На солнцепеках, на едва прогретых камнях уже можно увидеть кое-где жука, ящерицу-гологлаза, бабочку. Все самое раннее, нетерпеливое выкарабкалось из своих зимних щелей, грелось, порхало, быть может, удивлялось и по-своему радовалось приходу весны, но нередко и погибало от внезапного похолодания.
Огари сделали круг над хмурыми елями, над озером, у берегов еще скованным льдом и открывшемся посредине, опустились на рыжие скалы, слились с ними и потерялись.
Здесь огари, по-видимому, и собирались гнездиться.
Один из них слетел со скалы и опустился на лед озера. Среди огромных утесов он был такой маленький и одинокий – яркая желто-красная точка на голубоватом льду. Так долго он летел сюда.
Огарь, будто в задумчивости, прошелся по кромке льда, спрыгнул в воду, поплыл, посмотрел на свое отражение, снова выбрался на лед, отряхнулся.
Ганг, ганг, ганг! – крикнул он и взлетел. И на скалах трепыхнули яркие крылья. И опять огари закружили над неуютной, по-весеннему голой землей, на которой родились и выросли.
В унылом, протяжном крике звучала надежда на будущие радости.
В ПОЛОВОДЬЕ
Весна дождливая… Чардаринское водохранилище вышло из берегов. Вода залила часть степи, затопила полосу кустарников, и они теперь словно бредут по колено в воде.
Ветерок колышет над степью весенние запахи: пахнет молодой полынью, прелью и влажной распаренной землей. Холмистая степь ровно зеленеет низкой, точно подстриженной травкой, и только головастые ферулы успели вымахать на полметра, набрали цвет – стоят желтые, круглые, облепленные жуками и мухами.
По отмели ходят, что-то выискивая, болотные птицы – кулики. Особняком держатся яркие черно-белые ходулочники с длинными красными ногами. Подойдешь поближе, ходулочники разом взлетают, свесив под углом свои до нелепости длинные ноги, делают над заливом и кустарником круг и опускаются подальше от берега.
Но вот наступает вечер, некоторое время небо на западе светится, зажигает розовым огнем воду залива и разбросанные по мелкой воде кочки и куртинки прошлогодней травы, но краски все тускнеют и постепенно становятся неразличимыми и дальний остров с желтыми обрывами, и кусты, что залило половодьем.
У берега сильно всплеснуло, жалобный плач кулика метнулся и растаял в ночном небе. И снова тишина навевает неторопливые тихие мысли… Вот так же сидел у огня наш далекий предок, вздрагивал и оглядывался, слыша всплески в темной воде, и в его тусклых зрачках мерцал страх… Но любопытство было сильнее страха, он выходил на берег и напряженно смотрел в ночную воду, истыканную блестками звезд.
Мне хочется хоть несколько минут побыть первобытным человеком. Я натягиваю высокие резиновые сапоги, иду на берег и вхожу в воду. Дно мягкое, кое-где неожиданные ямы, коряги… То здесь плеснет рыба, то там.
– Бу-ахх! – раздается совсем рядом. Вода вздувается бугром, блестят и расходятся круги, качаются звезды. С тревожным писком срывается с невидимых ветвей стайка птиц и, шурша маленькими крыльями, уносится в ночь.
Новый взрыв и хлесткий удар по воде! Шорох и плеск…
Рыба трется у кустов и водной растительности, чтобы выпустить в воду новую жизнь. Так было испокон веков так есть, так будет, пока жива планета…
ВЕСНОЙ НА КЕЛЕСЕ
Долго держалась непогода. То туман, то мелкий моросящий дождь – не верилось, что это середина апреля на самом юге Казахстана.
Но вот наступил теплый солнечный день: яркий, сверкающий, как бывает всегда после дождя, когда кругом мокро, а на траве и кустах горят разноцветные капли.
В этот день часов в одиннадцать я присел отдохнуть на сухом бугорке. Долина реки Келес лежала внизу и далеко просматривалась. Река буйно несла свою мутную воду, но отсюда с высоты казалась гладкой желтой лентой, прихотливым полукольцом, расстеленной по зелени травы. Вдоль русла, у самой воды, и по всей долине росли кусты тамариска. Тамариск был еще гол, холодная погода задержала цветение, но кисти его уже налились розовым соком. И от этого река казалась окутанной легким розовым туманом.
Было тихо и только в колючих кустах, что росли по крутому склону бугра, что-то время от времени шуршало, потрескивало. Я думал – растет трава, пробивается сквозь старый валежник, но очень уж живой был этот шорох…
Что-то шевельнулось в ветвях ближнего куста, блеснуло жидким металлом, и я узнал в блестящем существе желтопузика. Того самого желтопузика, который по форме тела очень похож на змею, но не змея, а всего лишь безногая ящерица.
Никогда мне не доводилось видеть желтопузика так высоко от земли, никогда не слышал, что он может забраться на куст или на дерево. Но не это меня удивило и взволновало, а то, что он смотрел, не шевелясь, туда же, куда и я…
То ли он охранял свою территорию от возможного посягательства других желтопузиков, то ли грелся, а может, как и я, смотрел на воду, кусты и обрывы, на уступах которых трепетали красные маки?
Меня взволновала одна очень простая мысль: «Что он чувствует, глядя на эту прекрасную долину?»
…Я поднялся, подошел поближе. Желтопузик помигал веком, открывая и закрывая желтый глаз с острым темным зрачком, – забеспокоился, быстро скользнул вниз, прошуршал по сухим листьям… И вот уж нет его, только где-то в траве еще раз возник и затаился вкрадчивый шелест…
ПЕРЕОДЕЛСЯ
На теплом бугорке у воды грелся уж. Я наклонился и увидел, что вместо глаз у него голубовато-белые пятна. Похоже, что уж слепой.
Я без труда поймал его и посадил в полотняный мешочек. Дня через два развязал мешок и не узнал ужа. Чешуя его блестела вороненой сталью, на голове яркой короной горели оранжевые пятна и, что самое удивительное, он смотрел на меня ясными, неподвижными зрачками. Уж прозрел, к тому же выглядел таким щеголем, словно собрался на большой ужиный праздник. В углу мешка отыскался и старый костюм – тонкая, полупрозрачная кожа, похожая на капроновый чулок…
Уж и не был слепым, он готовился к линьке. Старая кожа мешает расти, вот и приходится время от времени переодеваться. Вместе с кожей при линьке отделяются прозрачные пленки с глаз, и от этого глаза кажутся мутными, как бы незрячими.
Обычно на воле перед линькой змеи забираются в трещины или густой кустарник, где, пролезая сквозь узкое отверстие, освобождаются от старой шкуры, которая после линьки сохраняет форму сбросившей ее змеи. Если змея вполне здорова, то ей необязательно пролезать сквозь узкие щели, она может перелинять везде. Переоделся ведь уж в полотняном мешочке.
МАЙНЫ
Апрель. Дождь то льет, то моросит совсем не по-весеннему. Река Келес превратилась в пять стремительных потоков жидкой глины. Трудно поверить, что летом эта река смиренно течет в одном русле, что вода в ней светла и прозрачна, а глубина, как говорится, воробью по колено.
Выйдешь из палатки – сизая дымка висит над долиной, сырость, грязь… В лужах, растопырив зеленые лапки, дремлют лягушки; жалко и холодно на них смотреть. Постоишь, поежишься, глядя на низкие облака, плывущие над мокрыми обрывами, и подумаешь с тоской и досадой о запаздывающей весне: «Ну когда же, когда же…»
А над обрывами кричат птицы! Дождь, непогода, а они носятся туда-сюда, суетятся, хлопочут. Пришла пора гнездиться! Тут и воробьи, и скворцы, и галки. Но живее всех и громче всех – майны! Голоса их своеобразные и сложные: в них резкий скрип и приглушенный звон металла. Вскрикнет птица и смолкнет, а кажется, все дрожит в воздухе негромкий медный отзвук…
Майны уже разбились на пары. Изредка бросая взгляды на обрыв, я вижу, как то одна, то другая птица подлетает к норе и, оглядевшись, ныряет в черное отверстие. Слишком откровенно следить за ними нельзя, птицы замечают и не любят этого. Подхожу ближе. Майны с криком улетают куда-то за обрыв. Подан сигнал тревоги! И вот уже целая стая, мелькая пестрыми крыльями, кружит надо мной, кричит, предупреждает по-своему: заметили, что-то поняли и что-то готовы предпринять!
Второй день на моих глазах ведется самая настоящая война между семьей майн и семьей галок из-за норы в обрыве. Ни майны, ни галки сами нор не роют. Их выкапывают щурки и сизоворонки и, наверное, им приходится делать это каждый год, потому что, когда вернутся из теплых стран, жилища оказываются занятыми. Сейчас свободных нор в обрыве достаточно, занимай любую – и все же идет борьба!
Вот майна вылетела из норы, и в ту же секунду в нее устремляется галка, что сидела на обрыве, и, как видно, ждала этого момента. И начинается! У норы собирается с десяток майн, все возбуждены, громко кричат. Галка терпеливо держит осаду. Одна из майн в азарте влетает в нору, но после короткой схватки вновь оказывается снаружи…
Целый день идет борьба с переменным успехом. Наконец, то ли галки проявили большую настойчивость, то ли майнам надоела потасовка, – они перелетели в другую нору.
На следующий день галки, видимо, решили, что допустили большую оплошность и опять принялись выживать майн, совершенно охладев к отвоеванной с таким напряжением норе. Снова весь день шум и крик! Галки и на этот раз одерживают победу, а майны перебираются в свое первое жилище.
После этого, как будто, все успокоилось. Началась мирная жизнь. Теперь можно было видеть, как галка или майна садилась на пасущегося у обрыва ишачка и, надергав из его спины полный клюв шерсти, летела к своему гнезду. Ослик спокойно пасся, помахивая от удовольствия хвостом.
Однажды, был уже солнечный день, кто-то положил у палатки подсушить большой смятый лист кальки. Подул ветер и лист с шорохом пополз по траве. Майны на обрыве подняли крик. Не от страха, а, скорее, из любопытства.
Через несколько минут кальку унесло метров на двадцать от палатки. Около нее по зеленой траве удивленно прыгают майны. Двинется лист и птицы испуганно взлетают. Будто кто-то живой ползет, а вдруг схватит! Но лист только шуршит, и это уже не страшно. Майны ловят кальку клювом, дергают, пытаются удержать.
Подлетает и опускается на лужайку сорока – ей тоже интересно знать, в чем тут дело, почему шум. Но майны дружной стаей набрасываются на сороку – не мешай!
Вот две майны удачно подхватывают кальку за углы и взлетают! Какой гомон поднимается! В небе плывет белый ковер-самолет в окружении охрипших от крика птиц. Майны едва справляются со своей необыкновенной ношей, порывами ветра их поднимает все выше и выше. Наконец, лист вырывается и, медленно кружась, опускается на траву.
И, словно поняв тщетность каких-то своих намерений, все разом улетают майны.
ПОДЕНКИ
Кайнарское водохранилище, с его темной неподвижной водой и могучими, в два обхвата, ивами, склонившимся над берегами, очень напоминает уголок Средней России. Но на лужайке пасется привязанный длинным арканом ослик, чуть дальше – развалины глинобитных сооружений, а если посмотреть левее – возвышаются на холме облитые белым солнцем мазары с полумесяцами над куполами. Посмотришь – и будто тягучая азиатская мелодия разольется, зазвучит…
Однажды утром, в апреле, выглянул я из палатки, а на черной воде словно белые цветы расцвели. Да так много цветов, все движутся и трепещут своими белыми лепестками! Вчера еще ничего такого не было. Вышел я из палатки. Ведь это поденки! Крупные белые поденки, похожие на больших красивых бабочек… Плавают по воде, пытаются взлететь, только все напрасно – не получается!
Одни изо всех сил бьют крыльями, разбегаются, раскатываются по гладкой поверхности, даже отрываются от воды и секунду-другую порхают в воздухе, но снова падают в изнеможении. Поднимают вверх крылья и теперь уже плывут, гонимые ветром, как маленькие парусные лодочки…
Досадно, что поздно проснулся, может, удалось бы увидеть, встань я пораньше, как они летали, кружились белым вихрем над водой. Но вряд ли – брачный танец обычно совершается ночью, а теперь все это позади, яички отложены в воду – и вот финал…
А сколько тут охотников до легкой добычи. Лягушки, распуская волны, гоняются за поденками, гулко шлепая по воде своим мягким брюхом. Из прибрежных тростников то и дело вылетает дроздовидная камышевка и, ловко подхватив добычу, снова летит к берегу. В тростниках у нее гнездо с птенцами и поденки оказались кстати. По воде расходится широкий круг и поденка исчезает – кто-то утаскивает ее в глубину.
Сорокопут-жулан, этот известный разбойник, сидит на самой верхушке дерева, на голом сучке и бойким глазом следит за плавающими насекомыми. Слетит, пронесется низко над водой и снова – на свой высокий пост, уже с добычей… Тут же и воробьи – им тоже кое-что перепадает.
Поденок все меньше. Грустно смотреть на них. Только появились, первый раз увидели небо, покружились в танце – и жизнь прошла!
Часа через два на воде ни единого белого пятнышка. Чирикают довольные воробьи, сыто квакают лягушки, плещется, играя, рыба. И не верится, что вот только что плавали по воде живые существа – поденки, похожие на белые водяные лилии.
ЗМЕИНОЕ ДЕРЕВО
Крошечное водохранилище на юге Казахстана. Скорее, даже пруд. Вдоль берега – узкая полоска тростника, на воде плавают ряска, листья рдеста и водяной гречихи. Ничего особенного, примечательного здесь нет. Разве что – водяные ужи…
Палатки наши стояли в двух шагах от воды и частенько приходилось видеть, как живая, «синусоида» устремлялась то к прибрежным тростникам, то к середине водоема. Через некоторое время все мы научились различать ужей «в лицо», проплывали чаще всего одни и те же.
– Вон чужак плывет! – говорил кто-нибудь, если у нашего берега появлялся незнакомец.
Все ужи были, конечно, очень похожи, но один чуть светлее, другой темнее, у какого-то ярко-пестрая спина… Один был красноватый, его назвали Медник. Был Толстяк, этот отличался от остальных ужей тем, что плохо нырял, вода почему-то выталкивала его на поверхность. Самого крупного полутораметрового ужа называли Старшиной. Этот был очень серьезен и осторожен, и при малейшей опасности надолго уходил под воду…
В верхней части пруда прямо из воды, торчало сухое разлапистое дерево. Когда-то оно росло на берегу, но построили плотину и оказалось в воде, может, от этого и усохло…
Однажды утром в девятом часу кто-то заметил – то с одного конца водоема, то с другого бегут треугольником мелкие волны, бегут прямо к сухому дереву и там волнение стихает…
Я сел на резиновую лодку и погреб туда же. Подплывал очень осторожно, надеялся увидеть нечто необычное, интересное, старался не шлепать веслами, потом и вовсе, перестал грести. Я всматривался и видел сучки, лохмотья коры, выбеленные солнцем голые кривые ветки, похожие на тонкие узловатые пальцы… А вот – змеи! Лодка все еще двигалась по инерции, приближаясь к дереву. Чтобы остановить ее и не спугнуть змей, пришлось потихоньку опустить кирпич на веревке вместо якоря.
Ствол дерева над водой раздваивался, образуя широкую плоскую седловину. Здесь и собрались ужи полежать и погреться. В центре лежал Старшина, обвив ствол своим толстым, как канат, телом. Был здесь и красноватый Медник, были и другие, и даже мелкие, сантиметров по двадцать в длину, ужата. В седловине, по-видимому, всем места не хватило, некоторые ужи забрались повыше и свисали вниз, как извитые сучья или обрывки веревок.
Иногда какая-нибудь змея шевелилась, тогда другие поднимали головы, и со всех сторон раздавалось чуть слышное шипение.
Не один раз подплывал я к змеиному, дереву, знал их «расписание». Как только начинало припекать солнце, все ужи сползали вниз к воде, и треугольные волны разбегались в разные стороны…
Однажды поднесло к дереву кусок доски, на котором сидела зеленая лягушка. Выпучив глаза, словно удивляясь, она смотрела на свисающих с веток ужей и ни один из них не попытался ее поймать. Я решил, что змеиное дерево – это такое место, где не охотятся, где царит мир…
Сейчас, когда я вспоминаю змеиное дерево и тихое, похожее на шепот, шипение, мне кажется, я чего-то не понял, не смог разглядеть… Почему они сплывались именно в это место? Только ли потому, что здесь было удобно погреться на солнце? Может, была и другая причина? Очень похоже все это на какой-то непонятный, тайный ритуал…
ХОЗЯИН
Когда я остановился на этой маленькой лужайке, окруженной почти со всех сторон колючими кустами чингила, подумал только об одном – какое уютное местечко, какая свежая зеленая трава и совсем неплохо бы здесь отдохнуть и позавтракать. Даже и мысли не мелькнуло, что этот участок кому-то принадлежит и этот кто-то, возможно, вовсе не желает, чтобы я тут задерживался.
Я скинул рюкзак, трава здесь была замечательная, как на футбольном поле, вытащил провизию, нож, фляжку с водой. Потом еще раз огляделся и… встретился с сердитым взглядом чернолобого сорокопута. «Ах, вот оно что, здесь есть хозяин…» – подумал я. Он сидел на сухой веточке чингила и, втянув голову в плечи, хмуро разглядывал меня. Однажды точно такой же сорокопут очень бурно атаковал меня у своего гнезда и «выдворил» за пределы территории; тогда я убедился на собственном опыте, что чернолобый сорокопут – смелая, решительная птица. Этот же пока ограничивался недобрым взглядом.
Мне было очень приятно сидеть, и завтракать на зеленой лужайке, и рассматривать сорокопута. Видимо, и он вполне смирился с моим присутствием, потому что вдруг круто взлетел, упал на траву, что-то схватил перелетел на другую ветку, чуть подальше. Теперь мы, изредка обмениваясь взглядами, занимались каждый своим делом.
Сорокопут часто взлетал и падал в траву, кого-то все ловил. Один раз я заметил в его клюве крупное зеленое насекомое, он улетел с ним, но скоро вернулся и уселся на прежнем месте все с тем же насупленным и недовольным видом. Я решил, что он наколол свою жертву на колючку, – таким образом сорокопуты запасают корм, – потому и вернулся так быстро.
Вот сорокопут снова бросился в траву, но на этот раз взлетел как-то тяжело и шумно. Низко над землей пересек поляну, сел на ветку чингила, в тени и спиной ко мне, так что разглядеть его добычу было непросто. Но чувствовалось, что он поймал нечто крупное. Ему было неловко сидеть, и он повернулся в мою сторону. В клюве висела, извиваясь тонким телом, небольшая змейка – водяной ужонок или молодая стрелка… Я вскочил, мне казалось – он бросит змею, и я разгляжу ее поближе. Но сорокопут перелетел на другой куст вместе со своей добычей. Я опять бросился за ним. Вряд ли он сможет долго перелетать с такой тяжестью, думал я. Но сорокопут снова взлетел и опустился теперь не на вершину, а куда-то за куст. «Устал, – думал я, – не может дотянуть до вершины». Мне очень хотелось отобрать у него змейку. Я с трудом пролез сквозь колючки, но сорокопут и на этот раз взлетел, и опять в его клюве поблескивала живая серебристая струйка.
Сорокопут оказался сообразительней, чем я предполагал. Теперь он опустился со своей добычей в такой чащобе, куда я не рискнул пробираться сквозь колючие, и жесткие, как проволока, кусты чингила…
Делать нечего, я вернулся на свое место и стал собирать рюкзак, удивляясь и досадуя, что этот маленький разбойник сумел так ловко провести меня. Пока я собирался, прошло несколько минут. Из-за кустов вылетел сорокопут и с тем же невозмутимым видом утвердился на своем наблюдательном пункте. Значит, и змею наколол на колючку.
– Быстро это, однако, у тебя получается. Прямо профессиональный палач… – пробормотал я, с неприязнью поглядывая на удачливого, но бессердечного охотника. Вот бы, подумалось мне, найти то место, где он хранит свои охотничьи трофеи. Чего там, наверное, только нет? Да, взглянуть было бы любопытно…
Я шагнул к кустам, но прохода нигде не было, всюду торчали ветки в длинных крепких иголках… Из зарослей вдруг быстро низом метнулась серая птица, и мой знакомый сорокопут стремительно полетел за ней. В развилке чингила было устроено небольшое гнездышко, в нем лежало одно яичко.
Все понятно! Это, конечно, была самочка, и охотник-сорокопут устремился за ней, чтобы задать трепку за то, что она покинула гнездо. По-видимому, он считал, что серьезных оснований для этого не было.
Я почувствовал себя лишним, вскинул на спину рюкзак, и пошел своей дорогой.
УДОД
В полдень, когда солнце как-будто остановилось в зените, идти стало невыносимо. Ноги подгибались от усталости, не хотелось смотреть на белесую, твердую, как камень, землю в щетине желтоватых былинок, что простиралась далеко вокруг. Все будто выцвело от зноя, побелело и потускнело, и только небо оставалось удивительно синим, густым…
Я решил отдохнуть у развалин какого-то нехитрого сооружения, попавшегося на пути. От него остались только неровные саманные стены, да и те уже наполовину обрушились. Чтобы спрятаться от солнца, надо было сидеть, плотно прижавшись спиной к шершавой стене. Но это было намного приятней, чем шагать по раскаленной степи. Я сидел усталый, тупо поглядывая по сторонам, в голове путались вялые, невеселые мысли: «Где только не носит меня, и есть ли этому смысл и оправдание?»
– Худо тут! – сказали за моей спиной раз, другой и третий.
Так кричал удод. И я, как бы включившись в игру, то мысленно соглашался, то возражал ему.
– Худо тут! – говорил удод.
– Да, – соглашался я, – скучно, пыльно и жара нестерпимая…
Он снова произносил кратко, твердо и точно:
– Худо тут!
– А впрочем, – возражал я. – Небо синее… И речка близко, можно искупаться. Ты уж не прибедняйся…
Но удод усердно повторял одно и то же. Я подвинулся к краю стены и осторожно высунул голову. Удод сидел метрах в десяти на обломке стены, сверху круглом, как купол. Перед тем, как сказать свое «худо тут», он наклонял голову вниз, его тонкий изогнутый клюв почти касался лапок. В этот момент едва заметная волна прокатывалась от груди к горлу, и негромкий звук вырывался на волю, после чего голова снова вскидывалась вверх.
Удод токовал, призывал самку. По-разному токуют разные птицы. Очень бурно проходят брачные игры у тетеревов. Захлебываясь от азарта, косачи раздувают шеи, чертят крыльями по земле, сшибаются на виду у самок… Здесь же совсем не виделось страсти, призывы совершались в какой-то тщательной деловитостью, будто главное заключалось в том, чтобы правильно исполнить ритуал, не сбиться, а остальное – не так уж важно.
Неожиданно он замолчал. Я ждал, думал, что вот-вот возобновятся крики, но удод упорно молчал.
«Что же ты замолчал?» – обратился я мысленно к нему, ожидая продолжения песни. Но было тихо.
Я снова выглянул из-за стены… На куполе сидели две птицы. Пышные хохолки на головах, пронизанные солнцем, сияли как короны!
ЦАРСТВО КИСЕРТКЕ[4]
Полоса белого песка тянется среди глинистой равнины мимо поселка Акеспе к самому морю. Это пустыня Малые Барсуки!
Теплым солнечным утром я иду по пескам. В руках у меня крючок на случай, если придется ловить змею, и длинный полотняный мешочек, куда ее можно посадить, на шее фотоаппарат – вид довольно необычный для этих мест. Наверное, по этой причине в отдалении идут, поглядывают на меня и перешептываются местные мальчишки. Объясняться мне с ними трудно – я плохо знаю казахский язык, они – русский. Им любопытно знать, с какой целью я иду по пескам, мне несколько неловко идти под обстрелом десятка пар внимательных глаз.








