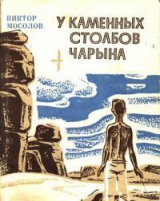
Текст книги "У каменных столбов Чарына"
Автор книги: Виктор Мосолов
Жанр:
Природа и животные
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц)
Вот я присел у куста астрагала – интересно, что это за комарики облепили его листья? Галлицы! Мой эскорт, замечаю краем глаза, устремляется галопом вперед и вот уже все сидят на бархане, переговариваются, усмехаются, обсуждая между собой мое поведение.
Вдруг один из них вскакивает и бежит по песку, размахивая руками:
– Кисертке! – несется крик. Так же неожиданно он останавливается и что-то рассматривает под ногами.
Теперь уже я в роли любопытного, подхожу, смотрю в то место, куда тычет пальцем паренек, повторен незнакомое для меня слово:
– Кисертке!
На песке вижу следы крупной ящерицы, внезапно пропадающие у треугольного углубления.
– Кисертке!
Я все равно ничего не могу понять. Тогда мальчишка сует в песок два пальца и вытаскивает за хвост крупную ящерицу. Агама? Нет! Ушастая круглоголовка! Но такая большая и толстая, каких мне видеть не доводилось.
– Дай мне? – прошу его и раскрываю свой мешок. Он кивает головой и бросает в мешок ящерицу.
Что тут началось! Все вскочили и бросились врассыпную! Мальчишки стремглав бегут по барханам, круто поворачивают, бросаются в стороны, сталкиваются… Через минуту-другую один за другим они возвращаются обратно. У каждого в руке ушастая круглоголовка.
– Кисертке! – протягивают ящериц мне. Я беру двух, больше мне нужно.
– Хватит, – говорю. – Болды…
На лицах мальчишек разочарование.
– Ладно, давайте, – соглашаюсь я, и ящерицы с шорохом сыплются в мешок. Интересно, сколько их можно поймать на таком небольшом участке? Ловцы снова разбегаются и опять несут круглоголовок.
– Болды!
Они, наконец, успокаиваются.
– Зачем? – спрашивает самый старший паренек, кивая на мешок. Я объясняю, как могу – надо фотографировать!
– Давай, фотографируй! – просит он и показывает на песок.
– Ну что ж, можно и здесь…
Я выпускаю ящерицу. Она не убегает, агрессивно распускает малиновые складки у рта, и вся голова ее превращается в страшную кровавую пасть. Она пугает и высоко подпрыгивает, стараясь схватить за палец. Ребята смеются. Был бы на месте круглоголовки безобидный водяной уж, – они бы разбежались. Уж – змея! Ящерица же, хоть и кусается побольнее ужа, им не страшна. Кисертке!
Любопытство ребят удовлетворено, и я больше не представляю для них интереса. Они разбредаются понемногу, некоторые вытаскивают из карманов рогатки и начинают охотиться за ящерицами. По уверенным движениям нетрудно догадаться, что такие развлечения для них привычны. Это меня очень огорчает. Уголок тут уникальный, вряд ли еще где водится столько ушастых круглоговок. Я, по крайней мере, не видел. Но если вот так с рогатками прогуливаться каждый день, то можно всех истребить.
– Не надо! – говорю я старшему. – Не надо стрелять ящериц! Кисертке!
Запас слов, понятных обеим сторонам, иссякает, и я только развожу руками.
Но он понимает меня, что-то кричит охотникам, те прячут рогатки.
Ребята уходят, и, когда они далеко и не могут видеть, я развязываю мешок, выбираю для съемок двух круглоголовок, остальных выпускаю. Одни из них бегут, задрав хвост, другие зарываются в песок, вибрируя телом, третьи принимают угрожающую позу и страшные «уши» их наливаются малиновым огнем. Но, наконец, все разбегаются, а я иду дальше. Уже довольно жарко и нигде не видно ни одной ящерицы. Но повсюду их следы. Много следов в песчаном царстве Кисертке.
КУПАНИЕ
Налетела стайка золотистых щурок и закружила над ущельем со своим характерным не то фырканьем, не то хрюканьем. Голоса щурок очень своеобразные, одни считают их приятными, другие – отвратительными, это, так сказать, дело вкуса. А вот окрашены эти птицы прямо-таки роскошно. В их оперении и желтый, и коричневый, и зеленый цвета.
Щурки покружились и полетели вниз по ручью.
И когда я уже забыл про них, сзади раздался плеск воды…
Оглядываюсь… Солнце висит низко, вот-вот скроется за пологой вершиной горы. Но все – и деревья, и трава, и глинистые обрывы – выглядит в этом вечернем освещении необычно. Над венчиками цветов сияют золотистые полукружья. Вода в ручье отливает тяжелым тусклым блеском, словно ртуть. И в этот ручей одна за другой, как яркие тропические бабочки, падают щурки. Ударившись о воду, они тяжело поднимаются, садятся на прибрежные кусты и отряхивают свое роскошное оперение. Потом снова бросаются в воду…
Там, где они купались, вспыхивала и гасла причудливой формы радуга. Я смотрел на щурок, на радугу и не мог наглядеться. Накупавшись вдоволь, они в последний раз отряхнулись и всей стаей полетели куда-то…
Я подошел к ручью и поднял забытое на траве изумрудно-зеленое перо…
КРЫЛАТЫЕ ТЕНИ
Над зеленью курчавых ив и серебристой джиды виднеется верх кирпичного строения. Это старая, давно брошенная насосная станция. Давно уже умолкли, износились и устарели ее насосы, не найти сейчас в зарослях тростника и кустарника тех полей или, может быть, огородов, на которые подавалась вода по проржавевшим трубам, а здание все стоит, как памятник добротности и прочности.
Берег реки покрыт невысоким тугайным лесом, далеко не девственным, а даже напротив, довольно жалким, изломанным, замусоренным. Но если смотреть издали с возвышенности, то лес вроде бы и прекрасен, и дик. Среди деревьев течет желтая река в желтых обрывистых берегах. А насосная похожа на замок или дворец…
Уже вечер, небо безоблачное, как почти всегда в этих местах. Закат сначала пылает ярко, потом тлеет, тускнеет, будто медленно покрывается сизым пеплом. Тишина… Славно так в этот вечерний час, хочется долго смотреть в гаснущее небо и неторопливо думать. И если бы не поломанные деревья, не обилие мусора на берегу реки, то был бы здесь благословенный край! Храм природы!
Появилась летучая мышь, прочертила кривую ломаную линию, упала и возникла вновь. Вот и вторая, и третья. И уже много их, стремительных призраков, внезапно устремляющихся то вверх, то вниз. Это остроухие ночницы. «Неужели, – приходит мысль, – все эти движения, что так радуют меня и волнуют, совершаются ночницами только для того, чтобы насытиться? И они даже не подозревают, как прекрасны их стремительные зигзаги в густо-красном небе?»
Ничего таинственного, в общем-то, нет. Все давно понятно и разгадано вплоть до известный каждому школьнику способности летучих мышей к эхолокации. И все-таки трепещущие в вечернем небе силуэты вызывают странные и волнующие мысли. Каждый раз смотрю на это, казалось бы, самое обычное для южных сумерек явление как на чудо. Вот живут же на свете необыкновенные существа: кружатся, мелькают, как тени, посылают тонкие, как уколы, звуки. И непонятно, почему так радостно видеть и слышать это…
А утром подходит Петр Егорыч.
– Ты мне поможешь? – говорит он. – Надо отловить и окольцевать остроухих ночниц.
Петр Егорыч специалист по летучим мышам, я ему немножко завидую. Очень интересная специальность.
– Конечно, помогу. С большим удовольствием!
Тогда Петр Егорыч поворачивается к чабану Максуту – юрта его стоит в полукилометре от нашего лагеря, и он частенько заезжает к нам на лошади.
– Вон тот унгур, – показывает Максут камчой на каменистый склон по ту сторону реки Боролдай. – Видишь? У входа дерево растет.
Говорит он на смешанном русско-казахском наречии.
– Вижу, вижу, – кивает Петр Егорыч.
– Я знаю пять унгуров, – продолжает Максут. – В каждом много тысяч жарганат! Что будешь с ними делать?
– Окольцуем и выпустим.
– Почему выпустишь? Лучше убей!
– Зачем убивать?
– Старики говорят – какое место брызнет жарганат[5], будет ала – белый пятно, нехороший болезнь!
– Лишай, что ли?
Максут утвердительно кивает головой, лицо его выражает отвращение, брезгливость.
– Нет, – возражает Петр Егорыч, – не может такого быть!
Наш шофер Филипп Иванович тоже морщится.
– Только сюда их не приносите… – хмуро бросает он.
– А что такое?
– Не надо! На них клопы, клещи и всякая нечисть. Расползутся, как тут жить потом…
– Это верно, есть на них кое-что, – соглашается Петр Егорыч.
Мы берем с собой легкий фанерный ящик, сачок, с длинной ручкой.
– Возьми вот это, – протягивает Петр Егорыч очки с простыми стеклами.
– Зачем они мне?
– Пригодятся… Берет тоже не забудь!
Вброд переходим горную речку и начинаем подниматься по каменистому склону – пещера довольно высоко. Отдыхаем и, когда высыхает пот на лбу, идем дальше. Вот и пещера. У входа растет высокое шелковичное дерево. Из темного входа, хлопая крыльями, вылетает стая голубей.
В пещере густой полумрак, откуда-то сверху падает, как сквозь окно, поток мягкого света. С потолка капает. Сыро и прохладно. Петр Егорыч вытаскивает карманный фонарик. Слабый желтый свет скользит и каменным стенам, трещинам и уступам. Прямо перед нами в центре пещеры сыпучая горка, по форме напоминающая маленький вулкан, – это помет летучих мышей. Слышится тонкий скрипучий писк. В слабом свете уже мелькают бесшумные крылья, проносятся быстрые тени, обдавая ветром. А на потолке шевелится живая и какая-то клочковатая масса.
– Высоковато! – говорит Петр Егорыч. – Пожалуй, не достать.
То, что на потолке, – никакая не масса и вовсе не клочки. Это головы шевелятся с раскрытыми белозубыми пастями. Летучие мыши.
Мы выходим на несколько минут из пещеры. Петр Егорыч находит сухую палку, привязывает к ручке сачка.
– Ну, теперь достанет… Очки надень.
Я поддерживаю его, он взбирается на скользкую каменную глыбину и поднимает сачок… Застойный воздух содрогается от взмахов сотен крыльев. Мелкие острые капельки сыпятся сверху и, как иголки, вонзаются в лицо, руки. Вот зачем очки…
– Что это? – спрашиваю Егорыча.
– Что?
– Капает.
– Моча, – спокойно отвечает он. – Ты уж извини…
Я молчу. Выходим из пещеры, высыпаем из сачка в ящик крылатых мышей.
– Маловато, надо бы повторить, – смотрит на меня Петр Егорыч.
Повторяем… Кажется, достаточно. Теперь быстрее вниз, к реке – эти острые капли сверлят тело, кусают и жгут. Спускаемся медленно, по камням не разбежишься. Но вот – зеленая лужайка у воды. Предусмотрительный Петр Егорыч захватил с собой мыло и мочалку. Я прыгаю в холодный поток и моюсь с таким остервенением, что Петр Егорыч замечает со смехом:
– Полегче! Кожу сотрешь! Можно подумать, что ты никогда не имел с ними дела, а?
– Имел, да не при таких обстоятельствах, – отвечаю я, вылезая на берег.
Я помню летучих мышей с детства. Они появлялись с наступлением сумерек и зигзагами носились над крышами низеньких глинобитных домиков, над нашими головами. Говорили, что они могут вцепиться в голову, особенно в пышную прическу или белый платок. Поэтому нам, мальчишкам, было страшновато – а вдруг вцепятся! Это были самые загадочные для нас существа, какие-то ночные призраки. Никто не знал, где они живут, куда исчезают утром и откуда берутся с наступлением темноты.
Помнится и такой случай. По базару, пропахшему пылью и спелыми дынями, шел мальчишка с железным прутом, на конце которого дергалось, трепыхалось что-то живое. Я подошел и обомлел. Это была летучая мышь! Пасть ее была раскрыта в беззвучном крике, тонкие перепонки крыльев, пронзенные проволокой, дрожали. Я взял прут и стал освобождать мышь, и она куснула меня острыми, как шило, зубами. Я освободил ее, она улетела на своих продырявленных крыльях…
Заглядываю в фанерный ящик. Все летучие мыши крепко держатся за стенки ящика, все мелко дрожат. Дрожь передается от одного тельца к другому, и от этого все их скопище пульсирует, как единый организм. Тут же и детеныши.
– А малышей зачем взял?
– Окольцую и их, – отвечает Петр Егорыч.
– А найдут их родители?
– Выпущу в пещере. Думаю, что найдут…
Пожалуй, мы не успеем закончить работу дотемна. Ведь окольцевать – не только надеть колечки, а еще и сделать записи в журнале, указать возраст, пол и т. п. Поэтому, к превеликому неудовольствию Филиппа Ивановича, мы заявляемся в лагерь с летучими мышами.
Начинается долгая работа. Петр Егорыч записывает в тетради, я кольцую мышей и выпускаю. А время идет, близятся сумерки. Филипп разводит костер, включает подфарники, рискуя разрядить свой аккумулятор. Он готов сделать все, только бы быстрей закончить с этими неприятными для него существами и не оставлять их в лагере на ночь.
– Ну скоро вы там? – то и дело повторяет он с нетерпением и досадой.
– Скоро, почти одна молодежь осталась, – отвечает Петр Егорыч.
Над нами вьются летучие мыши, пролетают низко, едва не задевая крыльями пламя костра. То одна, то другая посылает в пространство тонкий колючий писк и такой же ответ слышится из ящика.
– Кыш! Кыш! Подите вы! – машет руками Филипп Иванович.
Но мыши продолжают кружиться над нами. Одна из них вдруг ныряет в приоткрытый ящик… С минуту все молчат, поглядывая друг на друга…
– Это она за детенышем, – спокойно говорит Филипп Иванович.
– Что ты там говоришь? Ерунда какая-то… – отчего-то сердится Петр Егорыч. Тем не менее, он придвигается к ящику и не спускает с него глаз. Вдруг тяжело вылетает мышь с прицепившимся снизу детенышем и пропадает в темноте…
От удивления все как будто немеют. Напряженная тишина повисает в воздухе. Слышится только негромкий писк, похожий на скрип.
Даже Петр Егорыч, большой специалист по летучим мышам, не ожидал такого.
– Вот это да… – произносит он растерянно.
– Да… – повторяет Филипп Иванович. Глаза его делаются блестящими и круглыми.
В свете фар продолжают виться летучие мыши, делая неожиданные зигзаги и посылая в темноту пронзительные сигналы…
СУШИЛКА
Можно бы не называть ни времени, ни места, где это произошло, случай сам по себе незначительный, но чтобы читатель представил себе, как сочно зеленели горные склоны и каким ярким огнем горели огромные красные тюльпаны, скажу – было это в начале мая вблизи горного хребта Боролдайтау.
Поставив у подножья сопки палатки, мы с рабочим экспедиции Александром Матвеичем решили забраться на гору и осмотреть окрестности. Я слышал о красоте здешних мест, но все оказалось лучше, чем ожидалось. Горы были сложены из известняка, выветренные и округлые. Обычно, в таких горах много трещин, провалов, пещер. Так и здесь. Странно видеть где-нибудь у самой вершины стекающую по камням блестящую полоску воды, хотя снежников на горах и нет вовсе. Это на большой высоте выбиваются грунтовые воды.
Внизу сходились два ущелья и сливались две реки, обе стремительные, как все горные реки. Боролдай голубовато-светлый в белой пене, и я невольно сравнил его с седым умудренным старцем, с правой стороны к нему торопливо бежала, прыгая по камням, резвая мутно-коричневая Кошкарата, по-молодому озорная и буйная.
Пока я разглядывал ущелья, Александр Матвеич опередил меня и теперь сидел, покуривая, высоко на уступе скалы. Он что-то кричал и махал рукой. Когда я поднялся к нему, он молча показал рукой в круглую каменную пишу – в ней лежали грибы, лежали не кучей, не как попало, а аккуратно разложенные на расстоянии один от другого, все шляпками вниз и ножками вверх. Я не очень-то разбираюсь в грибах, но, судя по их виду, принимая во внимание наше местонахождение и время года, я решил, что это белые степные грибы. Было их ровно одиннадцать штук.
– Так сушат грибы, кто знает в этом толк, – сказал усмехнувшись, Александр Матвеич. – Лежат они по всем правилам – шляпками вниз, место выбрано, будто специально для сушки – дождем не намочит, солнце попадает только косое, не жаркое, ветром обдуваются. Настоящая сушилка. Только вот, кто же ей пользуется?
Грибы эти, конечно, принес не человек – нет никакого смысла сушить их так далеко от жилья, даже если бы грибов было намного больше. Скорее всего, сушилкой пользовался какой-нибудь зверек. Я перебрал в памяти всех обитателей этого края и остановился на пищухе. Этого зверька называют еще сеноставкой, за то, что он сушит траву и заготавливает на зиму «сено». Почему бы пищухе не запастись впрок и грибами? Я высказал свои соображения Александру Матвеичу.
– Пищуха, – категорически заявил он. – Больше некому.
Мы недолго прожили около сушилки, всего четыре дня. Перед отъездом я все же забрался на гору и заглянул в нишу. Грибы оставались на прежнем месте, они еще не высохли, но уже хорошо провялились.
Никакого зверька не увидел я поблизости и на этот раз. Тайна сушилки так и осталась неразгаданной, но мы с Александром Матвеичем нисколько не сомневались в отношении ее хозяина.
БОГОМОЛ
В Кзыл-Орде задержались дней на десять. Ждали машину, чтобы отправиться вниз по Сырдарье на полевые работы. Машины все не было. Наш начальник каждый день ходил справляться о ней, а мы, в ту пору студенты, были предоставлены самим себе: читали или слонялись по городу.
Горячая, прокаленная южным солнцем пыль лежала на улицах и длинных глинобитных заборах, на узких листьях и блеклых цветках чахлых кустарничков, посаженных вдоль улиц. Казалось, что белесое безоблачное небо всей тяжестью навалилось на низкие крыши домов и от этого трудно дышать.
В один из таких знойных дней я шел по аллее пустого городского парка. По асфальту навстречу мне двигалось что-то живое. Подойдя поближе, я увидел богомола. Он неуклюже раскачивался на ходу, и тень его на асфальте проделывала такие же странные движения. Богомол бежал прямо на меня и, кажется, не намерен был уступить дорогу. Я остановился и склонился над ним. Богомол ответил угрожающим движением – приподнялся на второй паре ножек, а передние, сложенные наподобие рук молящегося человека, расставил и вытянул в мою сторону. Я продолжал стоять, а он все грозил, размахивал передними ногами, вертел своей треугольной головой, расправлял и снова складывал крылья.
Я решил взять его с собой. Вытряхнул из коробки спички, посадил в нее богомола.
Так уж получилось, что я вспомнил о нем только на следующий день и решил, что он, наверное, погиб от голода и неудобств. Но он был жив. Из щели показалась сначала лапа, вооруженная острыми коготками, а потом и голова с большими глазами, но настолько бледными и невыразительными, что они казались незрячими.
Лаборантка Валя посадила богомола в стеклянную банку и принялась ловить для него мух.
– Богомол – непростое насекомое, – восторженно говорила она. – Мне кажется – он думает… Посмотрите, сколько в его, жестах смысла, важности, как у какого-нибудь крошечного эмира…
Богомол тем временем, как заправский боксер, резко выбросил вперед передние ноги, и муха оказалось зажатой между бедром и голенью одной из них. Не спеша, как будто даже смакуя, богомол съел свою добычу. Ел он немного. За весь день едва управился с пятью мухами. Кто-то подбросил в банку круглого и плоского, как черепаха, растительного клопа, но богомол брезгливо отшвырнул его в сторону. В еде он был довольно разборчив.
В банке было тесновато и Валя установила ветку таким образом, что она поднималась высоко над ее краями. Богомол мог взбираться на самую вершину, а, опускаясь, снова оказывался за стеклом. У него были и крылья, большие, прозрачные, с сине-фиолетовыми пятнами, но он почему-то не улетал. Может, тому причиной было толстое и на вид тяжелое брюшко. Валя подозревала, что это самка, и в скором времени следует ожидать потомства, но, кто знает, может, богомол просто полнел на легких хлебах.
Он то настойчиво скреб передними лапами по стеклу, то разгуливал вверх и вниз, но чаще всего неподвижно сидел, похожий то ли на подсохший листок, то ли на кусочек отставшей от ветки коры. И только треугольная голова его поворачивалась равномерно и бесстрастно, как какой-нибудь механизм. Бывало, что он подолгу сидел головой вниз, ему, видимо, было совершенно безразлично, как сидеть…
Однажды в комнату влетела оса, покружилась, постукалась в стекло, полазила по подоконнику и, наконец, уселась на ветку, на которой застыл богомол в своей молитвенной позе. Он слегка шевельнулся, будто ветром качнуло листок, и начал наводить на осу свой глазастый треугольник. Ловкачом он отнюдь не выглядел, но бросок его и на этот раз был удивительно точен. Оса зажужжала и забилась, схваченная поперек туловища мертвой хваткой. Оса – серьезный и опасный противник! Но богомолу или очень повезло, или он действительно был мастером своего дела. Левая его нога вошла между головой и грудью, осы, правая зажала брюшко, и страшные челюсти осы оказались в таком положении, что никак не могли достать богомола. Не мешкая, он срезал осиную голову, обезвредил ее. Таким образом, опасная оса превратилась в «освежеванную тушу».
И вот однажды, не помню точно в какой именно день, в развилке ветки появилось нечто похожее на маленький выпуклый домик с ребристыми стенками. Это была капсула – оотека, наполненная яйцами богомола, которым предстояло долгое созревание.
В тот день начальник отряда объявил, чтобы все подготовились к переезду на новое место.
На следующее утро разбили лагерь на берегу тихого степного озера с громким, каким-то рокочущим названием – Карарым. На нашем рабочем столе опять появилась знакомая всем банка с богомолом, прибывшая на новое место в Валином чемодане. В экспедиции всегда много дел, но разве трудно поймать для богомола несколько насекомых? К тому же аппетит его заметно ухудшился, одного маленького, кузнечика хватало ему теперь на весь день. Богомол присмирел, стал меньше передвигаться, можно было подумать, что он-крепко затосковал. И вот однажды утром мы нашли его мертвым. Это был вполне естественный конец, ведь после откладки яиц самки богомолов погибают.
Ветка с капсулой перекочевала в Валин чемодан, а по окончании полевых работ – в нашу лабораторию, где и перезимовала на подоконнике среди склянок и цветных горшков.
Наступили теплые дни. Валя время от времени доставала ветку и внимательно разглядывала капсулу, но та выглядела сухой и мертвой.
– Пора бы выкинуть это сокровище, – говорил кто-нибудь, поливая цветы. – Вряд ли что из нее появится. Яйца должны развиваться в естественной среде, а не на подоконнике.
– Разве вам мешает ветка? – спрашивала Валя в таких случаях, и ее оставляли в покое.
Время шло. Земля покрылась свежей зеленью, появились цветы, потом трава выросла по колено, а вот уж и лепестки яблонь посыпались на землю. Наш отряд готовился к новой поездке.
– Идите сюда! – позвала однажды Валя. – Смотрите! Богомолы вылупляются…
Жизнь, скрытая в маленьком жестком кусочке, похожем на обломок коры, все же проявила себя. Через маленькое отверстие в крыше капсулы вылезла личинка, одетая в буроватую оболочку. Как долго пробивалась она к миру, полному света, красок и запахов. Она делала это бессознательно, не подозревая даже, что ждет ее в этом прекрасном и беспощадном мире. Могла прилететь птица, если бы это происходило на воле, и склюнуть личинку. Тем бы и закончился долгий и трудный путь развития… Но она выбралась, оболочка лопнула, и мы увидели настоящего нежно-прозрачного богомола длиной чуть больше половины сантиметра. Как заботливые акушеры мы приняли из чрева капсулы трех молодых богомолов, еще два запутались в тонкой оболочке и погибли, так и не увидев солнечного света. Видимо, комнатные условия все же сказались на богомольем потомстве.
Зато эти трое росли быстро, благополучно линяли, и мы решили выпустить их на свободу.
Странные и хрупкие, но уже грозные для всякой мелочи, молодые богомолы быстро исчезли в путанице травы. По земле бегали муравьи, ползли яркие божьи коровки, жуки, клопы-солдатики. Громко стрекотали кузнечики. И наши маленькие богомолы в одно мгновение стали частицей этой стрекочущей, суетливой жизни…
СОМ
– Никто на свете не знает этого озера! – с волнением говорит мой товарищ по работе Колосков. – Только мы с тобой да рыбаки!
Места здесь действительно дикие. Озеро, о котором говорит Колосков, называется Кундус. За ним следует другое большое озеро, дальше третье, водоемы соединяются между собой большими и малыми протоками, и неизвестно, где кончаются. Вода, поступающая из мутной Сырдарьи, отстаивается и становится прозрачной, как голубоватое стекло. Но вечером цвет воды меняется: она приобретает фиолетовую, оранжевую окраску, а то становится желтой под цвет закатного неба.
– Эй, наука! – слышится хрипловатый голос. – Примите тараса!
– Какого тараса?
– Ха-ха! – в лодке стоит рыбак Миша, одна нога на носу лодки, вторая на корме, и держит в руке пудового сома.
– Такого, наверное, и не видели?
– Не видели…
Миша выходит на берег. Рыбак – настоящий гигант, ростом около двух метров. Лицо его обветренное, красное и слегка оплывшее. С появлением Миши в воздухе завился острый спиртовый запах.
– Почему – тарас? – спрашивает Колосков, кивая на сома.
– А посмотри… Он на запорожца похож…
Действительно, пара длинных вислых усов и широкий, как бы ухмыляющийся рот, придают сому какое-то добродушное человеческое выражение.
– В вентерь заскочил, – говорит Миша, усаживаясь у огня. – Вам такого не поймать. Это что, головастики, – небрежно сплевывает в сторону нашего улова.
Как только мы появились на Кундусе, Миша зачастил в гости, иногда остается ночевать, несмотря на то, что его глинобитный домик стоит совсем рядом, в каких-то двух сотнях метрах. Он любит поговорить, рассказывает нам о рыбацкой жизни, а Колосков растравляет его своими городскими романтическими похождениями.
– Тут крупные сомы водятся?
Миша некоторое время молчит, не отвечает на вопрос Колоскова, потом говорит почти с обидой:
– Какие хочешь, такие и есть… Вот привез – это тебе не крупный?
– Но ведь бывают по сто, а то и по двести килограммов?
– Есть и такие… В прошлом году чабаны с отарами проходили. Переправлялись через узяк на пароме, а собака по воде плыла. Доплыла до середины… Булькнуло – и нет собаки!
– Сом утащил?
– А то кто же? Запросто! Знаю я одну яму, там сом живет, килограммов на двести потянет.
Колосков привскочил.
– Покажи, Миша!
– Все равно тебе не поймать! Это же надо невод заводить…
– Эх, взглянуть бы хоть!
Миша молчал, как бы обдумывая, стоит Колоскову показывать яму, где живет сом или не стоит?
А сом-то, наверное, был. Самка весной, когда прогреется вода, откладывает икру в травяное гнездо, а самец охраняет… Вот такой сом, наверное, и стоял в яме.
– Одного рыбака сом чуть было не утопил, – продолжает Миша. – Купался он возле камышей, да вон там, отсюда видно, и уцепил его соменок за ногу! А зубы у него, хоть и мелкие, но частые, как щетка… Если что возьмет, так не выпустит. Хорошо – камыш близко. Ухватился тот рыбак, выбрался и сома за собой выволок. Небольшой оказался – шестнадцать килограммов, а чуть не утопил…
Миша поставил на стол локоть, поднял вверх кисть руки.
– Давай, Колосок, на спор! Положишь меня – покажу сома, не положишь – не обижайся.
– Да ладно… Уж лучше не показывай.
– Давай, Колосок! – Мише очень хотелось помериться силами, такой на него спортивный азарт накатил. Колосков колебался.
– У меня есть крючок кованый. Привяжешь к сарычку – как раз для того сома! Ну?
Колосков решился, подошел к столу, сел напротив Миши. Рука его утонула в ручище рыбака.
– Раз, два, начали!
Судьба распорядилась не в пользу Миши. Лицо его напряглось, покраснело и через несколько минут рука коснулась стола, а Колосков, морщась, потряхивал пальцами.
– Ладно, выиграл, – мрачно проговорил Миша. Несмотря на свой гренадерский рост, он оказался слабоват, по-видимому, по причине злоупотребления алкоголем. Поражение произвело на него удручающее впечатление.
– Позорником оказался, – мрачно и долго повторял он сквозь зубы.
…Каждый вечер Колосков садился в рыбацкую смоленую лодочку и отправлялся ловить сома. Так продолжалось несколько вечеров подряд. Колосков неизменно возвращался пустым. Чего только не насаживал он на крючок, больше похожий на багор из пожарного инвентаря, но сом не брал наживку, кидался на нее и отпихивал мордой. Но Колосков не сдавался.
– Ты на лягушку попробуй, сомы любят лягушек, – советовал Миша.
…Мы с Мишей сидели на берегу. Вечер был тихий, теплый. Вода в озере отливала золотом. По гладкой поверхности двигалась маленькая головка змеи, наверное, переплывал озеро водяной уж. Вдруг на том месте разошлись круги и змейки не стало.
– Вот так же исчезла собака, – проговорил Миша, глядя на воду озера. – Ты вот сюда взгляни-ка, – он показал рукой под обрыв.
На топком илистом дне увидел я небольшого сомика, почти занесенного илом. Если бы Миша не показал на него, я бы и не увидел.
– Он мертвый!
– Кто? Это он плотву подкарауливает! Усы выставил, шевелит и ждет. Подойдет глупая плотвичка, он и проглотит.
Сомик не двигался и не походил на живого. Я не мог поверить, что он так долго выжидает добычу, даже илом весь покрылся.
– Он мертвый!
– Спорим – живой! – Миша бросил в воду камень. В том месте, где лежал сомик, поднялось облако ила, «мертвый» воскрес и, вильнув хвостом, скрылся в зарослях водной растительности…
В этот момент на блестящей полоске воды появилась лодка Колоскова. Миша взглянул из-под руки и стал медленно подниматься.
– Колосок поймал большую рыбу!
– Откуда ты знаешь?
– Лодка огрузла, не видишь?
Видно было, что Колосков торопится. Он часто шлепал веслами, плескал в лодку. Ему оставалось проплыть метров двести.
– Эй, на галоше! – закричал Миша, приставив ладони ко рту. – Есть улов?
И тут произошло непонятное. Над лодкой Колоскова поднялось нечто, похожее на толстое бревно, сам Колосков взмахнул руками и взлетел в воздух… Там, где только что плыла лодка, теперь поблескивало на солнце мокрое днище. Несколько секунд мы с Мишей смотрели друг на друга, потом разом спохватились и побежали к моторке.
Колосков плавал около перевернутой лодки и что-то кричал нам. Мы втащили его в казанку.
– Там рыба! – глаза Колоскова сияли, что вовсе не вязалось с его бедственным положением. Огромный сом, едва в агонии не утопивший Колоскова, совсем обессилел и едва шевелил плавниками…
На берегу Колосков курил сигареты и рассказывал, сбиваясь, подыскивая слова и помогая себе жестами.
– Сначала было так… Он ходил внизу, отбрасывал головой приманку. Я боялся его, ей-богу! Как он там ворочался – чудовище! И вот он схватил! Лодку рвануло! Почему я не вылетел – не знаю… Он поволок по протокам и плесам! Таскал долго. Потом стал уставать. Вынырнул у борта лодки! Я ударил… багром! Он нырнул и потащил! Длинный он был, как лодка! Он перестал тянуть и не шевелился. И я устал… Думал, не втащу его. Но справился. Очень просто… Голову приподнял на борт, нажал, навалился и он стал скользить в лодку. Голова была на корме, а хвост на носу лодки. Как он ожил? Непонятно…
– Непонятно… – проворчал Миша. – Ожил бы он раньше, подальше от берега, могли бы и не встретиться. Там дно плохое… Ну да ладно, пропустим по сто за то, что обошлось.
Выпили. Колосков рассказывал, но уже не с таким темпераментом, все больше мрачнел, как-то скис и вдруг заявил:
– А он меня очень расстроил.
– Кто? – Миша рот приоткрыл от удивления.








