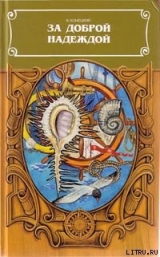
Текст книги "За доброй надеждой"
Автор книги: Виктор Конецкий
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 53 (всего у книги 53 страниц)
Огромные буквы на фронтоне завода: «БОЛЬШИМ КОРАБЛЯМ – БОЛЬШОЕ ПЛАВАНИЕ!» Призыв звучит для нас юмористически. Плывите, мол, ребята, дальше, нечего вам здесь толкаться. А нам хочется совершить миниатюрное плавание – с середины Невы к пассажирскому причалу Васькиного острова. Но нет буксиров.
За кормой 38 000 миль. Это 1,7 экваториального круга. Последнюю ночь мы отчаянно бились во льдах, чтобы сэкономить минуты, ошвартоваться пораньше, и – нет буксиров. Нет для нас и швартовщиков на родном причале. Ждать три часа. Забавное положение. Смотрят на нас с Васильевского острова встречающие, поверившие прогнозам диспетчера, замерзают на ледяном ветру, ничего понять не могут. И мы им ничего не можем объяснить: связь на короткие дистанции – сложное дело. С Луной связаться проще.
Медленно, как январский рассвет, шевелится лед. Девять тридцать утра. Все не спавшие ночь, злые. Голова потрескивает. Мне особенно задержка обидна. После двенадцати – на вахту. А стояночная вахта – сутки. Подменных штурманов не будет, это мы уже знаем.
Убираю в футляры бинокли. Из пяти три разбито. Кто их разбил? Фантомас их разбил. Ничего особенного нет в том, что человек в шторм уронил бинокль, но никто не признался в грехе. Сами собой разбились бинокли. И секундомеры сами собой поломались. И у секстана сам собой отлетел верньер. Нечистая сила, черт возьми. Лупа вот – хорошая, штурманская, двукратного увеличения – в футляре. Напишем, что в ужасный ураган, при крене девяносто градусов, я ее разбил. Заплатим за свою неловкость три рубля сорок копеек штрафа. И возьмем лупу на память об экспедиционном судне «Невель». Как-то не очень я в этот раз привязался к судну. Не выдавить скупую мужскую слезу при мысли о скорой разлуке.
В шкафчике метеоприборов валяется консервная банка с питьевой водой. Четыреста шестьдесят граммов. «Не пейте в первые сутки! Собирайте дождевую воду, заполняйте ею все имеющиеся в Вашем распоряжении емкости (полиэтиленовые мешки из-под карамели и т. д.). Консервированную воду используйте в самом крайнем случае. Для получения воды сделайте в крышке банки два прокола». Это возьмем на память об архипелаге Каргадос-Карахос и погибшем «Аргусе». На память о мифе, который распорол днище на рифе...
В каюте приобщаю лупу и банку к морским дарам. Картонки и ящики набиты битком. Из пальмовых веток и экзотических цветов получился шуршащий веник. Серенький. Время уже высосало краски. Но главное не в красках.
Паломник – от слова «пальма». С пальмовой ветвью возвращались люди из святых мест к родному порогу. И я поддерживаю традицию мирных паломников. А в душе?.. Как там дела с тревогой по поводу бессмысленности жизни? Все так ли тягостно непонимание прошлого и отчуждение от будущего? Способен ли я представить будущее? Или оно исчезает в настоящем, в мелькании ерунды? Одно я знаю точно: если в молодости движение сквозь пространство дарило мне смысл, радость осознанной жизни, то теперь я это утратил.
Последние кабельтовы нас тащат кормой вперед. Портовый буксирчик молотит винтом в ледяной каше. Трос стонет. И вполне может лопнуть. Согласно правилам техники безопасности, при буксировке и швартовых операциях в месте, где работают надраенные тросы, не должно быть посторонних. Мои матросы из кормовой швартовой партии довольны. И я доволен. Мы первыми приближаемся к причалу. Мы стоим у лееров, косимся на стонущий буксирный трос и уже помахиваем рукавицами маленьким человеческим фигуркам на острове Василия, на Васькином острове. Льдины шумят под кормой. На флагштоке развевается огромный флаг. Я случайно нашел в кладовке такую крейсерскую громадину. Пожалуй, полотнище подошло бы и линкору. Флаг победно стреляет, осеняя швартовую партию.
Оглядываю корму. Отсюда началось знакомство с «Невелем». С кладбищенской загородки, сделанной из металлолома для бабушки четвертого механика. Загородку я принял за клетку от акул для подводных работ. Потом корма превратилась в лобное место – здесь матросы убивали скуку, убивая акул. Так и стоит перед глазами первая жертва – акула из Гвинейского залива. Она лежала на раскаленной палубе, опутанная тросами, распластав плавники, похожая сверху на нерпу. Ей вырубали из пасти крюк с приманкой. Из жабр шла кровавая пена. Когда ее переворачивали с брюха на спину за хвост, она начинала биться и ощеривала развороченную пасть. Потом в спинном плавнике ей вырубили дыру, в дыру пропустили трос, к тросу привязали деревянный ящик. Потом ломами вытолкали акулу за борт. Все старались ударить ее, сунуть в пасть доску, ткнуть в незакрывающиеся глаза... Ни одному человеку, кроме меня, не казалось все это диким и мерзким. Но и я скоро привык и глядел на происходящее с некоторым даже любопытством...
– Ба! Ребятки, а где приходные лозунги?
Нет лозунгов. Забыли про них. Не хватило пороху на игру, на шутки. Лень было малевать аршинные слова, крепить их на заиндевевших бортах. А жаль. Хорошие были придуманы лозунги: «С акульим приветом, родственнички!», «В море – горе, на берегу – жена! Ланцадрицца-а-цаца!», «Теперь попадем к тещам, как кур в ощип!», «В загоревшем теле – сгоревший дух!», «Двести десять дней – как одна ночь!»
– Расчехляй вьюшки! Готовь веревки! Бросательные достали? Кранцы за борт! Отставить кранцы! Лед у нас будет вместо кранцев пока! Берегись буксира!
Смерзшиеся стальные швартовы раскручиваются с вьюшек. Сотни черных цикадных трупов вываливаются из тросов, хрустят под сапогами. Они кажутся особенно черными, негритянскими среди инея и снега.
Является Пижон. Дрожит от холода. Просовывает морду за леера, смотрит на медленно приближающийся причал. Бесстрашно-глупый хвост молотит по буксирному тросу.
– Пижон, соблюдай технику безопасности!
Легкий толчок. Приехали. Прикоснулись к родной земле, Васильевским камням, граниту близкой набережной Лейтенанта Шмидта. Еще один круг замкнулся на круги своя. Родные лица на причале кажутся малознакомыми. И некоторая российская стеснительность с обеих сторон. И пограничники с автоматами уже стали к корме и носу. Однако, минуя погранзаставу, голубая четвертинка мелькнула в январском морозном туманчике.
– Все здоровы?
– Все здоровы!
– Ну, слава Богу!
– Не простудись!
– Давно ждете?
– Так в диспетчерской сказали, что вы в девять швартуетесь...
– Буксиров не было...
Мы довольно долго возимся со швартовыми. Лед мешает поджать корму. Колотун. Поземка крутит по необъятной Гаванской площади, по асфальту. Виден троллейбус. Симпатичный, как лошадь.
В каюте быстро переодеваюсь. Приятно надеть черную форму на чистое, беленькое белье. Приятно швырнуть ватник в угол.
Забираю папку с документами и спускаюсь в кают-компанию к таможенникам. Молодая женщинам в сером костюме кажется красивой, несмотря на налет обычной для таможенников зловещей официальности.
На дальнем конце стола устроились пограничные начальники. Пахнет солдатами – сапогами, ремнями, шинелями. Мы все еще за границей, хотя и прижались к острову Василия.
– Знакомы? – спрашивает женщина в сером.
– Конечно, – говорю я, вспоминая приход из Лондона, нехватку вискозы и модельной обуви. Кажется, тогда с нами работала и эта молодая красивая.
– Скажите честно, контрабанда есть? По вашему частному мнению?
Меньше трех часов она «трясти» не будет. Знаю я уже ее тщательность в досмотрах. Догадаются родные уйти с причала, с мороза, с ветра куда-нибудь в кафе или будут толкаться три часа на снегу?
– Думаю, контрабанды нет. Двухгодовая норма – восемьдесят метров ткани. Исаакий закутать можно, – говорю я.
– А косынок много брали? – устало спрашивает красивая.
Говорить за экипаж я не собираюсь. Никто меня на это не уполномочивал.
– Чужая душа и чужая жена – потемки. Вас Валентина Николаевна зовут?
– Да.
Она погружается в бумаги. Я закрываю глаза и погружаюсь в себя. И сразу начинает мельтешить перед глазами лед. Льдины закруживаются в вальсе после удара в борт, лезут друг на дружку, крошатся, опадают... Лед, подсвеченный прожектором ледокола, черный ночной лед, синий рассветный лед, грязный, невский, мелкобитый. Малосольный финский, крепко соленый кильский, пресный кронштадтский... После ледовой проводки такое верчение и мелькание в закрытых глазах сохраняется на несколько суток. Как мотив навязчивой песенки.
... Морской лед преснее морской воды... Замерзая, вода расстается с частью соли, но никогда не забывает о потере и готова вернуть ее... «Мы пришли, ковыляя во мгле, мы к родной притащились земле, бак пробит, хвост горит...» Полная чепуха лезет в голову.
– Спать хотите?
– Есть немного. Я вам еще нужен?
– Нет пока.
Поднимаюсь в каюту и ложусь на диванчик. Дверь, как положено, оставляю открытой. Чемодан и пакеты с морскими дарами тоже во вскрытом состоянии. Паспорт моряка лежит на столе и тоже открыт. С фотографии паспорта смотрит в потолок идиотским фотографическим взглядом мой двойник. Я вдруг вспоминаю времена, когда рядом с фото, согласно международным правилам, в мореходке красовался оттиск большого пальца. Навсегда осталось прикосновение чужой руки, она твердо сжимает твою, сует твой родной палец в чернильную подушку, потом прижимает к обведенному рамкой месту в паспорте, потом палец не отмыть...
Ну скажи мне, море, навсегда я прощаюсь с тобой? Сейчас мне тошно даже подумать о тебе, море. Мне тошно думать о том, что послезавтра будет смотр, отчетные собрания, замерзшие блоки не провернутся, спасательный вельбот будет не спустить, журналы гидрометеонаблюдений окажутся заполненными не по форме, хронометры не примут в навигационную камеру на проверку, так как единственный мастер гриппует; каждый береговой человек, явившись на судно, будет корчить начальника и делать гадости, а сделать тебе гадость ему ничего не стоит... Ну а что ждет на берегу, если посмотреть трезвыми еще пока глазами? Питерская зима, мать сразу заболеет – она всегда болеет, как только я вернусь домой. В аптеку буду ходить за лекарствами. Лекарств нужных не будет. Деньги улетучатся с эфирной скоростью...
Господи, чудится или нет?.. Едва слышное стенание цикады из-под дивана! Вот уж кому сейчас действительно тошно, так это сенегальской цикаде, ей сейчас так тошно, как будет тошно последнему человеку на замерзающей Земле через миллион лет. А мне стыдно стонать.
Просто мы все-таки здорово устали...
Я заканчивал работу над этой книгой в Подмосковье уже поздней осенью.
Воспоминания тихо шумели во мне, как штилевой прибой в гальке.
Я писал о прошлых рейсах, о далеких морях и океанах, а под окном спали сухопутные собаки на холодной траве. И мне часто казалось, что я никогда не плавал в далеких морях и океанах. Быть может, потому так казалось, что нынче я уже стал каким-то иным и товарищи мои стали иными; я узнал о себе и о них больше того, что знал, когда мы вместе возили рыбаков к Ньюфаундленду, осиновые балансы вокруг континента и ученые экспедиции вокруг Африки.
Правдивость – странная вещь. Она неохотно живет в настоящем. Если хотя бы гран правды попадает на бумагу, то ты вытаскиваешь его уже из далекого прошлого.
Я писал о прошлых рейсах, смотрел на собак и жалел, что не попал на очередной северный перегон.
Один сухопутный пес был такой же рыжий, как верхушки пожухлых берез в пасмурный октябрьский день. Его звали Рыжий. А я иногда называл Джеком – в честь давнего детского воспоминания. Другой пес, вероятно, был помесью лайки и овчара. Он был уже стар. Его звали Шалопаем. Он напоминал мне далекий Вайгач и бухту Варнека.
Ничего, утешал я себя, глядя на Шалопая, еще меня занесет на Вайгач и в бухту Варнека, еще стравим четыре смычки якорной цепи в малахитовую воду этой каменной холодной бухты, еще хватит на это желания, и времени, и сил.
Ушедшее лето было жаркое и сухое, горели леса. И ожидалось, что осень будет серой и монотонной, деревья не смогут держать ослабевшую от засухи листву, листья не успеют раскраситься предсмертным румянцем. Но все получилось наоборот. Леса светились оранжевым, багряным, лиловым и даже нежным, по-весеннему зеленым. Деревья засыпали светло и радостно, как засыпают здоровые и веселые ребятишки, потягиваясь и улыбаясь.
Потом на неопавшую листву упал первый, неожиданный еще снег. Он быстро растаял, но успел своей мокрой тяжестью поломать много зазевавшихся молоденьких деревцев и ветки на стариках. И сразу листопад покрыл землю ткаными, плетеными и шпигованными матами. Видна стала из окна моего дома кирпичная стена, скрытая раньше кустарником и зарослями малины. И с каждым днем все глубже и синее делались дали за стеной...
Перечитав сейчас написанное, я опять убедился в том, что выдумать себя и других возможно, а познать себя и других довольно безнадежное дело...







