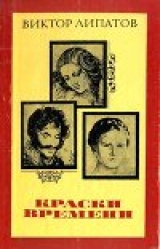
Текст книги "Краски времени"
Автор книги: Виктор Липатов
Жанр:
Искусство и Дизайн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 24 страниц)
"Художник в жизни и должен быть корреспондентом на поле битвы!" Он зарисовывает митингующих, бастующих, возводящих баррикады. Его "Вступление" – реквием погибающей Пресне. Реквием и угроза грядущей грозы. Призрак гибели поднялся над городом, но он обрушится и на палачей. Кустодиев открывает старые альбомы. Разве судьба ранее, когда он помогал Репину создавать полотно "Торжественное заседание Государственного Совета…", не свела его с "вершителями" судеб Российской империи? Теперь он обнажает их подлинную суть: людей, лижущих царский сапог и вешающих восставших рабочих и крестьян. Маски сброшены. В сатирических журналах "Жупел" и "Адская почта" художник публикует серию портретов-шаржей. Победоносцев – сладкоголосый иезуит, ликующий над трупами. Тупые глазки Горемыкина злобно выслеживают кого-то, выглядывая из густой растительности, закрывшей лицо. Дубасов – громила со сплющенной головкой змеи…
Зато с какой симпатией рисует художник путиловцев. Главный герой – демонстрация. Убеждающе передана сила человеческого единения…
Приходит 1917 год – художник все тот же "корреспондент на поле битвы". Революция – желанная, "великая радость". Рядом со словом "Революция" он неизменно ставит слово "работа". В бинокль из окна пытается увидеть, "услышать", приблизить дыхание восставшей улицы. И в несколько дней пишет картину о пробуждающейся Петроградской стороне. Революция – праздник. Грозный, но праздник. Самое программное полотно – "Большевик". Из текущей улицами реки вооруженного народа вырастает титан, высоко вздымающий красное знамя. Оно выхлестывает за пределы картины, вьется свободно над людским потоком. Смел шаг большевика, слышится в нем твердая неуступчивая сила.
В 1920 году по поручению Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов Кустодиев объезжает на автомобиле город, чтобы запечатлеть празднества в честь II конгресса Коммунистического Интернационала. Рождаются картины – "Праздник на площади Урицкого в честь открытия II конгресса Коминтерна" и "Ночной праздник на Неве".
Для оформления Ружейной площади к первой годовщине Октябрьской революции Кустодиев готовит эскизы декоративных панно "Труд". Создает политические плакаты, рассказывает детям в рисунках биографию В. И. Ленина; принимает участие в деятельности Ассоциации художников революционной России…
Кустодиев любил своих друзей, встречи, беседы, споры, веселую суматоху вокруг себя… Читая дневник художника и искусствоведа Вс. Воинова, поражаешься порой – почти каждый день в кустодиевском доме гости. Художник сидел у печки – и "как-то особенно хорошо смотрел на собеседника". Говорить с ним было интересно – много знал. День без книги считал незавершенным, не вполне удавшимся. Случались в его доме и настоящие "дни литераторов": приходил и читал первые главы "Петра I" A. H. Толстой, приводил с собой Вячеслава Шишкова, с которым художник сдружился сразу и полюбил. Декламировал свои стихи А. Блок…
Собирались на заседание члены общества "Мир искусства". Дружили с художником люди, знавшие русскую жизнь, люди талантливые и добрые.
Лицо человеческое "тянуло к себе" Кустодиева с детства.
После революции он начинает писать портреты в "новой манере", насыщая их движением и динамикой. Портрет профессоров П. Л. Капицы и Н. Н. Семенова-предтеча лучших современных портретов. Молодые ученые оживлены, они в добром настроении молодости, таланта и грядущего исполнения замыслов и желаний.
Отвлеклись от разговора, словно приглашают принять в нем участие и зрителя. Интеллект, вдохновение, скромное достоинство, некоторая самоирония и несокрушимый оптимизм. Светлые люди.
Максимилиан Волошин у Кустодиева торжествующий, гривастый.
В 1924 году (тогда и написан портрет) Волошин привез из Крыма в Ленинград свои акварели. Кустодиев рисует поэта на фоне его акварели, изображающей Киммерию, – он почувствовал неразрывную связь Волошина с тем уголком земли, который этот неутомимый странник, философ, поэт, жизописец, искусствовед и литературный критик, великий эрудит, человек души возвышенной и прекрасной, облюбовал себе для постоянной жизни.
Все видеть, все понять, все знать, все пережить,
Все формы, все цвета вобрать в себя глазами,
Пройти по всей земле горящими ступнями,
Все воспринять и снова воплотить.
На портрете этот человек размашисто отшагал «горящими ступнями» и присел передохнуть, раскрыл книгу со стихами… Мятежный, напряженно мыслящий, величественный и земной. Находили, что он вызывал в памяти образ Стеньки Разина. Ничего удивительного в том не было, если вспомнить, что в поэзии Волошина нашли отражение жизни и Разина, и Пугачева, и протопопа Аввакума. Кстати, поэму о последнем наряду с «революционными портретами» – «Матрос» и «Красноармеец» – Волошин читает Кустодиеву в мастерской. Художник очень любил поэта: «Голова и чувства у него золотые, это настоящий, божьей милостью, поэт».
"Похожий портрет – это такой портрет, который внутренне похож, который дает представление о сущности данного человека. И тут нужно предоставить художнику возможность выражать свое понимание этой сущности". В этих словах Кустодиева обоснование его стремления к портрету психологическому.
Справедливо писали, что только портреты Кустодиева составили бы тему для монографии. Врочем, такой темой мог стать и один портрет…
Портрет Ф. И. Шаляпина написан невероятным усилием воли. Кустодиев окончил его и удивился: да я ли смог? В маленькой комнате нарисовать великана Шаляпина, не имея возможности увидеть картину целиком, не по частям.
Портрет написан любовью.
Они любили друг друга. И чудо-артист и богатырь русской живописи.
О Шаляпине говорили: "Эпоха, как Пушкин". А Кустодиева за картины из русской жизни сравнивали с Московским Кремлем. Россия без Кустодиева, как без Кремля – каково сравнение! Две могучие силы соприкоснулись – вспыхнуло вдохновение. Возникли прекрасные декорации Кустодиева к опере "Вражья сила", оттого, может быть, ярче спел певец партию Еремки… И родился портрет Шаляпина: среди 130 изображений великого артиста в живописи и скульптуре – один из лучших.
Кустодиев сам сконструировал приспособление для работы: на потолке блок, через него веревка с грузом – вот и верти раму с холстом в любом направлении, ближе к своему креслу, дальше, в сторону… Приходилось работать, постоянно задирая голову кверху – "как плафон".
Два с половиной месяца отданы портрету.
…Шаляпин стоит на заснеженном пригорке, а вдали, внизу, шумит широкая масленица. Шаляпин нетерпелив и энергичен: "Движение мое неутомимое, беспрерывно… ждет у крыльца моя русская тройка с валдайским колокольчиком… надо мне в дальнейший путь!" Он как будто ушел с ярмарки и размышляет: не вернуться ли?
Во что вглядывается так пристально-нелюбопытно? Может быть, сожалеет-удивляется: праздник и без него идет-гудит. Как в юности, когда был он на ярмарке в Нижнем Новгороде: "Просторно, весело, разгульно текла жизнь великого торжища".
А ярмарка цветистая, хохочущая – обычная кусто-диевская "веселая "драка красок", как заметил А. Бенуа, на обычном знаменитом кустодиевском снегу, взрывается радостно. Чем не фон для столь чувствующего "свою интонацию" Шаляпина? Утверждают: таким, соединенным со своей декорацией, увидел художник певца в опере. Спектакль в честь третьей годовщины Октябрьской революции для рабочих петроградских ударных заводов прошел успешно. Взволнованный, растревоженный приехал Кустодиев домой, настойчиво говорил, что портрет Шаляпина нужен "для истории". Но сын художника вспоминает и о первой встрече отца с артистом, еще до спектакля. Когда с Кустодиевым только было договорено о декорациях. И вот приезжает Шаляпин – он ставил
"Вражью силу" в Мариинском театре. Приезжает и видит распятого в кресле художника. Накатывается жалость, но возникает разговор о будущей постановке, и жалость растворяется в нем. Шаляпин поражается мужеству, собранности, энтузиазму своего собеседника. Поет Кустодиеву партии оперы. Тот слушает и набрасывает в альбом будущие декорации. Тогда-то и рождается желание написать великого артиста на фоне широкой масленицы.

Несколько раз приезжает Шаляпин смотреть эскизы. А когда они написаны, бурно восторгается и решает их приобрести…
После премьеры Шаляпин появляется в мастерской Кустодиева, с порога запевает "Славу" и трогательно благодарит… Художник сразу "увидел" своего Шаляпина. Увидел зимой, когда мороз бодрит, и гулянье от морозного поджига отчаянней и звончей. Пушкин у Кустодиева неизменно связан с осенью, а Шаляпин с зимой…
Он у Кустодиева смотрится этаким барином, владыкой сцены. А присмотришься повнимательнее: это же Федька Шаляпин из казанской Суконной слободы. Вот стряхнет с плеч шубу, этот вятский крестьянин, грянет "Дубинушку" – тогда-то сойдет с шаляпинского лица неспокойное напряжение и дрогнет все вокруг от "песенной хмели"…
Помните: "Похожий портрет… который внутренне похож…" Портрет написан в трудные для искусства, двадцатые годы… Война, голод, разруха. Жесткое, неустоявшееся время, которому, впрочем, искусство было необходимо, как хлеб и оружие. И шла опера в стынущем зале, и, греясь от печки-"буржуйки", недоедая, писал Кустодиев свой лучший портрет, портрет-картину.
С портретом Шаляпин никогда не расставался: хранил "как драгоценнейшее достояние"; может быть, в парижском кабинете разговаривал с прежним Шаляпиным, только русским, не захватанным мировой славой.
Портрет написан как воспоминание, как знак общей памяти и душевной щедрости.
Противоречивый, вспыльчивый, человек ухабистого характера, Шаляпин с Кустодиевым доверчив, ровен, спокоен, ласков.
Замечали в нем "особенную нежность", когда заговаривал о Кустодиеве. Был он верным товарищем: таскал немощного художника на руках с четвертого этажа, добывал машину, привозил в театр и снова, на руках, – в ложу.
Приход Шаляпина – всегда праздник для Кустодиева: словно врывался в комнату огромный, распашистый, насыщенный музыкой и красками мир…
В память о том повесил Кустодиев на свою "любимую стенку" автопортрет Шаляпина, который тот нарисовал во время сеансов…
Невозможно с полным осмыслением происходящего написать, как это свинцово тяжело – не встать на собственные ноги, во всем зависеть от других. И знать, что не встанешь ни завтра, ни послезавтра, никогда. Постоянно – утомляющая боль. Высокая сила спокойного преодоления. Но уже в 1922 году впервые вырываются у Кустодиева слова отчаяния. И все-таки он сражается еще четыре года. Успевает совершить последнее путешествие и попрощаться с любимой Волгой, страной детства. Навсегда остались с ним карусели, разноцветные шары, балаганы, шарманка, ныряние под пароходы. Пестрый астраханский мир. Кустодиев говорил: "У меня и душа-то по природе Астраханка…", имея в виду не только декоративную смесь Европы и Азии, не только причастность к своей провинции – но прежде всего страну детства, ее счастливые дары…
Он успевает попрощаться и с другой страной – музеем Старых мастеров. "…Хочется работать много, много и хоть одну написать картину за всю жизнь, которая могла бы висеть хотя бы в передней музея Старых мастеров".
Когда это написано? Кем? Юнцом, только ступившим на путь служения искусству с пустой котомкой за плечами? Академиком, известным живописцем. И он даже не в сам музей Старых мастеров просится – только в переднюю. "Мы в академии не столько учились у Репина, сколько в Эрмитаже". Болезнь разлучает с Эрмитажем. На помощь приходят друзья. И наступает праздник. В белоснежной сорочке и бархатном пиджаке Кустодиев устремляется в святилище, к своим богам. Друзья проложили по лестницам доски, и он въезжает в музей на кресле-коляске. Художник странствует от Тициана к Веласкесу, затем к любимым "малым голландцам". Й наконец, Рембрандт. Из пяти часов полтоpa проводит возле его полотен. "…10 лет его не видел!.."
Наверное, после этой поездки Кустодиев смертельно устал. Но признается, что чувствует себя так, "как будто выпил крепкого пряного вина".
Он прощается с жизнью "Русской Венерой" – ликующим полотном, словно восклицающим: "Да здравствует жизнь!"
"Любовь к жизни, радость и бодрость, любовь к своему русскому – это было всегда единственным "сюжетом" моих картин", – писал Кустодиев.
Вот что было главным сюжетом – не купеческий быт, а любовь.
На последней грани жизни Кустодиев строит грандиозные планы, грезит фресками на стенах огромных зданий, замышляет триптих "Радость труда и отдыха" – в честь десятилетия Великого Октября. Выпрашивает у Грабаря для этой цели большой холст. Но усталость, накопившаяся и затмевающая, падает на него, давит, становится бесконечной. Кустодиев все еще шутит – искрится неистребимая его усмешка, он рисует шарж на дочку. Но уже знает: все кончено. Говорит жене: "…Больше я не могу работать и не хочу". И сыну: "Мне не хочется больше жить. Я смертельно устал". Не работать – значит и не жить. Не дописал портрет. Не дочитал "Портрет Дориана Грея" Оскара Уайльда:
"Художник – тот, кто создает прекрасное".
Он знал, что создавал прекрасное и честно боролся до конца. Потерпел поражение и победил.
ХУДОЖНИКИ ОБ ИСКУССТВЕ
П. П. КОНЧАЛОВСКИИ
…Я вообще не люблю в портрете давать человека в быту, а всегда стремлюсь найти стиль изображаемого человека, открыть в нем общечеловеческое, потому что мне дорого не внешнее сходство, а художественность образа. Общечеловеческого и ищу я прежде всего в оригиналах моих портретов. И в этом мне много помогают великие мастера эпохи Возрождения, умевшие создавать вечно притягательные портреты каких-то совершенно неведомых нам людей. Суриков верно говорил: «Греческую красоту и в остяке найти можно…»
Портрет 1922 года ("Автопортрет с женой" 1923 года. – Ред.) обдумывался и прорисовывался у меня очень долго. Хотелось, чтобы в нем не было никакой яркости красок, чтобы весь он был насыщен тоном, светотенью. Именно не "делать" предмет, не передавать признаки его вещности, а "писать", вводить предмет в живописную его среду стремился я в этот раз. Композиция устраивалась долго, особенно в руках, пока не расположились они какой-то "восьмеркой". Свое лицо написалось у меня как-то сразу, а лицо жены пришлось работать долго. Так как весь портрет предстояло разрешить в тоне, для жены было сшито особое платье по моему рисунку: черный бархатный корсаж и бронзового цвета рукав. Бархат я многосоставно писал, многими красками, вплоть до индийской желтой. Да и вообще я сильно поработал над фактурой этого холста, много больше, чем в "Агаве", например. Были во время работы и опасные моменты: начиналась порча сделанного раньше, приходилось бросать работу, волноваться за будущее, вплоть до сомнений в своих силах, в умении осилить задачу… Много, очень много было вложено в этот портрет!..
Изучая в музеях и картинных галереях искусство великих мастеров прошлого, я всегда поражался необычайной жизненностью их передачи. Смотришь, бывало, на какой-нибудь веронезевский пир, на эту пышную, как букет, расцветающую красками своих одеяний толпу, до такой степени живую, что, кажется, движется все на холсте. Потом взглянешь на серые, одноцветные и тусклые фигуры посетителей и удивляешься: да это те же люди, та же толпа, что на холсте. Стирается грань между природой и ее воплощением. Достигнуть в живописи такой силы воплощения – вот труднейшая из задач всякого живописца, вот к чему должен он стремиться, по моему мнению. И в этом портрете (в "Семейном портрете" 1917 года. – Ред.), в фигуре дочери я именно хотел спорить с самой жизнью. Другое дело – насколько мне удалось, но я хотел именно этого…
Г. НИССКИЙ о РЫЛОВЕ
Мы пришли в искусство вместе с революцией, и с первых шагов нам хотелось быть современными, честными, принципиальными в своем искусстве, хотелось найти язык, понятный и близкий народу. Уже тогда стремились мы найти свою тему, свои образы, свое, не похожее на других, художественное решение…
Самая великая задача, стоящая перед художником, – быть понятным как можно большему числу людей, раскрывать перед ними красоту родной русской природы, красоту сегодняшнего дня.
Бесконечно важно для художника полнокровное ощущение жизни… Я вижу обыкновенное небо, дома, деревья, шагающих людей. Я пытаюсь соразмерить свой шаг с их быстрым и смелым шагом. И когда я добиваюсь чудесного ощущения общего ритма, вот тогда я становлюсь художником – живым, неустающим, способным понять и связать самые, казалось бы, отдаленные явления жизни, понять жизнь в целом.
Советскому человеку свойственно качественно новое ощущение пространства, которое чрезмерно расширилось, вплоть до космоса.
Эти новые пространственные представления должны войти в сознание художника, овладеть его чувствами. Можно и старый по своим мотивам пейзаж передать с острым чувством нового, заставить звучать по-новому. Современному советскому человеку несвойственно восприятие явлений природы с ее, если можно так выразиться, задворок, с запущенных, глухих уголков. Он ищет новое в самой природе и ждет этого нового я от художника-Новаторство именно в том и заключается, чтобы уметь видеть и передать ростки нового, передать через глубокое понимание и искреннюю любовь к своему родному, национальному, передать через романтическую приподнятость своих чувств.
Вспомним, как вошел в советский пейзаж Рылов. Его произведения красивы и романтичны. Он показал в своих работах наше советское завтра, показал через большую романтическую взволнованность. В голубые просторы полетели лебеди, зашумели зелеными кудрями березки… Рылов заставляет нас думать о светлом будущем, подчиняет зрителя мощному и задорному звучанию картины, заражает своим приподнятым, бодрым настроением…
ЗДЕСЬ БЫЛ ЧЕЛОВЕК
Тяга к философскому истолкованию каждого явления действительности сопровождает все его работы.
К. Ф. Юон
Кузьма Сергеевич Петров-Водкин (1878 – 1939) – русский и советский живописец и график, профессор, заслуженный деятель искусств РСФСР. Театральный художник. Теоретик искусства. Член общества «Мир искусства». Жил и работал в Ленинграде. С 1918 года преподавал в Ленинградской академии художеств.
В мастерскую художник Кузьма Сергеевич Петров-Водкин входил, как можно предположить, не торопясь, приглядываясь, прикидывая, приноравливая глаз и руку, – предстояло тянуть каторжную лямку, как и далеким предкам, крепостным, бурлакам, грузчикам, плотникам.
Принюхивался к краскам, словно к сапожному вару и коже, – запахам, любимым с детства: сапожничал отец.
Да и сыну довелось побывать слесарем, дворником, маляром-вывесочником. Потому он требовал уважения к ремеслу: имей профессию, как столяр или слесарь.

Уже потом он скажет: «Клочок бумаги, обработанный Врубелем, останавливает: здесь был человек».
Здесь был человек, мастер, чей неповторимый след таланта и колоссального работолюбия – в скупых штрихах линий.
Но прежде всего ремесло! И кто же утверждает это – фантазер, безудержный выдумщик, по мнению Максима Горького, – русский родственник немецкого барона Мюнхгаузена… Духовный родственник Тартарена из Тараскона.
В заштатном городке конца XIX века Петров-Водкин ищет жизни необыкновенной, обильной опасными и романтичными приключениями. И потом – всю жизнь выдумывает. Великолепно рассказывает, особенно детям, может быть, потому, что они лучше взрослых провидят в вымысле жизненную истину, явления логичные и закономерные. Это родственник Мюнхгаузена пишет им книжку под названием "Аойя. Приключения Андрюши и Кати в воздухе, над землей и на земле".
Еще в школе случилась с ним курьезная история. Такими славились в прошлом известные живописцы. Хваля Лукаса Кранаха Старшего, современник писал о таком случае: однажды Кранах нарисовал на столе виноградную кисть – прилетела сорока и начала ее клевать. Будучи школьником, Петров-Водкин нарисовал на листе дыру, и все приняли ее за настоящую.
Фантазия его основывалась на реальности, которая требовала ремесла, а ремесло – пота. А потому – тысячи и тысячи рисунков и эскизов. "…Целый день бороздишь город. Закрываешь глаза, чтобы зафиксировать калейдоскопично поступающее в мозг, и – нет подсказа!"
Отчаянной работоспособности Петров-Водкин научился рано. Впоследствии он нарисует могучих людей – налитой, ощутимой плотности ("Рабочие"). Сжимающаяся кисть скульптурной руки – как символ, как вызов: мы все можем!
"Сварливая", как он говорил, жизнь физически закалила Петрова-Водкина, научила мужицкой практичности, сметке, умению прикидываться подчас простофилей.
"Сварливая" жизнь подарила жадность к познанию и во многом не смогла ее насытить.
Он безудержно выдвигал множество гипотез, вечно искал, самодельничал. В иных ситуациях терялся, ему не хватало, по собственному признанию, юности – сразу попал во взрослый мир. Тоскующий о юности человек любовался ею на своих полотнах. Почитаемых учителей – Серова и Врубеля – запечатлел "Играющими мальчиками". Символически, разумеется. Беззаботная игра, борьба, своеобразный танец ребячьей удали. Оранжевые с красными тенями – горящие тела. Для этого пламени необходим и зеленый купол земного шара, и синее небо. Светлый реквием. И действительно, "они кричат, орут и до сей поры". О свежей радости жизни, о неосознанной, геометрической точности движений, которую уловил, более того – сочинил – художник.
Ему не хватало юности, всю жизнь он искал ее. Не в том ли причина, что, по свидетельствам современников, ко многому подходил с неожиданной стороны, сражался с ветряными мельницами, но в его речах всегда "мелькали драгоценные крупицы мудрости… доморощенной, а не взятой напрокат".
Наверстывал упущенное, читал запоем, был завсегдатаем Художественного театра, простаивал в очередях за билетом на Шаляпина, днем рисовал, ночами писал драму… Был сведущ в законах физики, геометрии, физиологии, астрономии…
Жадность познания заставляла его открывать Америки. Он не стеснялся этого. Любил раскрываться, мыслить вслух, рассуждать, не краснея за иные нелепицы, – был естествен, не "работал" на публику. В разговоре искал, сочинял, сопереживал – собеседнику с ним было интересно.
Человек крайностей, в иное время держался в стороне, давал зарок молчания. Затем – мог, например, в пух и прах разругаться на выставке с самым уравновешенным из уравновешенных, Н. К. Рерихом, или весьма нелестно отозваться о ком-нибудь из признанных авторитетов. И если возникали группировки, то, как правило, никто его не считал своим. Одни опасались его, другие обвиняли в консерватизме.
Но зато дружил верно и нежно. С Б. М. Кустодиевым – восемнадцать лет. И тот его очень любил, хотя – при встречах они неизбежно "пикировались". Часто вместе слушали музыку, которую оба любили. А Петров-Водкин к тому же играл на скрипке любимые сонаты Моцарта, может быть, следуя совету Альбрехта Дюрера, – чтобы согреть кровь.
"Сварливая" жизнь воспитала его решительным и рисковым. Упрямому человеку с волевым скуластым лицом солдата, напряженными бровями, целеустремленным взглядом, словно говорящим: я знаю, чего хочу в жизни, – ничего не стоило, скажем, взять напрокат велосипед и покатить за границу (и это на самой заре велосипедного спорта), поучиться, потрогать на ощупь живопись Беклина, Штука, Ленбаха; удивиться на "бесстыдство обнаженных красок" французских мастеров. Ради живописного дела совал свой длинный нос всюду, вплоть до Везувия. Тот ответил свирепой негостеприимностью: присыпал слегка вулканической пылью и пошвырял камешками.
Храбрость его – от жадности рабочего любопытства.
Во время землетрясения в Крыму был там вместе с семьей и не уехал: "Я буду работать. Это такое событие, которое может не повториться…
Жена согласилась, и они остались.
Работяга и фантазер, он хотел стать настоящим искусником или, как еще говорил, – цветочувствителем. За границей на него обрушиваются изваянные из мрамора, отлитые из бронзы и запечатленные кистью фантазии великих мастеров.
Из многочисленных имен западноевропейских живописцев, близких ему по душе, он выделяет особо: "Мадонна с ребенком" Джованни Беллини – одна "из сердечнейших вещей в мировой живописи".
Возьмем на заметку его определение – "сердечнейшая".
Петров-Водкин поклоняется великим мастерам и учится, но исподволь начинает борьбу. Декларативно заявляет об этом, когда доносится до него весть о восстании 1905 года. "…Подождите, не шумите! – вслух кричу я "Персею", и всем статуям, и всему окружению, – вы свои дела сделали, очередь шуметь нам!!"
Тысячи парижских эскизов, африканская серия, первые полотна: "Сон", "Греческое панно", "Берег" – живые картины, театральные представления застывшего движения – изнурительное, повседневное сражение не на жизнь, а на смерть за свое самобытное, петрово-водкинское.
Едва появившись на свет, будущий художник сразу же попал в расписанную караульщиком Андреем Кондратьичем колыбель, которая "как в солнечном свете, над полем песнь жаворонка…". Откроем книгу Петрова-Водкина "Хлыновск" и узнаем о знакомых его детства: иконописце "древнего обычая" Филиппе Парфеныче, между красками которого существовала сцепленность, не будь ее, "…как бабочки, вспорхнули бы"; и о старце Варсонофии-доличнике, кому снились по ночам лица, а изобразить их он не мог; о живописце-вывесочнике Толкачеве с его голыми, базарными, вздорящими между собой красками.
Знал художник и новгородское письмо. "Встречался" с Рублевым и Дионисием.
Суриков, Репин, Васнецов, Касаткин, Архипов, Пастернак, Левитан, Серов, Коровин – длинен перечень учителей Петрова-Водкина. Особо свято для него имя Александра Андреевича Иванова, "основоположника русской новейшей изобразительности".
Не был одним в поле. Чаще это ему помогало, иногда мешало. Но сражение за свою самобытность приносит ему первую внушительную и яркую победу. Картина "Купание красного коня" провозглашается знаменем, вокруг которого можно сплотиться, и водружается над входной дверью выставочного зала.
"Красного коня" сравнивали со степной кобылицей Блока, искали истоки в фольклоре, считали его прародителями карающих коней Георгия Победоносца…
…Рассекается ощутимо упругая и ощутимо живая зеленовато-голубая стихия. Испуганно устремляется к мирному охристо-розоватому берегу рыжий конь. Упрямится, а все же идет в глубину – белый. А красный мощно вырастает из этой стихии. Взгляд его дик, но одухотворен. Конь нестерпимо красен, но не раскален, не обжигающ. Огромен, но легок. И юноша-всадник изящен, грациозен, поводья держит символически; всаднику просто нельзя не держать поводья. Помчи сейчас конь, и не удержать неукротимого бега…
Волевое, упрямое, разумное лицо коня – алого потока жизненной крови, несущей человека. Конь-знамя, конь-символ поднял ногу, сделал шаг и… "Что сбудется в жизни?" – спрашивал художник, переводя дух после многолетней работы. Пожалуй, он был доволен собой.
Время смутное, предгрозовое – 1912 год.
Картина словно пророчествовала. Словно светила.
"Не учить, не развлекать вы должны, а светить… легче… усыплять тайну в душе другого, чем освещать путь к ней", – говорил Петров-Водкин ученикам – открывал им сокровенное.
Он был солнцепоклонником в переносном и буквальном смысле – за солнцем путешествует в Самарканд: "Я полон красок и полотен…"
Для "цветочувствителя" Петрова-Водкина краски – живые существа, населяющие город: его картину. Если им душно и тесно, они ссорятся. Если город светел и тих, им привольно и радостно. А иногда происходят бурные процессы – резкая обостренность одних красок сталкивается с мягкостью других. Возникает движение…
Острым глазом схватывает его Петров-Водкин и хочет продлить бесконечно и успеть запечатлеть, перенести на полотно. Как, например, бешеный порыв бури – в картину "Ураган".
"…Он жив… и в то же время… мертв… Необыкновенная воздушность фигуры, этот полет на невидимых крыльях – удивительны" – так сказал Леонид Андреев о сраженном офицере в картине Петрова-Водкина "На линии огня".
В движении, взаимоотношениях предметы, как люди, выявляют свой характер, а живые существа вспыхивают еще ярче.
Движение – наступление на пространство.
Во Флоренции Петров-Водкин знакомится с творениями Леонардо да Винчи, представляет себе его зримо. "…Напал на проект-рисунок "Эспланады – темпля в пустыне" и взбудоражился от… совпадения моей памятки с этим произведением. Значит, мерещившийся мне… космический масштаб произведения искусства возможен…"
Памятка – посещение Исаакиевского собора в детстве. Ощущение себя частицей огромного неизвестного мира. Прикосновение к тайне, которая иногда умещается в наивный, казалось бы, вопрос ребенка: "Мама, а что такое звезды?"
Это Петров-Водкин назовет ощущением планетарного порядка.
Художники говорили о нем: на земные вещи смотрит как бы по возвращении из космоса. А он от цветастости, от зримой ощутимости, желанности всего земного – по траектории движения – хотел шагнуть в космос. Взглянуть жадными глазами землянина на пространство неизмеримое.
Потому и любил "жадно тоскующего по мировым полетам" Врубеля.
Потому тянулся к масштабам грандиозным. Когда готовилась постановка "Бориса Годунова", грозился: келью закатаю во всю сцену; собирались возводить Дворец Советов, начал проектировать росписи. Не успел…
Хотел сделать глаза жителя земли всевидящими.
И для того показывает предметы сверху и сбоку, окружает другими отражающими плоскостями: чтобы открыть все грани, показать в полном объеме.
Космос манит Петрова-Водкина, о нем он много знает. Его даже избирают членом Французского астрономического общества. Но книга "Поверхность земной коры" – одна из самых любимых. Все начинается с земли. В прошлом именитые и прославленные художники метили свои полотна символическими знаками. Впоследствии лишь скромно ставили инициалы или подпись. Если бы Петрову-Водкину пришлось нарисовать свой художнический герб – наверное, изобразил бы он свою любимую планету – Землю. Самое высокое и почетное звание, по его разумению, – быть художником своей земли. Земли, на которой совершаются поистине космические социальные сдвиги: побеждает Революция, отливаясь в форму невиданного доселе государства.
А Петров-Водкин пишет натюрморты. Этот сорокалетний человек в свитере, наголо остриженный, но с усами и бородкой, с чеканно плотным лицом – лишь впадины у висков, как удары прожитых лет, – полон динамической силы. Переплетаются зеленые, синие, голубоватые плоскости и сферичности неспокойно жизненного фона. Мы видим художника на мгновение отвернувшимся, сосредоточенным… Для того чтобы снова переделывать, вносить свое, рушить и строить.
Но не красное знамя впереди полков пишет художник, а на красном фоне – яблоки. Белые, ало-желтые, зеленоватые – округлые, почти катящиеся, сочные плоды. "Розовый натюрморт" светится ягодами на мерцающей плоскости стола цвета нежного заката. А стакан – хрустальная емкость с животворной влагой под яблоневой веткой.








