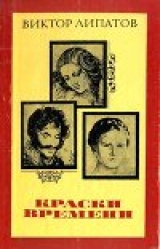
Текст книги "Краски времени"
Автор книги: Виктор Липатов
Жанр:
Искусство и Дизайн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 24 страниц)
Яблоки – символ жизненного налива.
Картина влюбленного, радующегося человека. Невозможно отчаявшемуся человеку так яростно передать свет, идущий изнутри ягод и плодов.
Художник, как потом отмечали, "сальерианского", рационалистического склада – идет в Революцию, бережно неся в ладонях цвета жизни, свою душевную ласку, – и выплескивает их, расчетливо и умно, на холст. В нем пробуждается лирик, человек нежный, обладающий поэтическим даром.
Позже это особенно проявится в портрете Анны
Ахматовой. Она прикрыла глаза, ждет, когда же зазвучит первая строка. Лицо поэтессы некрасиво, напряженные жилы видны на шее, словно вырастающей из скомканной жести одежды. Но затаенная грусть, запрятанная слеза, трогательно поднятая бровь – все в ее лице лучится светлым чувством. Эта женщина готова теплотой своей души согреть и украсить жизнь других…
И еще полотно: на изломе городского окна – верная скрипка. Она не выброшена, не повешена в дальнем углу. Кажется: художник оставил ее ненадолго. Он вернется к окну, чтобы сыграть свои импровизации, может быть, новые мелодии нового времени.
Натюрморты – скрипичные этюды. Вот вам и деление. Для Революции он пишет скрипичные этюды.
Вокруг лилась кровь, гибли за Революцию люди, сражавшиеся за нее: рабочие, крестьяне, интеллигенты. О них, о их героических делах потом будут сложены стихи и песни. И радость цветения, и скрипка были так же необходимы для Петрова-Водкина, как и для его современников. В настоящем, в будущем, всегда. Но прозвучит и щемяще-скорбная мужественная нота… Мастер создаст яркий документ, весомей многих протоколов и резолюций. На розовой скатерти картофелины, ломоть с геометрической точностью отрезанного хлеба – ни крошки лишней (не зря же доверяли Петрову-Водкину делить академические пайки), и на жестком листке красивой синей бумаги – беловато-желтоватая с голубыми отсветами и ржавчиной, будто кованое изделие, сплющенная селедка. Памятник времени. Участник тогдашних знаменательных событий, несомненно, повесил бы эту щемяще-правдивую картину у себя в доме. И в дни грядущие стала бы она ему отрадой и символом нравственного очищения. Как боевая шашка, как первый орден на красных ленточках…
Петров-Водкин не спешит "отобразить" оптимистическую трагедию свершающегося. Эта тема долгие годы будет жить у него в сердце, а потом сразу, как птица, вырвется на волю. Он не спешит, ибо к сражавшимся за правое дело красногвардейцам и красноармейцам относится, как сам признавался, с нежностью.
Но перечислим его революционные обязанности: член комиссии по делам искусств при Петроградском Совете, член Особого совещания по делам искусств, член комиссии по реформе Академии художеств, член Совета вольной философской ассоциации; профессор, избранный студентами… Петров-Водкин выступает с докладами об искусстве будущего. Он неуемен и как организатор. Ко всему прочему, создает проект и осуществляет оформление одной из петроградских площадей к первой годовщине Октября…
В облике Петрова-Водкина находили что-то от Востока, от иконы, приписывали ему азиатскую замкнутость и мистическую неподвижность…
Но святые лики у Петрова-Водкина не получались. Как сказал о его первой иконе протопоп: "Плясовица… Глазами стрекает… Святить не буду!"
Плясовиц рисовал Петров-Водкин.
Портрет девушки – портрет существа неземного, этакой Аэлиты, полюбить ее нельзя и поклоняться не хочется – стыло-жгуч, как замерзшая сталь, ее взгляд. Диковатые глаза вносят дисгармонию, душевный разлад, отталкивают.
Вспомним о мадонне Беллини: сердечнейшая…
Плясовицы станут у Петрова-Водкина сердечнейшими и заживут на иконах нового времени. Напишет он Мадонну Революции – и никто потом не создаст такого трогательного символа. Женщина на балконе людной и холодной петроградской улицы – словно сама Революция. Она в белой косынке, работница. За спиной полощется, нет, застывает чеканными линиями знамени красная накидка. Люди внизу ныряют в арочную синеву, идут по тускло-матовой мостовой еще как-то неприкаянно. Свершились огромные перемены. Мир смещен, мир строится. А женщина, олицетворяющая жизнь, женщина с лицом цвета рабочего загара собранна, внимательна, пытлива. Ей обеспечивать будущее маленькому человечку на ее коленях. Свою гордую силу словно переливает она из своей руки в руку малыша.
Позже художник вернется к этой теме, нарисовав в хаосе "Композиции" женщину с ребенком. Ей еще претит мирская неустроенность, но отворачивается не брезгливо, а от пыли, бьющей в глаза. Ребенок же тянет руки к изломанным линиям. Ему их переделывать, созидать невиданные доселе конструкции…
Пройдет четырнадцать трудных лет, пока сумеет художник переплавить фантазию, впечатления, отделить ненужные наслоения, найти путь от Мадонны революционного символа к Мадонне революционного действия и вновь рассказать, о днях, которые потрясли мир.
Мы, оглядывая комнату, не сомневаемся: да, 1919 год. Смята и брошена на табуретку газетная жесть. Розовые стены, тепло-коричневый пол, цветок, ломоть хлеба на серо-зеленой скатерти – домашняя гармония вдруг взрывается яркой оконной синью. Двадцать один тридцать пять на ходиках. Тревога. Наступает Юденич. Глава семьи, очевидно, возьмет винтовку и уйдет…
Мы не найдем на картине художника, но здесь он – неприметный, бритоголовый, скуластый. Где-то в дальнем углу. И не в оконную грозу смотрит, не на мужа, не на женщину в красной юбке. А на девочку, которую та прижимает к себе. Испугана девочка, но в глазах надежда: все будет хорошо?
И верится нам: знает художник – не просто, не скоро, но все будет хорошо.
Девочка вырастет, наденет красный платок, станет комсомолкой. Хороша она, женственна, тонкие брови, резко прочерченная молодая сила, плясовица, которой молиться не надо – идти за ней, куда позовет…
Или станет "Девушкой в сарафане" из рабоче-крестьянской семьи, спокойно-величавой держательницей мира. Впоследствии критики дружно определят, что художник по-новому, но и традиционно – от икон Андрея Рублева – рассказал о русском типе женской красоты.
Она станет женщиной. Однажды "За самоваром" произойдет немой разговор. Смещенные в плоскости предметы – движущаяся, зыбкая граница. Внимательно-вопросительное, выжидательное выражение лица у мужчины. И женщина не безмятежна, загадочна, размышляет о причине их спора, размолвки. Она станет матерью…
Первые шаги ребенка – ах, как радуется мать, как неожиданно замирает рядом с ней девушка – придет и ее черед выполнять ответственную женскую миссию…
Пришел новый мир, и ушли с полотен безмятежные, счастливые и укоряющие лица богоматерей, призывающие к думам о бренности суеты житейской, к страстям, запрятанным в глубине душевных тайников. Работницы и крестьянки, которым поить, кормить, обихаживать семью, и нести на себе житейские заботы, и жить ясно, открыто, заняли их место.
Но не перестали они быть мадоннами.
Многие утверждали, что лишь впоследствии нашел
Петров-Водкин содержание своих картин в жизни народа. А равнина русская и меловые горы за Хвалынском – Хлыновском, и леса, и Волга – всегда жили в его сердце.
"…Только в Хлыновске бывают такие весны".
Стал он поэтом будней, как верно подметили собратья по перу. И не мог не стать им.
"Полдень. Лето". Реквием отцу.
История крестьянской жизни на Волге с ее суденышками, изломами кустарников и деревьев. Встреча косаря и девушки; мать с младенцем; подпасок со стадом; мужик в красной рубахе колет дрова; спят косари – муж и жена… А вот и проводы кого-то из близких в последний путь…
Гордо красуются на первом плане медовые желтые яблоки, и мальчишка тянет к ним руки.
Картина многопланова, как будто в ней перемешаны иконные клейма-жития. И в то же время целостна, ибо сама природа мягкими, приглушенными красками оттеняет, как главное, обыкновенную жизнь человека труда.
Программное заявление художника: кто он и откуда есть родом.
Потому выступал он в юности, по его словам, "на демонстрации протестов с "долой" и "да здравствует" под казачьи нагайки…".
Потому Петров-Водкин стал живописцем и летописцем Революции: "Любовь моя тяжкая гиря ведь…" Художник убежден: он сможет передать ритмы и цвет своей эпохи: мерцающий, летящий, побуждающий к дерзанию.
На его автопортрете лишь резкие линии от носа к губам придают самоуверенному выражению лица некоторую скорбность, сомнение. Взгляд испытующ: художник подобен боксеру, отброшенному в угол и готовящемуся к новой атаке. Он действительно пойдет в атаку и напишет лучшие свои полотна. Постареет, потощеет, но выражение упрямой уверенности не выцветет, только приобретет оттенок какой-то фанатической обреченности. Все ли, что мог, он сделал?
Снова вернется к "Красному коню", посадит на него уже опытного всадника, пустит вскачь по крутым склонам. Синеют горы, пропадают домишки городка (волжской ли, другой земли?) и летит-летит красный конь. Фантазия о Революции.
Фантазия – убийственная вещь, когда для нее нет выхода в реальное событие! Так скажет художник и напишет полотно "После боя". Погиб командир. Через плечо пулеметная лента, за поясом гранаты, в руке винтовка. Он уже в том синеватом мире, откуда нет возврата. Он уже воспоминание, которое не забывается никогда. Пал с честью, вечная слава герою!.. А жизнь продолжается, и ее цвета господствуют в картине.
Комиссар в кожаной куртке без излишнего трагизма прощается с товарищем. Уста его закрыты, но поза динамична. Рука сжата в кулак – павший оживает в нем – и переходит к молодому бойцу в папахе. Вдохновенному поэту. Красный шарф усиливает это впечатление. Кольт за поясом, руки отталкиваются от стола – сейчас он пойдет воевать с мировой буржуазией, беззаветно преданный великой идее, ради которой погиб командир.
И торжественно оплакивает последнего третий боец.
Но погибнет и комиссар.
У картины "Смерть комиссара" на Венецианской международной выставке будут останавливаться, сидеть, задумываться о событиях, происходивших в огромной стране на востоке.
…И падает комиссар. "На той далекой, на гражданской". Плавно опускается к земле. Еще рука сжимает винтовку, стремительное движение – только вперед! – еще влечет неудержимо, но уже встречный удар пули останавливает его. Комиссар словно парит над землей, лицо его повернуто вслед атакующим бойцам. Не слова прощания в его взгляде – комиссар не думает о себе, он там, в атаке, где кипит бой… Но, роняя винтовку, подхватывает почти убитое Комиссарове тело красноармеец, надеясь вернуть его к жизни и понимая непоправимость случившегося.
Колеблющееся мгновение замедлил на полотне художник – оно происходит, повторяется вечно. Смерть коммуниста в бою за правое дело, дело революции.
Лицо комиссара уже оттеняет грустное недоумение отрешенности и сожаления, запрокидывается голова, опускаются отяжелевшие руки. Он погибает, как бы врастая в бойца. Гибель героя и мотив пьеты – совпадают: идет бой, изящные облачка снарядных разрывов плывут в воздухе – некогда долго оплакивать. Скорбную муку, горькую нежность выражает лицо бойца, поддерживающего комиссара. Слепое от горя лицо. Мелодия тоски пролилась в мир. Погиб герой. Умерла частица души тех людей, которые бесповоротно уносятся в водоворот сражения вслед за огоньком Красного знамени. Бойцы "уплывают" за горизонт, лишь один оглядывается на комиссара. Тревожно бьют барабаны. Вперед и вперед! И бойцы устремляются вперед, за округлый бок земли… Пестрый ковер земли, изрезанный оврагами и украшенный камнями (они кажутся россыпью драгоценностей). В голубовато-розовой дымке открываются дали. Пейзаж ласков. Земля красива. Земля Родины, которую комиссар хотел видеть счастливой. Земля, которую завоевывают и защищают с надеждой.
Округлый бок земли. Художник смотрит на изображаемое как бы сбоку и сверху, подчеркивая тем самым сферичность пространства. Его бесконечность. Этот "космический" взгляд, свойственный творчеству художника, утверждает значительность мысли: комиссар погибает за правду всей земли. И потому он бессмертен, потому нет в картине безысходности горя, потому бесконечно движение отряда революционных бойцов вслед за Красным знаменем. Они уходят в легенду, в вечность.
Картина "Смерть комиссара" – оптимистическая элегия.
Очевидно, не случайно для главного образа позировал Петрову-Водкину поэт Спасский. У комиссара умное, тонкое лицо и могучие рабочие руки. Воин, частица массы и человек возвышенный. Не впадая в аффектацию, негромко, но выразительно, истинно поэтически сумел художник воспеть подвиг героев гражданской войны, красноармейцев.
Картина написана в 1928 году, к 10-летию Красной Армии.
Создавая монументальные полотна, Петров-Водкин и в жанре портрета проявит себя тонким психологом.
Вот большелобый, артистичный Андрей Белый. Широкий рот не уродует лицо, а диспропорцией лишь усиливает странную индивидуальность лепки. Прозрачные глаза обещают пророческое слово, впервые и всерьез.
У писателя С. Д. Мстиславского лицо словно вырезано из отлежавшегося под дождями и ветрами корневища, по извилинам которого прочтешь нелегкую 5ио-графию. В дубленую древесину вмонтированы драгоценные камни глаз. Они кажутся чужими, они словно вырываются, словно пытаются осветить путь, грядущий и нелегкий.
Человек захлебывающегося воображения, высекающий острым умом из твердого кремня повседневности искру вдохновения, Петров-Водкин пишет не только портреты, сюжетные полотна, пейзажи, натюрморты, оформляет спектакли, иллюстрирует… Взыскательный читатель, художник М. В. Нестеров сравнивает прекрасное, по его мнению, писательство Петрова-Водкина с "Семейной хроникой" С. Т. Аксакова.
"Оно янтарными бусами сверкнет на морозном солнце и сольется обратно в гущу янтарей".
Это о зерне.
Или: "Август – это во всех ртах яблоки".
Цитировать афористичные повести Петрова-Водкина – "Хлыновск", "Пространство Эвклида", "Самар-кандия" – можно бесконечно.
Три повести, двенадцать пьес, двадцать рассказов сочинил многоликий Петров-Водкин.
Он представлял новое Возрождение, которое началось у нас в России в канун Революции и вызвало к жизни десятки дарований, "явлений невероятных", когда она свершилась.
Петров-Водкин называл его возрождением самой сущности живописи, ее реализма. Призывал: отвечать за все до конца! Но порой в угоду "демагогически-вульгаризаторским" критикам отдавал предпочтение своим "сальерианским" чертам характера и писал картины, которые теперь называют слащавыми. Но их число ничтожно.
Петров-Водкин признан прижизненно: профессор Ленинградской академии художеств, заслуженный деятель искусств РСФСР. В 1936 – 1937 годах в Ленинграде и Москве – его персональные выставки. Вышла небольшая монография, где говорилось, что он "…является одним из крупнейших советских художников" и "в последующие годы стремится выйти из формалистско-стилистического тупика". Последнее мнение, очевидно, все-таки возобладало.
Но состоялось и второе рождение Петрова-Водкина. Ошеломленные зрители уходили с выставки, узнав о существовании "великого русского художника XX века"; ощутив, как сказал француз Пюви де Шавани, один из любимых художников Петрова-Водкина, чего может достигнуть художник, который не был бесплодным и бесчестным.

ХУДОЖНИКИ ОБ ИСКУССТВЕ
А. А. ДЕЙНЕКА
О чем я мечтаю? Мечтаю украшать архитектуру цветом, чтобы она была веселой, писать фрески или набирать ряды мозаик, чтобы они были эпосом наших дней. Чтобы они были ритмичны и выразительны, как сама – природа, и человек себя чувствовал среди них смелее, полнокровнее и богаче.
* * *
Есть непреложное в ритме молодости, смелости. Мужество имеет свою динамику. Новое – свои живописные планы. Поэтому я люблю писать людей, познавая их внутренний мир через их видимый, зримый ритм, писать пейзажи в их закономерной стройности; поэтому человек у меня не расползается в живописном месиве, а строится как цветной, объемный, четкий образ.
* * *
В наше время существует изумительное слово «новаторство». Во всем прогрессивном, искреннем, ищущем мы видим корни этого понятия. Новаторство придает новый, более глубокий смысл трудовым процессам – будь это на заводе, в полях, в лабораториях ученых. Наше новаторство вытекает из социальной природы нашего общества. Вот почему художник должен особенно глубоко присматриваться ко всем новым явлениям, находить в них пластику, живописную красоту, формы, раскрывающие духовный мир советского человека.
* * *
Я люблю спорт; Я могу часами смотреть на бегунов, пятиборцев, пловцов, лыжников. Мне всегда казалось, что спорт облагораживает человека, как все красивое.
Мы очень разбрасываемся, мы живем в беспокойное время, уж очень много на нашу долю выпало впечатлений. Может быть, поэтому мы так внимательны к человеку и его человеческому достоинству.
* * *
Народ предлагает художникам решать трудные, но заманчивые задачи – работать над образом нашего современника, гармонически сочетающего духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. Моральный кодекс строителей коммунизма включает в себя высокие нравственные принципы – любовь к Родине, к труду, чувство товарищества. Вот за что надо бороться сегодня, вот что главное в искусстве сегодняшнего дня. В наше творчество войдут и заботы о красоте квартир, парков, городов, одежды, предметов обихода. В быт придет разумная красота, утилитаризм должен сомкнуться с эстетикой. Деятельность художника включается в круг здоровых потребностей человека. Непочатый край работы для художников хороших и разных.
* * *
На Западе особенно часто понятие свободы прилагается к сфере искусства, и мы вправе поразмыслить над этим… Слово «свобода» несет в себе широкий смысл, и, может быть, прежде всего гражданский смысл. Говорят, что буржуазное искусство свободно. Но ведь и рантье, и художник в капиталистической стране целиком зависят от конъюнктуры рынка. Их искусство не несет свободы народу, да, по сути дела, оно и не нужно ему. Оно идейно безлико, а значит, лишено осознанного смысла и непонятно окружающим. Пропаганда всего больного, бесперспективного – можно ли это назвать свободным творчеством? Самый свободный человек не поведет машину навстречу идущему потоку. Свободу любят, за нее борются, потому что свобода – это счастье. Свобода общества и отдельного человека неразделимы. Человек не может быть равнодушен ни к новым открытиям, ни к настоящему новому искусству. Наши люди великим напряжением заслужили право на прекрасное искусство, заработали право утверждать на земле мир, счастье, дружбу, право бороться за свободу, утверждая на земле коммунизм…

КАК СВЕТЛЫЙ ЛЕНЬ И КАК ЗАГАДКА
…Вы достигаете удивительной силы и убедительности. «Пыланье» юга выражено как ни у кого.
А. Бенуа – М. Сарьяну
Мартирос Сергеевич Сарьян (1880 – 1972) – Герой Социалистического Труда, народный художник СССР, действительный член Академии художеств СССР, лауреат Ленинской и Государственных премий. Жил в городе Ереване.
Они вернулись из странствий в Армению молодыми. Сорок один и двадцать пять – возрасты, которым равно свойственно нетерпение дерзания. Они вернулись в свою Армению, ставшую советской. "Маленький печальный Ереван, – напишет потом Сарьян, – начал улыбаться и вскоре засиял как солнце". Они вернулись на родину, чтобы не оставлять ее никогда. Чувство большее, чем дружба, соединило судьбы уже зрелого мастера Сарья-на и молодого поэта Чаренца – любовь к своей земле, искусство, революция.
В 1923 году Сарьян написал портрет Чаренца. В том же году он создал картины о своей любимой, ставшей свободной Армении. Звучит хорал о вольном отчем крае. Горы – гигантский орган – дарят музыку полуденной тишине, зеленым садам и полям, древнему монастырю, синей реке. Слыша эту музыку, танцуют на крыше армянского дома женщины. "Горы" – синеватые, мягко-зеленые, зеленые с синеватым отливом, ярко-пестрые и огненно-красные – расстилаются до горизонта, подступают к селению, к желтому полю, которое пашет пахарь… Сарьян, сын крестьянина, написал мирный край и мирный труд; землю, празднично засиявшую всеми красками под солнцем радости и свободы.
"Я привкус солнца в языке Армении родной люблю…" – так сказал Чаренц.
Сарьян нарисовал его в гимнастерке. Нарисовал солдатом, отстоявшим свободу.
"Поэт всегда с людьми, когда шумит гроза" – эти слова Брюсова предпослал Чаренц своему "Красному сонету". Поэт вошел в грозу гражданской войны под знаменем цвета Революции. Он был среди тех, кто защищал Царицын. Сражался против дашнаков. Ранее слагавший песни бледнопечальной девушке, в горниле этой борьбы становится, как сам писал, солдатом, трибуном, большевиком. Поднимался в атаку, ходил в разведку, слагал стихи и поэмы о том, что пришли "неистовые, как гроза…".
Он был среди неистовых. Он – "красный поэт". И сонет у него красный, и "красные вихри пошли по всем дорогам…", и год – красный…
Сарьян очень любил Чаренца и его стихи.
Он написал портрет, сложный по своему содержанию, как сложен был сам Чаренц.
1923 год для них обоих – год радости, надежд, окры-лений. На фотографии того времени Сарьян, ученик великих русских художников Серова и Коровина, уже признанный мастер – он полон искристой энергии и уверенного ожидания. У него живые, знающие, быстрые глаза. Он не только пишет картины, но и принимает самое деятельное участие в создании художественного музея.
Чаренц возвращается в Ереван известным поэтом – в Москве выходит двухтомник его стихов. В 1923 году он заканчивает роман "Страна Наири", сатиро-драмати-ческую поэму "Кавказ – Тамаша", откликается на болезнь Ленина стихотворением "Я и Ильич"… Большой интерес вызывает его доклад "Современная русская поэзия…".
Сарьян нарисовал поэта-солдата, чья "песнь летит стрелой к заре грядущих дней"; нежного лирика, хранящего "любовь-ожог в груди…". Мужественного человека. У него волевое, крепкой лепки лицо. Он принял решение, он не отступит, он размышляет. Напряженная и жесткая складка у губ… Он ясен, как светлый день, и он – загадка. Египетская маска цвета обожженной глины брошена художником на ковер, как смятенная судьба, как лицо трагедии; страдальчески изломаны брови, замкнута линия скорбного рта, вечный вопрос застыл в широко распахнутых глазах. Сарьяну всегда нравились мудрость и навеки застывшие чувства масок.
Чаренц как будто не обращает внимания на маску. Он упрям и провидящ. Уже не заявляет: "Я скоморох", но еще не избыл сверхочарования поэзией железа и пара; "электричества блеск волшебный" для него в ту пору равен свету восходящего солнца. Но в том-то и была волшебная сила Сарьяна-мастера, Сарьяна-художника, что он, может быть, знал Чаренца лучше, чем поэт сам себя. Сарьян показал его незастывшим, движущимся, меняющимся. "Мы сейчас уже не там, где были минуту назад, секунду назад". Так говорил художник. Он запечатлел на полотне поэта, уходящего от сумятицы юности и приходящего к постоянству зрелых размышлений. Двадцать шесть Чаренцу, а на портрете дашь ему больше.
Чаренц, испытывающий себя, ускоряющий время, вопрошающий жизнь и– себя. Кажется, откроются его уста и скажет он много красивых, сильных, вещих слов. Что и произошло, как предсказал художник, – впоследствии назвали Чаренца "одним из самых талантливых, выдающихся поэтов…".

Сарьян нарисовал его в гимнастерке – он знал, что Чаренц останется солдатом всегда. Он уронил в его мужественное лицо, смоделированное тенями – отсветами гимнастерки, зернышко сомнения – понимал Чаренца-мыслителя; показал его чистым и бескорыстным, каким всегда остается большой поэт: «…Душа – это все, что имею…»
Чаренц – на фоне ковра, коричневые цветы словно звезды на синем небе, и вспоминаешь строки: "Я – звездный поэт…"
Это один из лучших портретов Сарьяна, показавший образ земного звездного поэта. Портрет впитал краски армянской земли: гимнастерка цвета весенних лугов, желто-коричневые полосы фона – цвета солнечных полей; маска цвета терракоты, характерного для древне-армянских строений, ковер – синева неба… Яркая цветовая гамма создает психологическое напряжение, рассказывает биографию поэта и пророчит… Не зря сравнивали Сарьяна с Матиссом и Сезанном.
Пройдет время, Сарьян напишет очень много картин. Станет варпетом: мастером, учителем. Крупнейшим мастером живописи, повелителем чистого и жаркого цвета. Народ Армении при жизни возведет ему памятник – на улице Московян стремительно поднимется гордое здание музея Сарьяна. Проходишь его залами, слушаешь тишину и видишь свет. Картины рассказывают о любви человека к своей родине и к жизни…
Стоит на высокой горе арка со стихотворной строкой – памятник Чаренцу. Сарьян часто бывал там.
Чаренц никогда не умирал для Сарьяна. Пыль времени мгновенно заносит лишь временщиков. А Сарьян написал поэта таким, каким тот и был, – вечным. Почему? Вот как Сарьян отвечал на этот вопрос: "Человек – он весь в делах своих. Ни в чинах, ни в звании, ни в орденах, только в делах своих рук, своего ума. Только то, что ты сделаешь для людей, о тебе и будет напоминать потомкам".
Сарьян говорил, что народ бессмертен. А поскольку и он и Чаренц были верными сынами своего народа – кистью и словом живописали биение его сердца и высокие движения его души, – бессмертны и они. Никогда не умирают хорошие художники, хорошие поэты, хорошие люди.








