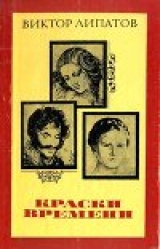
Текст книги "Краски времени"
Автор книги: Виктор Липатов
Жанр:
Искусство и Дизайн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 24 страниц)
Иногда он жил радостно. В это трудно поверить, глядя в его недоверчивые, тоскливые, "глухие" глаза ("Автопортрет"). Без гроша, без приличной одежды, с коркой черствого хлеба и горстью каштанов, одинокий в кипящем людском море, – он жил радостно, когда брал в руки кисть, когда возжигал масло в светильниках искусства. Ради этого ему хотелось прожить не одну жизнь – хотя бы две… Но добрый гражданин буржуа сделал и отмеренные художнику годы невыносимыми. Его злая молва лаяла изо всех углов, что живопись Ван Гога не стоит ни гроша. Цена тебе – ни гроша! А Ван Гог когда-то написал такую простую, емкую, как формула, фразу: "Кто любит – живет; кто живет – работает; кто работает – имеет хлеб". Любовь у него отняли и объявили его, рабочего человека, неспособным зарабатывать хлеб. Неспособным внести свою лепту в искусство будущего – гасили его светильники.
И он разучился смеяться.
Начал падать в пропасть, хватаясь, впрочем, за любые соломинки.
Можно понять глубину его отчаяния: "соломинкой" оказывается и иностранный легион. Ван Гог хочет завербоваться легионером!
"Человек несет в душе своей яркое пламя, но никто не хочет погреться около него… Ожидать того часа, когда кто-нибудь придет и сядет у твоего огня?"
Добрый гражданин буржуа превратился в ворона и зловеще крикнул: "Никогда! Твои картины навсегда останутся лежать, где и ныне – в сарае для коз".
Ван Гог вынимает пистолет.
«Я борюсь изо всех сил».
«Шаг мой колеблется».
Контурная, почти исчезающая в солнечных лучах фигура-тень спешно, трудолюбиво и неумолимо убирала с поля жизнь: клубящиеся хлеба («Жнец»). Пистолет выстрелил. Пришел жнец, «который молчит под палящим солнцем», и сжал колос.
Художник, этот вечный странник и мученик, сказал на прощанье: "Как я хочу домой…"
В последний путь его провожали картины. Они склонились у его праха, как боевые знамена.
"Живописцы… беседуют, лежа мертвыми в земле, со следующими поколениями при помощи своих произведений".
В последний путь его провожало солнце, такое безжалостное и такое животворящее; солнце, которому, как писали, он хотел посмотреть прямо в глаза.

ИНОГО НЕ ИЩУ БЛАЖЕНСТВА
Искусство Пикассо глубоко гуманистично. Оно выражает чаяния человека, поднимает его, внушает ему уверенность в своих силах.
М. Алпатов
Пабло Пикассо (1881 – 1973) – один из крупнейших художников XX века. Родился в Испании, жил и работал во Франции. Его творческое наследие составляет 1885 картин, 7089 рисунков, более 30 тысяч эстампов, 1228 скульптур, 3222 предмета керамики.
Человек веселого нрава, Пикассо излучал беспокойство. Тревога, исходившая от него, была тревогой действия, побуждавшей к движению, к достижению чего-то такого, чего вчера еще не было. Он умел жить во времени. Новым был в новом дне. Потому, наверное, и не старился. Отличаясь, как замечали друзья, любопытством подростка, умел удивляться и любил всякого рода начинания. В шестьдесят увлекся литографией. В семьдесят – керамикой. В семьдесят пять научился плавать.
Луначарский называл Пикассо разведчиком. Подобно разведчику, художник дерзок и обостренно-внимателен. Наглухо закрыл для себя парадную дверь жизни и распахнул черный ход. Не затыкая носа и стыдливо не опуская глаз, бродил по больницам и приютам, всматривался в лица нищих, бродяг и калек. Без лицемерного сострадания, не как мессия – как человек, не боящийся положить руку на раскаленное железо боли, нищеты, одиночества.
Не отрицая мужества одного, художник воспевает устойчивость двоих, влюбленных, товарищей: плечо надежно касается другого надежного плеча. Даже это прикосновение, кажется, дает единственную возможность жить в ослепительно голубом мире.
"Что есть арка? – спрашивал Леонардо да Винчи. И отвечал: – Сила, вызванная двумя слабостями".
Хрупкая арка двоих у Пикассо способна противостоять злу.
"Искусство есть эманация боли и печали". Мы рассматриваем картину "Трапеза бедняков" – там холодно и пустынно. Скуден стол: вино и кусок хлеба. Тощие, изнуренные жизнью фигуры отмечены суровым изяществом нищеты и голода. Но мы ощущаем задумчивую надежду женщины – на ее плече рука спутника, отчаянно готового защитить свою подругу.

«Все зависит от любви».
Человеку света, Пикассо нравилось рисовать свечу. Над восковой фигурой тающего прошлого – вечное будущее: острие трепещущего огонька бесстрашно вонзается в тьму. Маленький маяк, который художник зажигал.
"…Оружием карандаша и кисти проникать все глубже в познавание мира и людей, чтобы это познание с каждым днем делало нас свободнее…" Люди на картинах Пикассо размышляют о смысле жизни, о своем назначении. Задумчива мать, ласкающая ребенка. Задумчива девочка, которая прижимает к себе голубя. Задумчивы "Арлекины" – эти раскаявшиеся наполеоны. Серьезен размышляющий "Мальчик с собакой". Пронзительно всматривается в свою душу "Любительница абсента". Отстраненно-сосредоточен и сам художник в "Автопортрете с палитрой". Лицо-маска, лицо актера перед выходом на сцену…
И если картина пробуждала в человеке мысль, вызывала вспышку понимания, она оживала: мысль озаряла картину. В картинах Пикассо боялся застылости, зафиксированности навсегда, жесткости, остановки во времени.
"Я не ищу, а нахожу". Секрет мастерства? Находил он много. Его называли человеком с тысячью масок. Голубой и розовый периоды, кубизм аналитический и синтетический, "энгровские" рисунки, "неоклассика"… Пикассо несся по столбовой дороге искусства, смело вбирая в себя лучшее – от антиков и древних мастеров
Европы и Африки до нашего Врубеля, у картин которого простаивал часами. В тысячи масок рядил свое искусство, но лишь для того, чтобы оставаться самим собой. Случалось, ошибался, переигрывал в дерзости и шутовстве, бесконечный поиск подводил и к пропасти. Выручали безмерная любовь и преданность живописи. "Берясь за кисть или резей, иного не ищу блаженства", – смело мог повторить Пикассо эти слова Ми-келанджело. Плоскость, свободная от живописи, по его мнению, не имела права на существование. Желтое пятно на полотне обязано было плавиться солнцем. Стремясь постичь "душу явлений", он хочет проникнуть внутрь их, разъять фигуру плоскостями. Разбивает мир своего видения на геометрические осколки, и все же из калейдоскопа разрушений приходит к нам Человек.
"Вся моя архитектура, – говорил известный зодчий Ле Корбюзье, – вышла из одного натюрморта Пикассо". Огонь жизни насыщает лучшие картины художника. Изломанными языками пламени возникают "Авиньонские девицы". В маленьком натюрморте "Кувшинчик и яблоко" яблоко пульсирует как солнце. А непоседливый разговорчивый кувшинчик галантно-неуклюжим кавалером, этаким петухом, приседает и пляшет вокруг яблока. В "Натюрморте с красными яблоками" не просто лампа сияет над столом – вырываются невидимые нам, но ранящие глаз художника алые перья света, кроваво стегающие окружающую темноту.
Конечно, Пикассо – мастер красочной феерии, блестящий портретист, скульптор, монументалист (одна из его значительных работ – ансамбль в Антибах: двадцать семь живописных панно и картин); график, чья линия обладает проницательностью и ошеломляющим чувством. Но гораздо меньше значило бы его мастерство, если бы не содержали его картины ни социального, ни стилевого протеста…
"Я – коммунист, – говорил художник, – потому что я хочу, чтобы меньше было нищеты". Всю жизнь он сражается с нищетой духа и с теми, кто ввергает людей в реальную материальную нищету. Сам он тоже знал ее. Когда-то, чтобы согреться, топил печь своими картинами, платил картиной за кусок хлеба.
Пикассо – это бунт. Он бросал вызов и дрался. Недаром он рисует себя в костюме матадора. И дразнит быка, которого не хочет приручать, от которого не хочет убегать, – окружающую жизнь. Его друг поэт
Рафаэль Альберти сказал: "Пикассо пришел в этот мир, чтобы хорошенько встряхнуть его, вывернуть наизнанку и снабдить его другими глазами". Картины художника называли полем битвы. В статуе "Человек с ягненком" видели сопротивление угнетению. Беззащитный и нежный ягненок как символ, как дар миру. А человек подобен Сократу: труженик, философ, борец.
Искусство, как полагал Пикассо, подобно лекарству, оно способно хотя бы "излечить человека от зубной боли". И еще Пикассо сравнивал искусство с термометром – оно способно измерять общественную температуру. Называл живопись оружием мира, а художника – политическим существом.
Недаром писали, что, создавая "Гернику", Пикассо стал солдатом.
…Взорванное пространство страшно излучает зеленовато-серо-черный свет. Вопль матери, бессильно удерживающей мертвого ребенка. Смятенный крик лошади. Безразлично-надзирающе топчется бык (по Пикассо: "тупая косность"…). Все рушится в тартарары. Но врывается в пространство-ловушку, тревожась и протестуя, античная маска с вечным светильником разума в руке…
Кровоточащая
Лампа Герники
И в свете ее
Предстают в своем истинном свете
Все ложные краски… – так отозвался об этой картине Жак Превер.
В конце апреля 1937 года фашистская авиация уничтожила город басков – Гернику. Уже первого мая художник стоял у мольберта. Ренато Гуттузо рассказывал о репродукции "Герники": "Я носил эту открытку в бумажнике годами как партийный билет". Носили при себе эту репродукцию и участники французского Сопротивления.
У Пикассо никогда не возникало вопроса: с кем он, за кого, против кого? Деньги, полученные от продажи картин, отдает республиканской Испании. "Мечты и ложь генерала Франко" – гравюра-памфлет – брызжет ненавистью и презрением. Подобно юноше в одной из своих картин, мечом защитившего ребятишек от чудища войны, Пикассо-солдат до конца своих дней остается часовым мира. От "Герники", обличавшей фашизм, до "Расстрела в Корее", осудившей американский империализм. До голубя мира, который стал самым популярным символом на планете.
Его называли Гойей XX века, Моцартом с душой Сальери, добрым чертом, метром наших кошмаров, колдовским котлом проблем, вдохновителем, святым испанцем, великим эклектиком, королем тряпичников…
Иные вслед ему озлобленно свистали, а впоследствии угодливо рукоплескали.
Он стал коммунистом, потому что хотел бороться "не только оружием своего искусства, но и всем своим бытием".
Пикассо был одарен могучим талантом, чтобы работать, как хочется. Совестью – чтобы жить честным человеком. Мужеством – чтобы говорить и отстаивать то, что думает: "Я хочу изобразить мир таким, каким я его мыслю".
Мог переступить через все: через нападки врагов, недовольство друзей, угрозы недоброжелателей, и через отсутствие денег, и через их баснословный приток – священным рубежом его всегда была совесть. Он не злоупотребил своим талантом.
Пикассо была присуждена Международная премия мира и международная Ленинская премия "За укрепление мира между народами".
Взглянем на фон его автопортретов. В голубом холодноватом свечении возникает лицо-маска двадцатилетнего Пикассо. Через шесть лет фон смятенный, а лицо деформировано страстями, напряженной мыслью. В старости – жизнерадостно-яркий цветной фон. Уходя, Пикассо словно собрал воедино всю радость своей жизни. Угасал вулкан, сотрясавший искусство XX века. Прощался со своим временем его гениальный арлекин.

ЗВУК СЕГОДНЯ – ЭХО НАВСЕГДА
(О художниках России)
На этот раз наш путь в российскую историю, в мир русской живописи, русского портрета.
И хочется начать его с выставки автопортрета, которая как-то была устроена в Третьяковской галерее. Что это было за чудное собрание лиц, картин, портретов! Это было высокое собрание "товарищества талантов и провидцев".
"Звук сегодня – эхо навсегда" – может быть, эти слова Новеллы Матвеевой и об автопортрете, о творчестве художника?
Кистью этих людей водили талант и эпоха. Они разделяли успехи и горести своего времени – вечные странники в бесконечной Стране Искусства. Эти люди – созидатели прекрасного. Бессмертные люди. Репин, Суриков, Федотов…
Долой кисти! Долой мольберты! Долой береты! Небрежно, кое-как намечена рубаха и прочее одеяние. Нам навстречу вырывается лицо, происходит процесс самоисследования: двойник на полотне оживает и пристально вглядывается в своего создателя. Освещенное золотистым светом лицо юного Серова на его автопортрете могло бы стать символом выставки. Внимательный, изучающий взгляд. Лицо честного, сосредоточенного, думающего человека, уже растерявшего иллюзии, человека, который не собирается поступаться своими принципами…
Автопортрет – не зеркало художника, не его отражение, но сложный жанр изобразительного искусства, совмещающий портрет, идею, декларацию живописного направления и, конечно же, размышление об эпохе и себе самом. Отстраненное размышление о своем внутреннем мире. Гордое утверждение главных качеств художника-творца.
Со спокойной уверенностью вышел к нам из своего времени Иван Аргунов. С любопытством наблюдает, прикидывает, выбирает. Запечатлевает в памяти наиболее приметное, характерное, поворачивается и уходит работать. Понадобится – снова выйдет. Вечен этот процесс.
И неизвестный художник конца XVIII века в "Автопортрете с натурщиком" демонстрирует именно это: сознание своей роли – .зорящего человека.
Живой, взлетающий, легкий, взволнованный Андрей Матвеев: "Автопортрет с женой". Ведет жену, как в танце, горделивую и довольную. Он художник пылкий, быстрый, светящийся. Из плеяды выучеников Петра I: руководил у царя "живописной командой", украшал храмы в Петербурге. Но в истории русского искусства остался мастером портрета.
Василий Тропинин, замечательный русский художник первой половины XIX века, создатель огромной и яркой галереи порт-рэтов московского общества, прочно стоит на земле. Не взлетает, не парит. Он "лбом стену прошиб" – вчерашний раб, крепостной.
Рядом Алексей Венецианов – человек повседневного героизма, подвижник: что бы ни случилось, он озабочен своей работой – воспитанием крепостных талантов.
Художник может размышлять о себе и спокойно, и страстно, нетерпеливо, когда боль душевная или желание высказать свое отношение к действительности настолько велики, что как бы входят живой частью в краски и помогают воссоздать на полотне и порыв, и негодование, и желание торжества… Чувство собственного достоинства напряжено до предела, а вдохновение пылает настолько ярко, что автопортрет достигает высот исповеди-проповеди.
Художник лишь тогда уверен в своей правоте, когда талант его упрочен многолетней работой, а ритм жизни совпадает с ритмом жизни самых прогрессивных людей общества.
В мире усложняющемся, быстром, требующем напряженного размышления, мгновенной реакции, художник на автопортрете подчас дразнит нас, провозглашает: "Иду на "вы"!"
Бесконечен разговор автопортрета со зрителем. Ни в одном автопортрете нет жалобы. Но горечь есть: достаточно встретиться с фанатично-обреченными глазами Федора Васильева. И безысходность есть: взгляните на Карла Брюллова… Страдание, уединение, болезненный самоанализ… Но все это горечь-призыв, обвинение-призыв, страдание-призыв. А жалобы нет.
Художник вручает нам свою жизнь, как факел, чтобы мы осветили себе дальнейший путь.
Пожалуй, другому и представится, что вся внешняя жизненная яркость – застолье, солнечный свет, журчащая тень листвы… – только для него, для неги и упоения. Но нет, не он царь на этом пиру, а живопись, краски.
По автопортретам можно создавать трактаты о творчестве и метаморфозах личности. Молодой Орест Кипренский – романтик, оказавший большое влияние на русское искусство начала XIX века и крупным планом показавший в своих полотнах чувство, душевную жизнь человека, – пылок. А ставший знаменитым, поживший – в "Автопортрете в полосатом халате", – скептичен, даже в самом себе прежде всего видит модель. Пылкость перешла в профессиональную живость: быстр, неистребимо наблюдателен, но и следа нет прежней очарованности.
Безоблачен и молодой Василий Перов. "Народность и реальность", по словам критика, определяли его творчество. А на своем последнем автопортрете он мрачен, пожалуй, даже подозрителен. Дух мятущийся, разочарованный.
Василий Суриков от мучительных раздумий в молодости приходит к задумчивой успокоенности в старости, к глубине и сложности простоты.
Автопортрет – это совесть художника. Совесть восстающая, ранимая и печалящаяся.
Иван Крамской, чей автопортрет экскурсоводы дружно называют портретом разночинца, – мрачновато-печальный, настороженный, проникающий. Это он призвал к бунту против академического застоя, выдвинул лозунг: помочь "русскому искусству возвратиться на родную почву, выработать свой язык, свои приемы, свое мировоззрение" – и стал во главе Товарищества передвижных выставок.
Чем далее к концу века, тем более сложным, пожалуй, становится человек и, значит, автопортрет тоже. Вспомните Врубеля.
Желчное, умное, невероятно печальное, даже утомляющее зрителя лицо. Остановившиеся всезнающие глаза. Потом, в других автопортретах, он оживает: тревожная мысль зажигает глаза и освещает гордое лицо человека, летящего к своей гибели и не могущеео остановить полет…
Автопортрет художника – эхо времени и личности. Эхо счастливого часа и трагического. Ибо равнодушно, без нужды настоящий художник не подходит к мольберту. Только когда нужно выстраданное или рожденное большой радостью излить в мир, он пишет. И мы слушаем это его слово – размышление, фантазию, исповедь.
Впрочем, почему мы только об автопортрете? В эту книгу, вернее в этот раздел ее, входят очерки, этюды о художниках России – от Рублева до Врубеля. Ну и конечно, мы даем слово самим художникам: публикуем их письма, заметки, статьи…
ТИХА ВОЛА, ДА ОТ НЕЕ ПОТОК ЖИВЕТ
Андрей, иконописец преизрядный, всех превосходят, в мудрости зельне и седины честные имел…
Из древней рукописи
Андрей Рублев (1360 – 1430) – гениальный древнерусский живописец, украсивший своими иконами и фресками Благовещенский собор Московского Кремля, Успенский собор в Звенигороде, Успенский собор во Владимире, Троицкий монастырь, Андрониковский собор в Москве.
Проезжей дорогой-проселком, чуть промятой
П колесами да протоптанной пешим людом, шел Андрей Рублев родной стороной. Из ложбины доносился запах костра, вдали низкий женский голос прял песенную нить:
Ты, пчелынька,
Пчелка ярая!
Ты вылети за море,
Ты вынеси ключики,
Ключики золотые,
Ты замкни зимоньку,
Зимоньку студеную!
Отомкни летечко,
Летечко теплое,
Летечко теплое,
Лето хлебородное…
Рублеву нравилось лето на исходе, теряющее жаркую силу и истомно переходящее в холодноватый, почти осенний свет, когда цвета ярки не от насыщенности – от прозрачности. Когда в природе встреча ожиданного соединяется с мгновением расставания, смеясь и плача, стоят рядышком радость и грусть.
К дороге подступал густой дремучий лес. Знал Рублев: может выкатиться из зеленой стены разъяренный вепрь или цепко-неслышно выкрасться злой тать. Но не было страха, вокруг знакомая и близкая земля. Да и ждал – оборвется лесной обвал, всплеснется навстречу волна поросшей зеленой травой холмистой равнины, каплями синего неба засияют любимые васильки, и воздух, настоянный на травах и цветах, окутает, целебно бодря и лаская.
Он был радонежский – из глухой среднерусской стороны и сколько бы ни жил в столице княжества – Москве, а все любил этот край, и обитаемый, и словно отгороженный от всего мира. Седая старина, вот она, рядом: на холме "Белые боги" касался рукой Рублев поверженных языческих истуканов, высеченных из белого камня; здесь сказка жила, как живая…
Украшая рисунками пергамент Евангелия, Рублев думал о своей земле. Звери, рисованные им, играли вольно и приветливо. Голубая цапля склонилась, чтобы заклевать змею, ощетинившуюся колючками, но посматривала на нее добродушно. Взъерошенная змея, впрочем, так же гостеприимно глядела на красавицу цаплю. Орел казался какой-то доброй птицей, несущей в лапах книгу… Невдалеке от городка Радонежа стояла Троицкая обитель, где жили и ученые монахи, и путешествовавшие за три моря, где в библиотеке привечали размышляющего над жизнью и книгой. Вполне мог радонежский край быть гнездом, откуда выносила та птица книгу.
Рублев книгу чтил. Заставки к Евангелию – простые, веселые, нарядные – звали к "печатному" слову. Изобразил стремительного ангела, который, сверкая яркими красками крыльев и одежд, несет книгу в кольце нескончаемого искания, как факел, освещающий путь к знанию и надежде. Интеллигентом своего времени, едва ли не радонежским жителем, изобразил художник евангелиста Матфея: русский мудрец склонился над книгой у стола-конторки…
Уже немолодым человеком, известным мастером великокняжеской иконной мастерской пришел Андрей Рублев в монастырь из "мира", чтобы еще ближе к нему приблизиться. Человек средневековья, он мог следовать своему призванию, лишь работая для церкви. И еще полюбились Андрею Рублеву в монастырях библиотеки, где читал он разные книги – русские, византийские, греческие, сербские, болгарские…
Захватчики-вороги швыряли книги в костры. Небрезгливо, а с наслаждением ненависти к непонятному. По земле огненными клубками катились пожары, лилась кровь, мор настигал и простой люд, и воевод, и князей. Читаешь летописи, внимаешь историкам – каждое нашествие на Древнюю Русь как окровавленная волчья пасть – "аки злии волци"…
Юность Андрея Рублева прошла под знаком небывалого единения Русской земли.
Впервые почти вся Русь собрала огромную рать – защищать свое гнездо.
Если был Андрей Рублев на поле Куликовом (а возможно, был), то видел, как огромное холмистое поле заполнили тысячи людей и лошадей. Мечи и сабли искрами вспыхивали в огромном море воинства, вырастали частоколы копий, скрежетали по металлу боевые секиры…
Сначала еще он, наверное, замечал, как стойко держалось черное знамя великого князя, как вздымались и падали хоругви. Потом все заслонила свирепая сумятица боя; воин рубил, нападал, защищался – и так беспрерывно, много часов кряду. "…Брань крепка зело и сеча зла". Очнулся, избитый или израненный, и увидел: гонят врага свежие русские полки, бежит с холма Мамай. Бросил взгляд на то же поле, там не сыскать ни одного свободного местечка: его усеяли тысячи тел, теперь порубанные и пострелянные. И кровь лилась, говорит историк, как вода, на пространстве в десять верст.
Рублев запомнил холодный блеск горячей крови. Запомнил, как красными стали Дон и Непрядва.
Ликовала Русская земля, но и печалилась, рассказывает летописец, жалостью великой. Из десяти ушедших защищать родину вернулся один.
"…и бысть в граде на Москве и по всем градом туга велика и плач горек и глас рыдания".
Великая жалость в иконах Рублева как мечта о единстве и счастье. Остались жить в его фресках русские воины, защитники Родины – сильные, отважные, в золотистых латах…
Сколько нашествий видел, о скольких знал Андрей Рублев – не перечесть. Сжег Москву хан Тохтамыш – снова плакали русские женщины над десятками тысяч погибших. Приходил под Москву Едигей – за стенами Кремля на грязном дереве мощеных улиц лежали убитые и умершие от голода. Рублев с монахами Андроникова монастыря, вероятно, хоронился в Кремле и со стен белокаменного, а теперь потемневшего от гари сожженных посадов смотрел на беснующихся ордынцев. Мертво лежала Москва-река, недавно еще покрытая разноцветными ладьями…
Вместе с Даниилом Черным расписал Андрей Рублев по воле великого князя Успенский собор во Владимире. Страшный суд изобразили судом справедливым, предваряющим новую жизнь… Но страшный суд, скорый и неправедный, грянул над Владимиром. Ордынцы и нижегородцы разграбили и сожгли город. Владимирские колокола, которые любил слушать Рублев, молчали: растапливались в беспощадном огне. Смотрели со стен собора праведники Рублева и Черного, как наяву – не на фреске – жарили человека на сковороде, забивали ему щепы под ногти, сдирали лоскутья кожи, лошадьми рвали тело… Молчали праведники Рублева на стенах, но не безмолвствовали. Бесчеловечная казнь вошла неизбывной тревогой в их жизнь. Мудрость наполнилась полынной горечью. И теперь страдание, боль за людей встречали входящих в храм… Не безгласными и бесстрастными, а воспринимающими мир во всей его сложности создал праведников живописец.
Огромны иконы – в два человеческих роста. Они могли бы заставить вошедшего испытать ощущение своей малости – случайной пылинки, могли бы принижать человека. Но нет! Люди на иконах не надзирали. Призывали задуматься, понять, что праздник жизни сам по себе не случается, его надо создавать.
Рублев посылал этих людей в мир – говорить. И впечатление от икон и фресок до сих пор одно: люди пришли к людям на совет.
Он осознанно не избежал языка символов, но соединил его с изображениями современников. Не чужие, не пришлые встречали – свои, с которыми можно было говорить на родном языке. Дмитрий ли Донской сказал или летописец вложил ему в уста: "Не рождены мы на обиду ни соколу, ни ястребу, ни кречету, ни черному ворону, ни поганому этому Мамаю!" И Рублев живописал смелых и уверенных людей.
…В Третьяковской галерее мы сразу узнаем Рублева. Он царствует в зале иконописи, в красно-золотом мердающем свете. Три иконы призывают нас прежде всего. "Троица" прячется в простенке. Триумвират правит в тронном зале русской иконописи: Спас, апостол Павел, архангел Михаил. Смелое, отважное письмо.
На средней, срединной, доске сохранился только лик Спаса. Доски по бокам утратили живопись, явив свету древнее дерево со всеми сучками. Немного фантазии – и представляешь, как тесали это дерево, как пенились стружки под древнерусским топором. К доске хочется прикоснуться, погладить, ощутить тепло руки тесавшего, приложить ухо, послушать, не шумит ли в старом дереве древнее, ушедшее, канувшее и постоянно возрождающееся в памяти народной – время. Почти шестьсот лет. Из светлой темноты доски выступает величественное золотистое, мудро-знающее лицо.
Не в князе ли Дмитрии Донском почудился Рублеву человек, который положит конец сварам? И не в "Спасе" ли он отразил образ князя – властителя, соединяющего воедино Русскую землю и избавляющего ее ото всех напастей?
У апостола Павла склоненная, почти круглая, мощная голова. Огромный литой лоб исполнен думы чудовищной силы. Портрет-монолит, излучающий мысль, отточенную и выкованную в схватке сомнений. Перед нами образ мудреца и ученого.
И третий – Михаил – символ трогательного сочувствия. Верящее раздумье, почти женственная красота. "Гением трогательной любви" называли его.
Все вместе – они едины. Державный властелин Спас. Мудрец Павел. Нежновнемлющий Михаил.
У художника огромная изобразительная сила, его живописный рассказ ведется сдержанно, плавно, без вскрика, без суеты и ложной драматизации.
Людей возводил в богов. Этого не следует понимать буквально. На его икону житель соседней деревни не показывал пальцем, восклицая: "Гляди-ка – это Федька!" Нет, то был не Федька… Хотя каждое лицо индивидуально по характеру, темпераменту. Но прямой похожести художник избегал, как избегал и бытовых подробностей. Живописал обобщенный образ русского человека – и современника, и далекого потомка, о котором мечталось и верилось. Искусство Рублева вечно, ибо он соединил день настоящий и день будущий.
А лежала перед Рублевым и иная стезя. Когда пригласили его расписывать Благовещенский собор вместе с "Феофаном иконником гречиным да Прохором с Го-родца", наверное, был польщен. Большое признание, хотя и стоит лишь третьим в летописной строке "чернец Андрей Рублев". С восхищением смотрит он на Феофана Грека, величайшего мастера Руси того времени, – сорок церквей расписал Грек. Дивится клокочущей энергии семидесятилетнего человека, его таланту и. многознанию. Не только учителя живописи нашел Рублев в Феофане Греке – встретил философа, стремящегося понять и объяснить жизнь. Тревожила, будоражила кисть-молния, бросавшая на иконы и фрески сполохи неистовой Феофановой мысли и темперамента. Какое-то внутреннее нетерпение гнало его и воспламеняло. Грек был щедр – не таил ни мастерста, ни сокровенных раздумий. Работая, посматривал на окружающих "острыми" глазами, порывисто расхаживал, вел остроумные беседы, озадачивая притчами. Собирались люди, слушали, поражались умелой быстроте и возбужденности кисти знаменитого иконописца.
Феофан Грек многому научил, но… не подавил Андрея Рублева. Тот уже и сам был опытный мастер. И как доказывают историки, знаком был с исихазмом – учением – о нравственном и физическом совершенствовании человека, которое исповедовал Грек. Но московский живописец истолковывал это учение по-своему.
Пророки Грека – неулыбающиеся, уносимые вихрем неумолимых страстей. Белыми высверками иссекается из них огонь душевного напряжения. Люди словно сгорают в нем. Грек, живописуя высокую трагедию самоотречения, все подбрасывал и подбрасывал в "костер" поленья гнева, муки сомнения, страха.
Рублев же хотел, чтобы жизнь стала праздником. Земля казалась ему истерзанной, измученной, но и прекрасной. Он был смиренный, стойкий духом и не видел счастья в перенакале страстей.
Пикассо как-то сказал на выставке детских рисунков: "В их годы я рисовал, как Рафаэль, но мне потребовалась вся жизнь, чтобы научиться рисовать, как они". С годами еще "моложе", радостнее, оптимистичнее становились творения Рублева. Его искусство насыщалось спокойствием, которое Пушкин считал необходимым условием прекрасного.
Феофан Грек – трагик, Андрей Рублев – липик. У Феофана Грека философия разума бунтующего, у Рублева – ищущего.
И удивительно, что многоопытный, знаменитый византиец ощутил и в какой-то мере подчинился таланту и мировоззрению Рублева. Гений узнал гения. Живопись Феофана Грека, сохранив свою кипящую силу, смягчилась, зазвучала более умиротворенно-торжественно.
Говорят в народе: "Не сей на межах жита, ни мудрости в сердцах глупых…" Знал Рублев, что на его образы, на его лики равно смотрели и умные, и глупые, и добрые, и злые. Обращался ли зовуще он только к умным и добрым? Скорее всего хотел посеять мудрое во всех сердцах – вдруг заплодоносит и самая заплесневелая земля? Звал к идеалу не избранных – всех.
"Троица" создана зрелым мастером, счастливо ведающим, что он лучший иконописец Руси.
Три глубоко задумавшихся ангела восседают вокруг стола, перед ними чаша. Три странника возвещают Аврааму о рождении сына. Они провидят его судьбу: гибель за людей. Они как бы предвидят печаль и уже избыли ее. Печаль неизбежная, но преодоленная, светлая…
Краски времени. "Троица" "вылеплена" из неназойливого, необжигающего ласкания тихого дня. Ее краски естественны – их называли красками русской осени. Нежна, изысканна, согласованна цветовая гамма. Торжествует синий цвет, успокаиваясь голубым – знаменитый рублевский "голубец", "дивный голубец", который именуют васильковым, а еще верно прилагают к нему певучее слово "лазоревый"; это самый яркий цвет в картине, но он уравновешен массой своих оттенков и действительно впитал и синь раннего неба, и цветущего льна, и васильков, и сияние голубых глаз человеческих…








