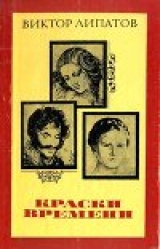
Текст книги "Краски времени"
Автор книги: Виктор Липатов
Жанр:
Искусство и Дизайн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц)
СМЕЙСЯ ПАЯЦ
…уверенны его настроенность, вкус в колорите, его свобода, использование светотени…
Газета «Диарио да Мадрид».17 августа 1798 г.
Франсиско Хосе де Гойя-и-Лусиентес (1746 – 1828) – испанский живописец и график. Жил и работал в Мадриде. Наступление реакции вынуждает Гойю уехать во Францию. Последние годы жизни он проводит в эмиграции.
…И паяц смеялся. Странно, беззвучно и очень громко. Пелеле, тряпичная кукла, обряженная в буроватые штанишки и зеленоватый камзол, раскрашенная и подрисованная, взлетала, подброшенная на большом платке махами, простыми испанскими женщинами. Наряды женщин сочны и неярки, скромны, позы полны ожидания: вот-вот кукла упадет на платок и подпрыгнет вновь. Народная испанская игра. Эль пелеле.
Картон для гобелена написан живописцем Франсиско Хосе де Гойя-и-Лусиентес в конце XVIII века. "Картон" – определение условное, Гойя писал маслом на холсте. "Картоны" Гойи – а он создал их около сорока – целое событие. Ибо в "архаичной" стране того времени – Испании, где, по свидетельству писателя и историка Лиона Фейхтвангера, "уклад застыл в трагической неподвижности", царила феодальная монархия. А в живописи – мифологические сюжеты. И вдруг в нее ворвалось дыхание испанской деревни и города, а двери ему широко распахнул сын арагонского ремесленника – Гойя, человек из народа, проходящий по улицам и знающий радость людского общения и братства: он – свой.
Он – свой. И кому, как не ему, было всколыхнуть эту "трагическую неподвижность", впрыснув в нее алый поток брызжущей вссзльем и жаром народной жизни. Кому, как не ему – "Франсиско де лос Торес" – "Франсиско бычьему", служившему тореро в бродячей корриде, человеку полнокровному, любившему познавать жизнь на ощупь, плыть в самой ее быстрине, подчас не знающему, куда истратить свою неуемную отчаянную энергию: драчуну, фехтовальщику, певцу. В Риме, куда он едет учиться, а заодно и скрыться от просыпающегося ока святой инквизиции, этот удалец пишет свое имя на куполе собора Св. Петра и ходит по карнизу гробницы Цецилии Метеллы. Легенда говорит и о похищенной монахине… Но суть не в том, что Гойя был одним из язычков пламени темперамента своего народа. Он всегда оставался простым ремесленником, уважал рабочий пот и мог, подобно "губернатору" Санчо Пан-се, приспустить штаны и, ударив рукой по заду, показать свое презрение бездельникам, знатным испанским грандам. В противовес академической прохладе официальных полотен он пишет бурлящую улицу: "Мадридский рынок", "Офицер и молодая женщина", "Продавец посуды", "Танец в Сан Антонио де ла Флорида"…
Проходит несколько лет, и мажорный тон "картонов" для гобеленов резко меняется. О том свидетельствуют сами названия: "Раненый каменщик", "Зима. Переход через перевал", "Осень. Сбор винограда"… Возникают и два варианта картины "Эль Пелеле".
В первом, представленном в хаммеровской коллекции, еще сохраняется характер естественной уличной сценки, более ярко выражено веселье игры, контрастнее фон неба. Сам пелеле, несмотря на все ту же ироничную позу, более похож на куклу, чем на паяца.
Во втором, написанном чуть позднее, уже ясно виден Гойя так называемого "серебристо-серого периода" – краски смягчаются, господствуют полутона. Уже явно не махи играют, а придворные дамы, переодетые в платья своих служанок (в одной из играющих узнавали герцогиню Каэтану Альба). Исчезает непринужденность веселья, ощущается подделка, жеманность. Естествен лишь паяц, распластавшийся в воздухе. Но и он нелепый, изломанный, а потому и более грустный.
У изнеможенных дам нет силы девушек из народа – подбросить куклу так, чтобы она заиграла, заплясала…
Художник насмехается над знатными дамами, притворяющимися настоящими махами.

Сорокапятилетний Гойя начинает саркастически смеяться. Правда, это еще не смех, а только полуулыбка, отдающая полынной горечью самоиронии. Не исключено, что себя самого художник изобразил в пелеле. Да, он, Гойя, – пелеле, кукла в руках господ, которым вынужден служить. Но пелеле просыпающийся. И ему, его таланту господа будут угождать, вручая ордена и чины. Ибо по-настоящему жив он, а манекены – они.
Ко времени написания "картона" Гойя уже признанный мастер. Он начал и рано и поздно. Существует легенда, что еще мальчишкой отлично нарисовал углем свинью на стене… Но, только проведя многие годы в ученье у самых разных мастеров, из которых особо следует отметить Тьеполо и Веласкеса, написал свои значительные полотна. Впоследствии к именам своих учителей Гойя добавлял еще Рембрандта и природу.
Учился он терпеливо, настойчиво боролся за признание своего таланта. Стал академиком, придворным художником. Написал ряд портретов, знаменитых мах – обнаженную и одетую, – и солнечную картину "Зонтик"…
Но и тогда, когда он, бывало, утыкав тулью своей шляпы горящими свечами (для лучшего освещения), как тореадор перед быком, упрямо вставал перед полотном, и тогда, когда втискивался в модное платье и пудреный парик, – лицо его, мясистое, толстогубое, с тяжеловатым носом, выдавало хитрого, азартного, зверски работоспособного, знающего себе цену, смышленого арагонского крестьянина. Человека, который почище любого испанского гранда знал, что такое честь рабочего человека, мастера:
"Честь художника очень деликатная вещь. Он должен стараться прежде всего, чтобы она была вполне чиста. В тот день, когда малейшее пятно запятнает его честь, погибнет все его счастье".
Это чувство чести, чувство боли и гордости за свой народ помогло Гойе понять современную ему жизнь как трагическую человеческую комедию и выступить проповедником "гротескного реализма", написав знаменитую серию "Капричос" ("Caprichos" – "Капризов",
"Выдумок", "Фантазий"). Поистине демоническим раблезианским смехом высмеял художник невежество, бюрократию, угнетателей, подлипал, людей без чести и совести. Он отдал этой работе шесть лет и создал восемьдесят листов. Не исключено, что впервые именно в "Эль Пелеле" появился первый штрих, намек "Сарrichos".
700 картин, 500 рисунков, 250 офортов, 15 литографий – таков итог творческой жизни Гойи. В них проявилась его буйная фантазия, причастность к судьбам своего пробуждающегося народа, верным сыном которого он был. За это и назвали его одним из "наиболее национальных художников мира".

ЗОВ ИКАРА
Этот сильный и подлинный художник, очень породистый, с грубыми руками гиганта, с нервами истерической женщины, с душой ясновидца, такой оригинальный и такой одинокий…
Альбер Орье
Винсент Ван Гог (1853 – 1890) – голландский живописец XIX века. Автор пейзажей, портретов, многочисленных рисунков, гравюр. Его работы отражают социальный кризис буржуазного общества, душевное отчаяние и разлад с действительностью.
Может быть, жизнь Ван Гога на земле мож но сравнить с зияющим, никогда не заживающим шрамом. На одном из автопортретов мы видим человека пылающего. Глаза воспалены, огонь вырывается языками усов и бороды, жаринки разбросаны по лицу и одежде. Он сгорает на светлом фоне бесстрастной стены, к которой его оттеснили. Кисти в руках – единственное оружие, мольберт – единственный щит. Он смотрит на нас обреченным взглядом последнего сражающегося солдата. Чего он хотел?
"…Хочется пожить на клочке луга, под уголком солнца, хочется ручейка и общества других".
Только и всего. А впоследствии просил лишь об одном: "Ах, если бы меня не топтали в грязь!"
Ему хотелось стать сеятелем. Помните его "Сеятеля" – этот гимн вечному произрастанию? Размашисто и торжественно шагает сеятель по голубоватому ковру еще мертвой земли, бросая в нее семена жизни. Он посланец царя-солнца, огромного, полновластного и могучего, захватившего лучами своей короны весь видимый небосвод…
Но добрый гражданин буржуа еще устами отца предупредил будущего художника: "Не забывай только об Икаре…" Но ему нравилось обжигаться. И уже в родную семью неохотно впускают Ван Гога, он напоминает им "большого лохматого пса… будет попадаться под ноги, – да и лает уж очень громко".
В дальнейшем пса сочтут бродячим.
Где-то невидимая ему постоянно ехала телега с будкой, куда его пытались отловить, и он всю жизнь слышал приближающийся перестук этой телеги, представлял жадные руки, готовые швырнуть его на свалку.
А он говорил: "Нет ничего более художественного, как любить людей!" Любовь как достоинство человека и долг художника. Любовь – сострадание к обездоленным. Любовь не отвлеченная, ибо не отвлекалась от их прокопченных и пропыленных грубых хижин, бед и болезней, нищеты и голода.
Это было в Боринаже – крае шахтеров и ткачей, на котором лежала "печать какой-то печаля и смерти". Странный проповедник, Ван Гог не проявляет казенного оптимизма, не признает здравого смысла и "пристойных манер", говорит то, что думает, и довольно громко. Поражает стремительностью своей жизни. Проходит, а кажется – проносится, и вокруг возникают очаги бурь. Сочувствует восставшим, ссорится с дирекцией шахт. Бурно, неистово, самоотверженно приходит на помощь. Не проходит мимо голодающего – делится последним куском хлеба и голодает сам. В его каморке пусто и голо – роздал все, что мог. Целый месяц он не отходил от ложа изувеченного шахтера и заставил его одолеть болезнь.
…Так Ван Гог поступал до конца своих дней. Далеко не каждый отдал бы незнакомой уличной женщине сто су, только-только выпрошенные у торговца картинами. Сто су, позарез нужных на краски, на модель, а того более – на обед.
Здравое мировоззрение обывателя нахально оскорблялось: для него это была просто уличная девка, а для Ван Гога – сестра. Он и женился на такой женщине, уловив в ее глазах отблеск застарелого страдания… Словом, жил и действовал как идеальный человек, как святой. Но святые пугали. Нарушали привычный жизценный ритм. Оскорбляли чувство меры. Мера, установленная и освященная веками, как печать, сияла на лбу каждого добропорядочного гражданина буржуа. Мера, когда сытому – сытое, а голодному – голодное. А Ван Гог нарушал ее и был изгнан "этими господами".
Ван Гог покидает Боринаж, горестно восклицая! "Как много еще рабства на свете!"
И на его рисунках возникают корневища рук ткачей, шахтеры, плачущие женщины, землекопы. Картину он приравнивает к проповеди…
"Работа моя – это постижение сердца народа…" Ban Гог постоянно говорит, что он труженик, рабочий человек, что для него счастье – рисовать людей труда. Гордится, когда типографские рабочие вешают у себя его гравюру: "Никакой успех не мог бы порадовать меня больше…" Художник внимательно и, пожалуй, восхищенно изучает процессы труда – как люди копают картошку, моют рыбу, собирают хворост и тряпье… Ощущает глубокое единение людей труда и природы. Его "черные" женщины, несущие уголь по белому снегу, задавлены поклажей, словно бременем жизни. Черными силуэтами бредут они по замороженной пустыне. И кажется, что никогда эта печальная процессия не достигнет цели – домишек, виднеющихся вдали. А на другом рисунке художника – очень похожие силуэты старых ветл. Люди-деревья. Впрочем, он и сам сравнивает ветлы с процессией стариков из богадельни.
"Затоптанная у края дороги трава… впечатление чего-то утомленного и запыленного, подобно рабочему кварталу… видел маленькую группу кочерыжек, совсем замороженную, и она мне напоминала группу женщин… у лавчонки, где продается кипяток и горячие уголья".
Когда рисует пейзаж с железнодорожными путями, то стремится увидеть его глазами железнодорожного сторожа, с досадой думающего: "Как сегодня пасмурно!" Создает пейзаж, привычный взгляду рабочего человека.
Ван Гог мечтает: двери его мастерской распахнутся для нищих, которые придут позировать и зарабатывать деньги в трудный час.
Одна лишь беда – ему нечем им платить.
Любимые персонажи его картин – крестьяне. Он даже называет себя крестьянским художником. "Старый крестьянин" изображен на фоне полуденного марева – красочные токи жизни кругами пульсируют на его лице и замерзают белыми сосульками усов и бороды.
Ван Гог дивится, как глубоко умеют чувствовать эти люди. В сарае, где телится корова, он наблюдает за крестьянской девушкой. На глазах у девушки… "стояли слезы… Это было нечто чистое, святое, дивно прекрасное, как Корреджо, как Милле, Израэльс".
"Едоков картофеля" называли ужасным полотном. Пир бедняков. В глазах людей оцепенение молитвы. Они священнодействуют, поклоняясь картошке – магической насыщающей силе. Обветренные, иссеченные в повседневном сражении за жизнь руки-крюки как бы живут отдельно.
"Они праведно заработали свою пищу".
Ван Гог создал крестьянскую картину, на которой цвета земли, картофеля, пыли, дыма, труда и бедности, – и она корявой дубиной поднялась против салонного искусства: "Когда стойло пахнет навозом – это хорошо, на то и стойло…"
Когда художник работал над картиной, он думал: следует писать полотна "из самого сердца крестьянской жизни", обязательно показывать крестьянам – кто они есть, как живут. Он хотел, чтобы от нее пахло настоящей крестьянской жизнью – "салом, дымом и картофельным паром…".
Когда художник заходит в хижины и беседует с бедняками "у камелька", он думает: "Откуда у них берутся силы?" Наверное, именно тогда к нему приходит мысль о неизбежности грядущей революции.
"Искусство в полном смысле слова делается для тебя, народ". Разве не слышна в этой фразе чеканная стилистика времен революции 1789 года и Парижской коммуны? Разве не был прав добрый гражданин буржуа, почуявший в Ван Гоге бунтаря?
"Мы находимся в последней четверти столетия, которая снова кончится огромной революцией…" Предрекал революцию, ибо восхищался революциями прошлых лет и ощущал "нездоровые испарения" общества.
Заявлял, что он революционер и бунтовщик. Мог горячо спорить прямо на улице о социализме и баррикадах. Их он защищал. Его лучшие друзья исповедуют те же взгляды. Один из них – письмоносец Рулен. Он запечатлен на портрете, бесхитростный, простодушный, откровенный. Когда Рулен поет "Марсельезу", Ван Гог вспоминает революцию 1789 года. Близок художнику и бывший коммунар, бескорыстный торговец красками папаша Танги. Имя провидца Танги сейчас неразрывно связано с именами больших художников, революционеров искусства. Тогда же работы этих художников, непризнанных и нищих, находили у него приют и задиристо глядели на прохожих с витрины его лавочки… Ван Гог изобразил папашу Танги на фоне японских гравюр: весенним облаком плывет дерево, улыбается изящная гейша, величественно высится гора Фудзияма. Скромнейший папаша Танги выглядит сказочником и кудесником перед свершением чуда. Добрым привратником страны Искусства…
Когда проповедник Ван Гог превратился в художника, он почувствовал в себе "бурлящую силу". Но, с другой стороны, увеличилась опасность быть расшибленным о скалы. Лишь в двадцать семь лет он утверждается в своем призвании. Хотя достаточно прочесть его письма, чтобы понять: человек одержим живописью. Стволы деревьев напоминают ему Дюрера, небо – Рейсдаля, море – Добиньи, девушка – Перуджино… Работает самозабвенно и исступленно. Следует совету Милле – "В искусстве надо не жалеть своей шкуры" – почти буквально. Находит прекрасными слова Доре – "У меня терпение вола" – и готов десять лет писать только этюды, чтобы затем одним взмахом кисти сотворить совершенство. Он начал в двадцать семь, а через десять лет уже писал картину за день, случалось, за час.
Неустанная работа подарила его рисунку ясность, одухотворенность линии, абсолютную неуловимость. Рисунок подобен ртути – переливается, рассыпается, соединяется; линии перетекают в другие, разбегаются штрихами и пятнами, чтобы возникнуть гармоничным, точным изображением пейзажа или фигуры. Рисунок сочетает поэтику и дотошную правдивость изображения. Любовь к детали обосновывает фантазию настроения.
"Что такое рисование?.. Это – умение пробиваться через невидимую железную стену, которая как бы стоит между тем, что чувствуешь, и тем, что можешь".
Он истязал себя рисунком, пока железная стена не растаяла, пока чувство, ощущение, наблюдение не стали оформляться в рисунок моментально, сразу же, а грани между рисунком и живописью стерлись. Ван Гог стал делать рисунок красками: "Рисунок есть живопись, живопись – рисунок".
В живописи он любил все. Краски и кисти, модель и пейзаж. Мог сочинить в письме целую поэму горному мелу и плотницкому карандашу…
Что бы там ни было, а в четыре утра он уже сидит у окна или шагает по улице со своим мольбертом. И не отходит от него по двенадцать часов в сутки.
"Работаю, как паровая машина", – говорит он.
Ничто не могло ему помешать. Солнце не сгонит с солнцепека, мистраль не сшибет с ног, буря не отвлечет внимания от цветущей сливы. Влюбился в кусок почвы, и даже гроза не смогла прогнать – обрадовался грозе: "Такой роскошный глубокий тон приняла почва леса после дождя". Только пришлось снова плюхнуться на колени в болото – до грозы начал "вещь с низким горизонтом".
Приходит ночь, он сооружает на шляпе подобие короны из горящих свечей и пишет отражение звезд в реке. Обыватель, конечно, обходит его стороной, глубоко изумляясь и негодуя. Обыватель не знает, что так же, случалось, рисовал и Гойя.
Ван Гог призывал изучать модель и бесконечно фантазировать, жаждал эксперимента, занимался самообразованием, много читал: Вольтера, Ренана, Золя, Флобера, Доде, Тургенева, Мопассана, Гонкуров, Мишле, Шекспира, Гюго, Диккенса, Эсхила…
Делал все во имя "рабочей лихорадки".
"В какие-нибудь полчаса ты должен придумать тысячу вещей", – говорил он себе.
Быстрота, почти молниеносность его работы в последние годы – это результат огромного труда и мастерства. Потому и "…картины являются, как во сне". Потому чудотворен его нервный, порывистый, вибрирующий мазок. Несколько прикосновений кисти – и возникает контур лошади и телеги, следы на болотистой дороге ("Пейзаж в Овере после дождя"). Потому так велика пластическая выразительность его картин. Массы воды на холме достигают скульптурной отчетливости – ощутима вязкая плотность моря ("Побережье в Схевениигене").
Но одного мастерства мало. Вслушайтесь, какая радостная гордость звучит в его словах: "Природа говорила со мной". Только тогда он начинает писать картину.
Природа и в самом деле говорила с ним, понимающим мастером. Природа говорила с ним, потому что он шел к ней, обдирая руки и ноги, голодая и замерзая, не жалея себя. Поднимался художник на уровень изображаемого и находил в своем сердце и душе самый яркий отблеск – лишь тогда кисть ударяла о холст: "Хочу, чтобы красота пришла не от материала, а от меня самого".
Картина отражает действительность взволнованной, а не бесстрастной, когда художник разжигает краски огоньком своего темперамента. Ван Гог чувствовал себя частью космических сил природы. Буря его вдохновляла. В деревьях он видел живые существа. "Молодая рожь может иметь в себе нечто невыразимо чистое, нежное… выражение спящего младенца". Художник очеловечивал природу, знал ее не застывшей в кубах, прямоугольниках, параллелепипедах, но в изгибающихся, переливающихся, бесконечных линиях, не возникающих и не исчезающих. Его поразительные рыжие, серебристые, стальные дороги – это беспрерывно текущие реки, артерии жизни. Его растрепанные, вырывающиеся из вазы подсолнухи – маленькие солнца. Все комнаты своего арльского домика он хотел расписать подсолнухами.
Художника постоянно привлекала ощутимая вещественность предметов. Картофель хотел написать так, чтобы можно было почувствовать его шершавую грубость и закричать от боли, когда он в тебя угодит.
Роща должна благоухать.
"Мысль… выразить излучением светлого тона на темном лбу; надежду – какой-нибудь звездой, жар желания – лучами заходящего солнца…"
Природа говорила с ним, и случалось, восхищенный художник падал в обмороке.
Грабарь писал: "Только одному Ван Гогу природа ответила взаимностью".
Ван Гог утверждал, что художник будущего будет великим колористом. Таким художником стал он сам, проникая в глубину цвета и заставляя его звучать музыкой и источать аромат.
"…дать солнцу и синему небу их силу и яркость, а сожженной и часто меланхолической земле – ее тонкий запах тмина".
У хлебов он наблюдает "темный, золотисто-желтый тон – красноватый или золото-бронзовый".
Осень – это "контраст желтых листьев на фиолетовых тонах".
Лето – "…синие тона, противопоставленные элементам оранжевого, скрытого в золотисто-бронзовых хлебах"…
Ночная вода пенится "белым, желтым и серо-жемчужным хаосом".
Взгляните на его мостовую у "Террасы ночного кафе" – как она прекрасна, как богато переливаются цвета! Критик Орье, впервые написавший о художнике, замечал о колорите: "В нем чувствуется металл, сверкание драгоценных камней".
Красные виноградники в Арле – "как красное вино". Резко интенсивные цветовые контрасты: столкновения желтого цвета жизни и синего, почти черного – неизбежности. Дорога вытекает из солнца и мерцает красками. Все струится – из этого переливающегося движения вырывается пламя красных виноградников. Собирая урожай, крестьяне словно гасят пожар.
Художник знал, какие цвета рассказывают о влюбленных, а какие кричат злыми врагами, мог разложить цвет на бесчисленное количество градаций. Помогал цвету вспыхнуть ярчайше или находил его отсвет в глубокой тени. Понимал отношение цвета к добру и злу. И, если бы пришлось переметить красками все человечество по его нравственным достоинствам, не смутился бы.
Палитра Ван Гога, вначале темноватая, к концу жизни стала искрящейся, играющей, хохочущей и рыдающей.
"Все, что касалось цвета, приводило его в исступление".
Он чтил Делакруа, Веронезе, Рубенса, Веласкеса, желтый цвет Франса Хальса.
Самый неказистый предмет раскрывался диковинным цветком перед человеком в синей куртке мастерового.
Самый заурядный пейзаж бурно проявлял свой темперамент.
Ван Гог был бесконечно терпелив. Знал, что пейзаж, как хитрый продавец, сначала распродает малоценное малознающим, и лишь потом, для самых посвященных, его прилавок вспыхнет парчой, шелками да бархатом.
Час наступал, художник начинал свой лихорадочный труд.
"Я сказал себе: не уйду, пока… не появится кое-что от осеннего вечера, нечто таинственное, исполненное серьезности".
Чтобы ждать, надо еще знать, что выберешь. Полотно Ван Гога "Ночное кафе в Арле" называли жутким… Художник именовал его местом, "где можно сойти с ума или совершить преступление". Перед нами изображение "раскаленной бездны", ожидающей пришествия сатаны. Дверь до жути тихо-спокойной комнаты приоткрыта. В комнате разлилось остановившееся ночное время. Желтые блики ламп плывут в нем, как в густой воде. И тонут одинокие дремлющие фигуры, словно мотыльки, попавшие в ловушку. "Я попытался выразить неистовые страсти красным и зеленым цветом. Комната кроваво-красная и глухо-желтая с зеленым бильярдным столом посередине; четыре лимонно-желтые лампы, излучающие оранжевый и зеленый. Всюду столкновение и контраст наиболее далеких друг от друга красного и зеленого; в фигурах бродяг, заснувших в пустой печальной комнате, – фиолетового и синего… Белая куртка бодрствующего хозяина превращается в этом жерле ада в лимонно-желтую и светится бледно-зеленым".
Ван Гог был великим цветочувствителем (слово, открытое Петровым-Водкиным).
Однажды он восклицает: "Если бы я осмелился дать себе волю… начал бы цветом создавать подобие музыки".
У нас Скрябин стремился сочетать музыку с живописью.
Добрый гражданин буржуа не понимал творчества Ван Гога – бунтарского по своему духу и так неуместно, мужицки-грубо выглядевшего рядом с "вершинами" салонного искусства: изображениями томных нагих красавиц, бытовыми анекдотами, сценами приятно-холодно-выспренней истории. А он, видите ли, предпочел бы служить лакеем в ресторане, чем изготовлять "акварели на манер некоторых итальянцев". Правда, и в ресторан ему, одетому в обноски отца или брата Тео, было не попасть. Ван Гог понимал, что, если собираешься искать заказы на вывески, не следует при этом иметь вид голодного и нищего. Чтобы представить себе, каков был голодный Ван Гог, посмотрите на "Едоков картофеля". Он ест только черствый хлеб, потому что черствый хлеб стоит дешевле. Ван Гог заболевает от истощения, выбивается из сил в поисках модели. Добрый гражданин буржуа запрещает прихожанам и жителям позировать, мол, художник нечист, заразен, опасен социально! Обстоятельства гонят Ван Гога по всей Европе: Голландия его первая родина, Франция – вторая. Иногда приходится странствовать пешком, стирая в кровь ноги, спать в сене, на телеге и хворосте, голо-.дать.
"Все время у меня в мозгу и в теле оставалось ощущение голода…"
Ему не давали есть и не разрешали любить.
Он считал: "Полюбить всерьез – открыть новую часть света".
Женщину, которую он полюбил, отдаляют от него. Ван Гог кладет руку в огонь лампы: "Дайте мне повидаться с ней на то хотя бы время, сколько я выдержу…"
Вопль остался неуслышанным.
Он был странным художником, чьи картины не покупают; человеком, который не служит и не стремится в ряды добрых граждан-буржуа. И его отлучили от любви. Его, человека, остро и тонко чувствующего, заставили еще сильнее страдать. Оттого его "Улица" пустынна, длинна, однообразна, как жизнь, которую не хочется пройти.
Его нежность и мечта о жизни, подобной песне жаворонка, обращаются на цветы. Он охотно рисует маки, васильки, незабудки, хризантемы, ирисы, розы… Его полотно "Букет в медной вазе" сияет на голубом фоне, мерцающем белыми блестками, как утреннее море. Цветы безмятежны, написаны без мук, с признательностью отдохновения. Художник называл их "символами благодарности".
Конечно, были у Ван Гога и свои праздники.
Когда к нему в мастерскую пришел настоящий (!) художник.
Когда он купил хороший ящик с хорошими красками.
Когда наконец-то появляются крепкие штаны и такие же крепкие ботинки. Он пройдет в этих ботинках много дорог и навсегда запечатлеет им свою благодарность – напишет на холсте старые, истоптанные, но все еще несокрушимые ботинки-битюги…
Главный его праздник – письмо от Тео.
Ван Гог отважно бросался в самую пучину жизни еще и потому, что знал: будет погибать – Тео поможет.
Его молитва всегда обращена к Тео. Брат – это все: отец, мать, единственный друг.
Из месяца в месяц, из года в год Тео шлет ему деньги и свое слово, неизменно исполненное добра, тепла и веры.
Тео принимает на свои плечи частицу его страданий. Ведь письма Винсента как молнии, брат безропотно и терпеливо выносит их разряды.
История человечества навсегда сохранит память о двух сердцах, бившихся почти в унисон.
Винсент – Тео: "Я всегда чувствую тебя около себя…"
Тео о Винсенте: "Он – сама доброта".
Винсент о картинах: "Оба мы создали их".
С помощью Тео он надеялся собрать объединение художников, которое станет у истоков нового Возрождения живописи. Художники, хотя бы самые близкие, должны запеть общую песнь – ритм песни победит огромную тяжесть работы. (Примерно в то же время в России возникает артель петербургских художников, а затем Товарищество передвижных художественных выставок.) Главная цель, полагал Ван Гог, искусство для народа – он считал это высочайшей и благороднейшей задачей каждого художника. Вдохновенный агитатор и неумелый организатор, он пытается объединить хотя бы малую группу художников, чтобы легче выживать, совместно писать картины, распространять среди рабочих и крестьян рисунки. Девизом возглашаются "честность, наивность и верность". Последняя надежда – домик в Арле, где он поселяется, чтобы отсюда, с юга Франции, начать поход Возрождения под знаменами новой живописи. Ему нужны большие деньги – для хороших и бедных художников, которые отовсюду приедут в Арль, в артель, где воцарятся дружба, братство, любовь.
"Птица в клетке отлично понимает весной, что происходит нечто такое, для чего она нужна… она говорит себе: "Другие вьют гнезда, защищают птенцов и высиживают яйца", и вот уже она бьется головой о прутья клетки. Но клетка не поддается, а птица сходит с ума от боли… Что может разрушить тюрьму?.. Дружба, братство, любовь – вот верховная сила, вот могущественные чары, отворяющие дверь темницы… Там… где есть привязанность, возрождается жизнь".
Но денег нет, силы подорваны и "ателье юга" терпит крах. К Ван Гогу приходит болезнь – художник в лечебнице. В картине "Вид Арля" три синих голых. ствола деревьев на первом плане кажутся гигантскими прутьями этой решетки: за ними сады и дома города, так и не ставшего родным. Клетка оказалась невероятно крепкой. Птица начала сходить с ума от боли. Мир сворачивается в спираль. Но по-прежнему художник притаскивает после тяжелого трудового дня холст – "маленький походный музей", где собирались "куски" жизни. Мазки пляшут в хороводах, возникает танец цвета – свободный, буйный, неудержимый. Беспокойно ворочающаяся почва ("Оливковая роща") рождает живые, извивающиеся, стонущие о чем-то деревья. Они корчатся в родах. Помните, как сказано у поэта: "Улица корчится безъязыкая" – голубовато-стальные стволы, горя нетерпением, рождают зелень листвы, буквально кричащую в небо – крик этот рождает движение небесной материи…
В небе проносятся торжественные вихри ("Звездная ночь"), бешено скачут разгулявшиеся светила над тихим спокойным городком. Космос встречается с землей, их соединяет взрывающееся из земли и извергающееся к звездам зеленовато-коричневое пламя любимого Ван Гогом кипариса.
"…Вид звезд заставляет меня мечтать".
"Дорогу в Провансе" и вовсе называли фантастическим пейзажем. Дорога рекой времени течет к кипарису, мимо кипариса. А он устремляется в сине-голубое небо, где сияют огромные светила. Создается впечатление единого, бесконечно движущегося мироздания. Заточенный в лечебницу художник наблюдает сквозь решетку необозримые хлебные поля, видит в них свою печаль и одиночество. Оно бежит, это неуютное дикое одиночество, словно обжигаясь желтым огнем хлеба, повергнутое в смятение порывистой нервной дорогой, напуганное зловещим вороньем, вылетающим из нависающего темно-синего неба ("Стая ворон над хлебным полем").
Оно было гулким и звенящим, как если бы он сидел на дне глубокой металлической бочки. Или каменной. Это оттуда так отчаянно, с надеждой и безнадежностью повернута к нам рыжая голова художника – из цепи заключенных, идущих круг за кругом меж неодолимых ржаво-плесенных стен тюрьмы ("Прогулка заключенных"). Шаг за шагом. Руки за спину. Скользят тени по отполированному полу каменного мешка. Бесконечность обреченности.
"В будущем будет искусство такое прекрасное, такое юное, такое настоящее и в то же время такое правдивое, что, если мы сейчас отдаем за него нашу молодость, мы только выигрываем в радости".








