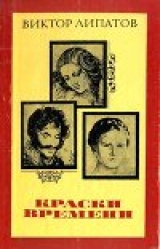
Текст книги "Краски времени"
Автор книги: Виктор Липатов
Жанр:
Искусство и Дизайн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 24 страниц)
СВЕТ В ЛАДОНЯХ
Он любил природу и стремился… обогатить ее полетом мысли и украсить фантастическими парадоксами.
Ядвига Чюрлёните
Микалоюс Константинас Чюрленис (1875 – 1911) – композитор, художник – родился и жил в Друскининкае (Южная Литва). Картины его декоративны, насыщены экспрессией, им свойственно космологическое содержание.
Судьба не щадила этого человека – он умер, когда ему не исполнилось и тридцати шести лет. Судьба вдвойне была к нему жестока: столь богато одарив, дала надежду и не позволила совершить небывалое, просто вложила в грудь нежное, сострадающее сердце, усыпала путь терниями и не отрядила охраняющих…
Микалоюс Константинас Чюрленис жестокость эту понимал.
"Любовь – это дорога к солнцу, вымощенная острыми жемчужными раковинами, по которым ты должен идти босиком".
Он понимал и все же пошел по дороге любви. Босиком. Есть люди, которые не идти не могут. В разные времена их сжигали на кострах, им рубили головы, травили голодом… Парадоксальная ситуация: обыватель-толстосум, полноправный гражданин империй и буржуазных республик, демонстративно отворачивался от их творчества, более того – мешал, чтобы впоследствии, затравив, платить за картины, поэмы, симфонии втридорога. Здесь есть умышленное, но есть и природное непонимание. Картины Чюрлениса, например, не потешали и не утешали, но приглашали к мысли, к путешествию, не так уж и близко – к звездным мирам; заставляли задуматься о загадке бытия, о добре и зле, об истине, наконец… И обыватель не мог связать "Звездную сонату", где упруго клубились, переплетались, мягко вспыхивали, еще не виданные никем за пределами земли, миры, – и вечно торопящегося по музыкальным урокам Чюрлениса. У него ведь зимней порой из рукавов пальто торчали голые кисти рук – не было перчаток…
У Чюрлениса не было перчаток, а он упорно не хотел служить. А предлагали довольно сносные и оплачиваемые должности – к примеру, директора музыкальной школы. Но вместо этого он предпочитает заниматься композицией, сочиняет фуги, прелюды, симфоническую по: му; является одним из учредителей Литовского художественного общества, устраивает художественные выставки, дирижирует. Наконец, он пишет картины, стараясь живописать музыку бытия.
Николай Рерих впоследствии говорил: "Он принес новое, одухотворенное, истинное творчество. Разве этого недостаточно, чтобы дикари, поносители и умалители не возмутились… Он был не новатор, а новый". Да, ко всему прочему, он был совершенно новый. Он не был революционером, хотя в дни революции 1905 года относился к разряду сочувствующих и писал с горечью: "Большой результат дают солдатские карабины". Он не был революционером, но был новым, что в какой-то степени одно и то же.
Чюрленис стремился к тому, чтобы живопись зазвучала, а краски подчинились музыкальному ритму. Он создает живописные сонаты, приравнивая каждую картину цикла к составной части этой музыкальной формы, называя картины "Аллегро", "Анданте", "Скерцо", "Финал"…
Поэт Э. Межелайтис услышал в синем цвете – тихий звук, пиано; в зеленом – громкое форте.
Суть не только в том, что Чюрленис выступил проповедником синтеза искусств, он путешествует "по далеким горизонтам взращенного в себе мира…". Его "путевые картины" ласковы, певучи, добры, чрезвычайно динамичны. Финал "Солнечной сонаты": молчащий колокол заткан паутиной. За ней дремлют на своих тронах старые литовские короли. Ночь. Покой. Но вспыхивает крошечное солнышко – и мрак покоя уже колеблется.
Чюрленис показывает отличный от существующего мир, в котором были и сказки, и предания, и литовский характер. Там радостно катился морской прибой, унизанный жемчужной пеной, весело проносились ласточки над распластавшимися по ветру огнями свечей, сияло множество солнц, да и могло ли быть иначе – Чюрленис солнцепоклонник, его девиз "Гимн солнцу!".
В картинах воля, и некоторая беспечность, и остережение: то пролетит птица – "страшный птеродактиль", и стрелец нацелит на нее свой лук; то море поднимется своей многопалой лапой, грозясь потопить маленькие кораблики…
В полотнах Чюрлениса космос воспринимается художником как нечто близкое, существующее – он и сам словно отдаляется в космос, чтобы увидеть оттуда землю – и она появляется на его полотнах… Объяснять их подчас трудно, они насыщены символами. Да и вряд ли это необходимо; просто следует расположиться к доброму, участливому. Одна из картин Чюрлениса посвящена именно этому – "Дружба": женщина протягивает на ладонях неопаляющий шар, тепло своей души, сгусток света…
"…Как это чудесно – быть нужным людям и чувствовать свет в своих ладонях". Он шел дорогой любви и бережно нес этот свет. Когда говорят об этом удивительном литовском мастере, емкое понятие "свет" присутствует обязательно, "разливая вокруг себя какой-то свет". Нежный, доверчивый, опекающий, беззащитный, очень внимательный и радующийся простым людям, не приспособленный к жизни – таким был Чюрленис, проносящий свет, излучающий свет своей мысли и сердца, свет добра. Любящий свою Литву. Он шел по жизни, сочинял музыку, пел литовские народные песни и писал картины, в которых тогда лишь немногие видели "умение заглянуть в бесконечность пространства".
Работал по "24 – 25 часов в сутки". А наградой – полуголодное существование. Приехав в Петербург, вынужден был обходиться без мольберта, собирать крохи осыпавшейся пастели… Несмотря на это, он борется, путешествует, размышляет над жизнью… Он пишет "Истину": выплывает напряженное, остро наблюдающее лицо, знающее, провидящее, на что-то решившееся… Человек держит в руках свечу, а к ней устремляются и, обжигаясь, гибнут мотыльки. К истине не стремиться невозможно, возможно ли не погибнуть?
"У меня здоровые крылья, но я прибит и очень устал… Я накоплю силы и вырвусь на свободу… Я полечу в очень далекие миры, в края вечной красоты, солнца, сказки, фантазии, в зачарованную страну…" Но вырваться не удается. Все чаще на его картинах появляется вестник беды – черное солнце. Вместо прекрасного замка – отталкивающий зловещим молчанием город, где один владыка – демон. Нужда, неуверенность, непризнание приводят художника к болезни. Он делает последнюю попытку – убегает из больницы на любимую природу, в зимний лес.
«…Слышишь, как тихо переговариваются звезды…»
И больше не возвращается к жизни.
Есть в Арктике горы Чюрлениса (названные членами полярной экспедиции Седова), есть пик Чюрлениса на Памире. Есть в Литве два бережно хранимых музея, где мы можем видеть его работы.
Известны напутственные слова В. И. Ленина сестре художника Валерии Чюрлёните: "Каждый народ должен хранить своих гениев" [Из статьи В. Сидорова "Чюрленис". – "Огонек", 1975, № 37].
Видится город Чюрлениса – несущий на своих стенах гигантские фрески, отражающие безбрежный мир небольших картин мастера. На стенах зданий, в огромных залах картины-символы, будящие мысль, жажду познания и душевного тепла. Об огромных фресках, которые был способен осуществить гениальный литовский мастер, говорил еще Ромен Роллан, почитавший его "магическое искусство".
Чюрленис – путник в маленьком челне, затерявшемся на многоцветной неяркой глади безбрежного моря. И одновременно он капитан на корабле-гиганте в многоцветном же неярком небе. Над кораблем развевается знамя его веры, надежды, любви…
В ОТВЕТЕ ПЕРЕД ВРЕМЕНЕМ
(О советских художниках)

Представим себе, что мы вошли в выставочный зал…
О каждой выставке думаешь: она особенная. Она отражает жизнь Родины, которой и ты сопричастен, – дает представление об искусстве XX века, дает возможность перелистать страницы истории и вглядеться в день сегодняшний: художник, если он настоящий мастер, всегда замечает то, что мы упускаем в суете будней.
На выставках интересно наблюдать и за зрителями. Здесь встречаешь "завсегдатаев", уверенных в точности своих искусствоведческих оценок; мало знающих, задиристых юношей и девушек, пылко устремляющихся прежде всего к какой-нибудь новинке, к картине малоизвестного мастера, удивляющей картине; людей, следующих за экскурсоводом и с завидным терпением, последовательно шествующих от картины к картине, что-то отмечая в блокнотиках; людей, случайно забредших, у которых просто образовалось "окно" во времени…
Я подумал: а что, если бы меня, любителя "вольных" прогулок по музеям, вдруг определили экскурсоводом? Дали группу – таких разных посетителей – и сказали: "Веди, рассказывай, приобщай".
Очевидно, я начал бы опять с автопортрета. На этот раз художников XX века.
Михаил Нестеров на "Автопортрете" явно позирующий, артистично-небрежный, в белом, "профессорском" халате, скептичный, напряженный, остужающе взглядывающий, ничего не скрывающий, чуждый светской любезности. Он не просто артист, он ученый.
Казимир Малевич в одном случае превращает себя, художника, в идола, отливающего бронзовой зеленью; в другом – в этакого венецианского дожа, непреклонного властителя.
Наталья Гончарова на автопортрете с желтыми лилиями улыбается – приветливо ли, любопытствуя ли, проходит и оглядывается. Лицо – неправильное, асимметричное, с большим ртом – выглядит лукавым, загадочно-привлекательным; она словно смеется над вами, над окружающим и над собой. Насмешливая цыганка: "Дай погадаю!" – в то же время ни в грош не ставит свои предсказания. Гончарова, чьи самобытные полотна до сих пор неоднозначно принимаются критиками и публикой. Она весело-уверенна, ее плутоватое, умное лицо не дает нам покоя.
Я долго не мог оторвать глаз от автопортретов Зинаиды Серебряковой – радующейся, обаятельной, большеглазой. Скользит по лицу милая улыбка, мягко светится тело, гамма цветов неназойлива, но каждая мелочь на портрете зажигает радостью. Солнце, согревающее нас своими лучами… Уютная, украшенная приятными сердцу вещами комнатка – часть большого мира.
С одной стороны, тонкий психологизм, а с другой – увлечение декоративностью. На это бы я обратил внимание на выставке. В автопортрете Ильи Машкова виден протест против излишнего усложнения психологической характеристики. Он явно декоративен, упрощен, условен, деформирован. Но у этого якобы боярина в шубе и высокой шапке лицо полно мрачной решимости, так не гармонирующей с шубой и фоном.
Портреты, написанные во времена общественных потрясений, они особенно привлекают внимание.
Действие, решимость, вера – вот что в автопортретах Кузьмы Пегрова-Водкина периода гражданской войны. Мерцают, колеблются краски эпохи, возникают новые цветосочетания: он выбрал свой путь, он решил, его скуластое лицо выдает напряжение мысли, ощупывающей пространство.
Борис Кустодиев, Петр Кончаловский, Александр Дейнека, Александр Волков, Игорь Грабарь, Константин Юон, Мартирос Сарьян… Художники начала века, двадцатых, тридцатых, сороковых годов, утверждающие революционный идеал, стали летописцами великих свершений Страны Советов, а также небывалых испытаний в годы Великой Отечественной войны…
Я прихожу к автопортрету Виктора Попкова и постигаю мысль о гражданской позиции художника. Минута озарения и прозрения. Он прикасается к фронтовой шинели отца, и память переносит в давно ушедшие и вечно живые дни, Будто стороной проходят красноватые тени тех, военной поры, женщин. Они ждут ответа or художника, а он – слоей от них. Видение-плач, видение-напоминание, видение-благословение. В глубоком забытьи художник, очнулся и почувствовал себя в дне сегодняшнем не случайным человеком, не временным, а продолжателем. В его сердце и душу льется живая сила людей, создавших и отстоявших мир, в котором он живет.
А затем я повел бы свою группу к "Портрету Фурманова" работы Малютина.
Кто не знает Дмитрия Фурманова? Но мне следовало бы объяснить своей группе, почему на портрете С. Малютина – счастливый, мягкий, очень добрый и задумавшийся человек. Человек работающий – в руке карандаш, на полевой сумке блокнот. Человек, еще не снявший гимнастерку, на которой в обрамлении ярко-алой ленты орден Красного Знамени. На плечи наброшена шинель. Портрет написан в 1922 году – в это время Фурманов серьезно занимается литературным трудом. Он счастлив – пишет свой знаменитый роман "Чапаев". И еще Фурманов счастлив огтого, что отдал многие годы великому делу, Революции, борьбе с белогвардейщиной. "Я часто спрашиваю себя, – писал он, – хватит или нет у меня мужества погибнуть за дело революции, – и всегда убеждаюсь, что хватит".
Путешествуя во времени, мы встречаемся с рабочими людьми, изображенными Александром Самохваловым; они, властвуя, как бы сливаются с машинами – обычные труженики и в то же время гиганты, несущие в себе величие труда. Это эпоха тридцатых годов, время строительства метро. Художник создал порт-рэг – символ эпохи – "Девушка в футболке", которую зарубежные журналисты назвали "Советской Джокондой". Молодая советская женщина, полная здоровья, сил, энергии, излучающая счастливое спокойствие духа и тела, – одета в самую распространенную одежду тридцатых годов – футболку.
Сам художник назвал "Девушку в футболке" торжествующей…
Меня всегда поражал "Портрет режиссера В. Э. Мейерхольда" П. Кончаловского – живописца страстного, сочного, яркого, любившего пировать на празднике жизни, не очень склонного к психологическому портрету. А тут – полотно резкой трагической силы. Сопоставьте с его же "Автопортретом с женой", где нарочито пышны и густы краски, объемно "лепятся" фигуры, веет ог полотна жадной радостью, удовольствием, лихостью… А здесь, в портрете Мейерхольда, буйная пляска декоративных красок как бы отторгает седого усталого человека, прилегшего на тахту.
Как разнятся в манере письма, в своем отношении к модели крупные советские мастера! Рядом с Кончаловским – П. Корин, бурный и мятущийся, неуступчивый и безмерно талантливый.
Учитель Корина – Михаил Васильевич Нестеров – хвалил себя за портрет Шадра: "Вот какой старик молодец!" Он восхищался работой скульптора Шадра, в частности его статуей "Булыжник – оружие пролетариата". "Спасибо, дорогой Иван Митрич, – писал он, – за ту радость, какую Вы мне дали…" "Живой, свежий, реальный" – так оценивал Нестеров свой портрет.
Торжество смелой мысли показал Нестеров в другом портрете – хирурга Юдина. Это острый, резкий портрет. Известный хирург показан в разговоре-споре, он целеустремлен, профиль его четок, артистичен. Благородные, изящные руки властвуют на полотне – руки мастера-виртуоза.
У прославленного архитектора Щусева на портрете Нестерова вез слилось воедино: напряженное раздумье, возраст, усталость, внезапно грянувшая война. Художник начал писать портрет 22 июня 1941 года…
Возле скульптурных портретов мне хотелось напомнить слова, которые цитировала скульптор В. И. Мухина: "Лицо человека есть лицо истории".
Ликом войны назвала Вера Мухина свой бронзовый "Портрет полковника Юсупова". Страшная, обритая, с вмятинами шрамов голова. Одноглазая – на втором глазу повязка. Прекрасная голова солдата. Тысяча смертей пролетела вокруг этой головы. На выставке "Великая Отечественная война" в 1942 году рядом с портретом Юсупова Мухина выставила и портрет полковника Хижняка. Здесь стремительная готовность к подвигу. Дивизия вышла из окружения, потому что он с немногочисленными бойцами поднялся в отвлекающую атаку и был изрешечен пулеметной очередью. Врачи признали его безнадежным. Но знаменитый хирург Юдин, о чьем портрете работы М. В. Нестерова мы уже говорили, спас полковника. И он снова воевал, до самого конца войны.
…На выставках и вернисажах не рукоплещут. Девушка из "моей" группы положила рядом с портретом из дерева – "Аргентинкой" – желтую ромашку. У другой скульптуры я заметил гвоздичку, У третьей – тоже цветы… Оставленное посетителями восхищение. Знак ответного душевного движения на запечатленный в дереве призыв художника.
Случаются минуты, когда радостное смятение открывает в душе простор для чувств смелых и гордых. Словно окунаешься в могучую, не обрушивающуюся волну и выходишь не просто освеженным, но обновленным и жаждущим найти то, что, может быть, утеряно когда-то. Обретаешь себя, насыщенного энергией, ожиданием, бодростью. И звучит в тебе музыка грядущих свершений и неожиданных очарований… Нечто подобное я пережил у работ скульптора С. Эрьзи и повел свою группу поблагодарить автора.
Лицо словно бы незрячего – провалы вместо глаз. Лицо, возносящееся ликующей мукой: он верит в свое прозрение и тянется, на ощупь, по теплу луча – к солнцу и почти обретает его. Что это за лицо! Страстное, отрешенное от неярких забот, лицо летящего к солнцу, сотворящего чудо над собой и для других.
Степан Дмитриевич Нефедов из бурлацкой семьи, мордвин. Взявший псевдонимом имя своего народа – Эрьзя.
Какой нетерпеливой и ласковой силой насыщены его работы: многочисленные женские портреты – величественные и прекрасные, нежные и размышляющие… Гимн женщине – любящей, властной, все понимающей, все прощающей и бескомпромиссной.
Что ни лицо – то характер. Настроение, Мелодия. Бывают портреты-памятники. У Эрьзи – живые портреты. Лица, выходящие из дерева, полны звонкой жизненной силы. Кажется, приложи руку – почувствуешь ток крови; приблизься – услышишь дыхание; найди верное слово – и тебе отзовутся.
Его Толстой могуч и бесконечен, как природное явление.
Его Микеланджело представляется мне лучшим скульптурным изображением гениального итальянца. Какое мучительное раздумье на исполосованном морщинами лице старика, какое неукротимое желание понять смысл своего существования и всего сущего!..
Его эрьзянки и старики мордвины просты, мудры, человечны.
Эрьзя – портретист настроений. Разорвавшийся криком рот – "Ужас", непреклонное "Мужество", лукаво-неуверенный "Каприз", леденящая "Тоска", зовущая "Фантазия" и, наконец, "Спокойствие", далекое от тревог и равнодушия. А над всем возносится тонкая, стройная, очаровательная "Юность"…
Художник побеждает кистью и сердцем – вот что сказал бы я своим слушателям на прощанье.
БОГАТЫРЬ ЖИВОПИСИ
…Много я знал в жизни интересных, талантливых и хороших людей, но, если я когда-либо видел в человеке действительно высокий дух, так это в Кустодиеве.
Ф. И. Шаляпин
Борис Михайлович Кустодиев (1878 – 1927) – русский и советский худоШник, живописец, график, скульптор, автор театральных декораций. Учился в Академии художеств (мастерская Репина). С 1909 года академик. Тяжело болел. Член-учредитель Нового общества художников, член объединений «Мир искусства», «Союза русских художников», Ассоциации художников революционной России.
Картины Кустодиева написаны единым напряжением воли. "Как бы хотелось писать картины не красками, а единым напряжением воли!" – признавался он.
Нетерпеливая сила в словах художника, желание страстное – подарить свое творческое вдохновение. Подарив, снова испытать озарение, снова увидеть. Вера в неисчерпаемость своих видений – безгранична. Отношение к таланту, как к рабочему инструменту, верному и надежному: "…могу "заказать" голове картину…"
Впоследствии критики признают, что Борис Михайлович Кустодиев "обладает… почти "абсолютным зреньем" в области цвета".
Работает он самоотверженно, с упоением, словно по обету. По двенадцати и более часов в сутки. По пяти часов выстаивает у картины и счастлив.

Кустодиев выказывает себя мастером на все руки – градостроителем, психологом, живописцем, этнографом…
"Все знать, все изучать… все уметь рисовать". Эти со слова – почти лозунг, почти девиз, а не просто строчка из письма.
Копить знания советовал в молодости: не опоздать бы! Освободить время для творчества, чтобы увидеть самые прекрасные дали своей фантазии. Тогда рождается "отсебятина", как он говорил, свободная композиция – картина – чудо, дитя любви и интереса. По его словам, "…красота – высшее наслаждение в жизни". Чудо. Веселое и пылающее.
Увиденное, поразившее, замыслы, фантазии теснятся, преследуют его. Он видит во сне, как его полотна оживают, но фантазия бледнеет на полотне. Кисти медлительны и осторожны. А талант торопит. А ошеломляющая красота жизни, которую он воспринимает болезненно-страстно, рождает одно желание: рисовать, рисовать, рисовать! Ему хочется быть тысячеруким. Он пробует всю "технику", имеющуюся на вооружении: масло, уголь графит, акварель, сангину, цветные карандаши, резцы гравера…
Только художник милостью божьей, талантливый от природы человек мог вот так написать о базаре: "…А что у меня сегодня хорошее настроение, так это вот почему: сегодня здесь базар… да базар такой, что я как обалделый… Только стоял да смотрел, желая обладать сверхчеловеческой способностью все это запечатлеть и запомнить и передать… годами не перепишешь!" Он на базаре как в центре стремительного многокрасочного влхря, карнавала, уносящего и сплетающего воедино товары, людей, лошадей, дуги, игрушки, лапти, платки, сапоги… Все изукрашенное, новое, броское. Все светится, все радужно.
Тогдашняя жизнь его – в постижении "ума помраченья по краскам". Написал свою первую большую картину "Базар в деревне", сердитый критик назвал ее варварской деревней, но тем не менее она получила золотую медаль.
Картина была для него живым существом, он чувствовал: наступает мгновение, когда она уже сама повелевает, ведет за собой.
Не таились ли истоки "самоуправления" картины в постоянном сомнении художника? Внешне Кустодиев похож на упрямого, разбитного, хитрого мужика-удальца. Но взгляд соколиный, захватывающий. На одной из фотографий (Деньер, Невский, 19) он и вовсе человек, желающий напасть. И на автопортрете, который прославленная флорентийская галерея Уффици заказала ему, чтобы поместить в ряду самых именитых, самых достойных мастеров Европы, – он, в меховой шапке и "купеческой" пышной шубе, оглянулся вдруг на ходу, сверкнул взглядом – сердитым, будто прицеливающимся.
Внешне Кустодиев смел и удал, на самом же деле раздираем сомнениями.
В 1909 году, уже зрелым человеком (ему исполнился тридцать один год), признанным мастером, автором "Портрета семьи Поленовых", "Сирени", "Портрета семьи Шварц в усадьбе Успенское", многочисленных портретов, пишет в письме: "…Мне никогда так много не приходилось переживать острых ощущений самого неприятного свойства от своей живописи, как теперь. Такой она мне кажется ненужной, таким старьем и хламом, что я просто стыжусь за нее… Приеду и превращусь в лесного человека и в "прекрасного садовника"… пока что все-таки работаю и завтра буду работать, как колодник, привязанный к тачке". Не стал лесным человеком, потому что был влюбленным колодником.
Кустодиев очень счастлив в ту пору. Любит и любим – жизнь устремляется к гармонической завершенности. Не живет – летит! Подобные часы и дни не повторятся более, он это почти понимает.
"…Вы помните "Четыре отрады" Валерия Брюсова? – пишет он Юлии Прошинской. – Недавно я их прочитал – как все это верно! Теперь я, кажется, переживаю самое лучшее время в своей жизни…"
…Строфы поэзии – смысл бытия.
Тютчева песни и думы Верхарна.
Вас, поклоняясь, приветствую я.
Третий восторг – то восторг быть любимым…
Юлия Прошинская – воспитанница в небогатой помещичьей семье. Как и Кустодиев, поклоняется театру. Рисует. Любит живопись – сама учится в школе Общества поощрения художеств у Я. Ф. Ционглинского. Кустодиев и Мазин (его товарищ) рисуют ее портрет. «Позировать довольно утомительно, но я терпелива…» Ей больше нравится рисунок Кустодиева – значит, художник угадал Юлию, понял. И она почувствовала, что он понял – вот такая, какой нарисовал, – ему мила. И она внимательно присматривается к молодому человеку, который говорит с таким смешным астраханским акцентом: часы, пятно…
А впервые они встречаются в тихом "тургеневском" доме с мезонином, где старинная мебель и старинный фарфор, обширная библиотека и потемневшие картины на стенах создают уютную атмосферу неторопливой ласковой жизни. Здесь наслаждаются музыкой и с удовольствием говорят о живописи.
"Моя Юлик", "Милый Юлик", "Люлинька", "Люле-нок", "Ты одна своя моя"… Читаешь листки, исписанные столь торопливо, столь нетерпеливо, и понимаешь нескромность вторжения в святая святых чужой жизни – так напоены жадной радостью строки…
Кустодиев пишет портрет молодой жены. Она на деревянной веранде-террасе сидит, опершись рукою о стол, – милая тургеневская женщина. Удлиненное благородное лицо, глаза преданные, доверяющие, нежные. Есть какая-то бесконечность постоянства в ее фигуре: наверно, и спустя десять лет – все так же, мягко светящаяся, женщина будет сидеть у стола и ждать.
"…Мой милый, милый…"
Каждое письмо от него – праздник. Она вся растворилась в его жизни.
В саду своих друзей Поленовых Кустодиев написал "Сирень" (Ю. Е. Кустодиева с дочерью Ириной). Нежное пламя сирени и рядом – женщина в сиреневом платье с девочкой на руках, словно символ обновляющей чистоты. Бревна дома оранжево плавятся на солнце, и цвет их перекликается с цветом волос женщины. Картина-идиллия: прекрасная женщина среди прекрасной природы. Женщина шествует в луче света, свет бежит впереди, по траве, – женщина светоносная…
С молодых лет Кустодиев сетовал на недостаток в его характере силы воли. И не знал себя. Пришла большая беда, тяжелая болезнь, не пришла – злым коршуном налетела, согнула до земли, а он выпрямился; растоптала было, а он встал; встал и удивился – жизнь дороже ему пуще прежнего: "Просто вот рад тому, что живу, вижу голубое небо и горы…"
Он совершает сверхчеловеческое усилие. Более чем подвиг. Человек с парализованными ногами, опутанный болью, как колючей проволокой, сумел вырваться из себя, прикованного к креслу-каталке, ринуться в поток могучего творческого порыва. А по ночам снились кошмары: черные кошки раздирают позвоночник. Такая приходила боль – черная.
"Мой мир теперь – это только моя комната".
В швейцарском санатории написал Кустодиев своих первых "Купчих": картину – тоскующий крик о России.
С 1916 года Кустодиев уже не встает и не передвигается самостоятельно. Трагедия усугубляется тем, что по натуре своей он – ртутный, подвижный, легкий, непоседа. Нырял когда-то под волжские пароходы, любил верховую езду, катался на роликах и коньках, бродил по лесу с ружьем… И все это выходило у него складно и ловко…
И вот однажды, после операции, запретили рисовать. Но нарушил запрет – и воскрес, словно живой свет хлынул из окна. С той поры трудился исступленно.
А "Базар в деревне", картина первой поры влюбленности и восторга, положила начало знаменитым кустодиевским ярмаркам, балаганам, масленицам… – в них поклонение веселью и переклику этого веселья с. ликованием природы… Расписные сани с алой полостью: ямщик в синем армяке, шапка с малиновым верхом ("Масленица"). Завивается снег, засыпавший весь город. Вдали – карусель, и люди вокруг беззаботно толпятся. Небо в фейерверковых разводах: красновато-желтовато-зеленых над голубовато-розовыми заснеженными березами. Белопенный снег – для лихости, для троек, для могучих коней, для огня, живости, веселья. Идет-гудет народное гулянье. Бегут мальчишки за санями, играют парни на гармошке, снуют разносчики, клоуны в балагане веселятся под красочными гроздьями шаров и веселят всех вокруг.
Кустодиев писал "Масленицы", плакал от боли, радовался и смеялся. Писал и в 1916-м, и в 1919-м, и в 1920 годах.
Хотел создать типично русскую картину, "как есть картина голландская, французская…", и писал свою провинцию. С той поры замечали в нем неукротимую энергию. Словно собрав последние силы, оставил он оборону и бросился в длительную непрекращающуюся атаку. Проявил подлинные мужество, волю, героизм. Впрочем, что о том говорить, когда к нему, калеке, друзья приходили в горькую для себя минуту, чтобы "унести… запас бодрости, умиления и веры в жизнь". А между тем его утро начинается с процедуры, затем тяжкое вставание, "внедрение" в кресло; по крохам собиралась та самая воля, которой будто бы не было. Бралась в руки кисть…
А Юлия Евстафьевна пододвигает художнику краски, вкладывает в руку карандаш, выслушивает жалобы и настойчиво просит: "Рисуй". Потом Кустодиев признается, как много значила тогда эта ее просьба, эта ее вера в него.
Юлия Евстафьевна создает дом – единственный, где он мог жить и работать.
Необозримый город Кустодиев распростерся в музеях страны – со своими улицами, снегами, площадями, с павами-купчихами и веселыми купцами. Целый город! Подсмотренный в детстве и столь неожиданно преобразившийся фантазией зрелости.
Феноменальная кустодиевская память. Девятилетним побывал он на передвижной выставке – даже к концу жизни мог сказать, где и какая картина висела. Пришла болезнь, что у него осталось? Память да талант. Память, удесятерившая свое напряжение. Кисть спешила за услужливой памятью, за извергающимся воображением.
Подобно мастерам Высокого Возрождения, Кустодиев не может себе позволить ничегонеделанья. От живописи он отдыхает у станка скульптора. Скульптура становится захватывающей и побеждающей страстью, сладостно мучительной, разъединяющей с живописью.
И рисунки его были "как бы отдохновением", их уподобливали рисункам Клуэ, Гольбейна, Энгра.
Кустодиев всегда был, по его собственному признанию, "одержим музыкально-театральной "манией". Играл на цитре, на рояле – всего "Евгения Онегина", "Русалку"…". В театре он завсегдатай, в юности мерзнет в очередях, добывая заветный билетик.
Так он любил театр. В театре впоследствии отчасти осуществляется его мечта: создаваемые им картины-декорации движутся, "играют", становятся живой плотью представления.
Тридцать спектаклей, одиннадцать агитационных представлений. Апофеоз его успеха – "Блоха" во МХАТе втором (Москва) и Большом драматическом театре (Ленинград). Декорации были столь яркими и самобытными, что режиссер разрешает актерам "дурачиться и импровизировать…". Успех был огромный, аплодисменты перерастали в овацию.
Кустодиев сознает свой талант, свою силу мастера сцены. Спокойной и уверенной гордостью дышит его письмо к известному режиссеру А. Дикому по поводу оперы С. Прокофьева "Любовь к трем апельсинам": "Не думайте, что я могу писать только расейские яблоки. Я и к апельсинам неравнодушен. Я могу их так любовно и аппетитно написать, как и съесть. Могу!" За этим "могу"! и отрицание своей "узкопрофильности", упорно навязываемого ему титула певца русского быта.
"Не могу!" – сердито заявил он много раньше некой графине, чья карета остановится у его крыльца. Графиня спрашивала его: "А с открытки вы можете?", как какого-нибудь раскрасочника-вывесочника, маляра.
Жизнь, тупо оборачивавшаяся вокруг самодержавной оси, казалась ему унизительной и мерзкой. Он даже хотел тогда написать картину о России, погрузившейся в глубокий сон. Но в 1905 году Россия пробуждается, и оказывается, что легко краснеющий Борис Михайлович Кустодиев умеет зло смеяться и ненавидеть ее врагов.








