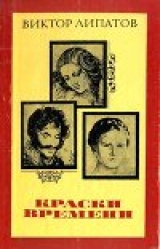
Текст книги "Краски времени"
Автор книги: Виктор Липатов
Жанр:
Искусство и Дизайн
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 24 страниц)
ХУДОЖНИКИ О ХУДОЖНИКАХ
Г. Г. МЯСОЕДОВ
Из очерка жизни и деятельности Товарищества передвижных художественных выставок
Когда я поселился в Москве, среди московских художников более заметным и влиятельным был В. Г. Перов, около которого группировались художники. Благодаря влиянию Перова мне удалось собрать подписи к написанному мною проекту устава Товарищества передвижных художественных выставок…
Перебравшись из Москвы в Петербург, там я нашел Н. Н. Ге, несколько постаревшего, но по-прежнему живого, впечатлительного и увлекающегося. Идея внести искусство в провинцию, сделать его русским, расширить его аудиторию, раскрыть в нее окна и двери, впустив свежего и свободного воздуха, была Николаю Николаевичу весьма по сердцу, и он взялся за нее горячо и увлек Крамского, который в то время относился к Ге с большим почтением. Дело Товарищества снова поднялось на ноги, собраны были подписи, между которыми были подписи Гуна, Клодта М. К., Прянишникова, Перова, К. Маковского, Корзухина, В. Якоби и др.
Вначале дело передвижения по России велось без помощи посторонних сил, члены сами сопровождали выставку, исполняя обязанности артельщика, кассира и т. д. Это был героический период Товарищества. Общество принимало выставки картин с большим интересом, как новинку…
В то время когда мы решились пойти своей дорогой, не было уже недостатка в людях, сделавших себе некоторую известность работами самостоятельного характера, а за ними вслед пробивались молодые побеги, стремившиеся к свету и правде. Новые общественные условия, одновременно отодвинувшие меценатство на второй план, освободили место, к счастью, не оставшееся пустым. Мецената заменил любитель, не платонический любитель и знаток, готовый всегда осудить художника просвещенным советом, но любитель-покупатель, любитель-коллектор, симпатизирующий всему отечественному и совершенно свободный от культа формы или стиля, главным образом ценивший в искусстве его живое начало. Запросы его встретили ответ во всем, что не умело или не желало улечься в одобренные формы. И в русской школе образовалось небольшое самостоятельное течение, то течение, которому любители писать о художествах усвоили потом название нового искусства, не поясняя, что должно означать это название. Мне кажется, что новость его заключается главным образом в его искренности: оно решилось говорить о том, что ему близко и хорошо известно, с чем рядом оно родилось и выросло: оно решилось быть правдивым, или, как принято говорить, реальным, не допускать подделок и подражаний, не желая казаться более того, чем оно есть, при помощи чужих пьедесталов. Во имя этой наклонности к искренности новое искусство навлекло на себя немало упреков и порицаний: упреков в крайнем реализме, отсутствии высших стремлений, отвращении ко всему прекрасному и идеальному и т. д. В этих упреках сказывалось то древнее воззрение на искусство, которое отводило ему роль утешителя в скорбях, вытекающих от излишеств благ мира, роль забавы досужих людей, лучшего после мебели украшения барских стен и пр.
Товарищество, сложившееся в период перелома, объединило почти все, что умело, или только хотело быть искренним и правдивым по мере сил и таланта. Это произошло само собой, в силу обязательства, которое оно на себя приняло, – знакомить Россию с русским искусством, а не с теми имитациями, которые, как бы ни были искусны, останутся бесследными для русской школы.
Это реальное направление мало-помалу проникло почти всюду, не только в сознание художников, но также в сознание публики, которая начала относиться к искусству с меньшей легкостью и предъявлять более серьезные требования. Подъем национального чувства в России создал новые точки опоры и дал доступ новому искусству на все выставки, не исключая выставок Академии художеств. Последние потерпели, в свою очередь, заметное изменение, потеряв казенный распорядок, в котором авторы произведений играли пассивную роль, и, перейдя через несколько метаморфоз, эти выставки приняли до некоторой степени общественный характер, при котором нашлось место для участия в устройстве и их распорядке самим авторам…
Нахожу весьма для нас знаменательным то, что дело наше, начатое в 1870 году, ныне переживает 26-й год официального существования. Четверть века мы работаем в одном направлении, не чувствуя ни усталости, ни разочарования и не сомневаясь в полезности нашего дела…
Члены Товарищества вступили в него в таком порядке: Мясоедов, Перов, Каменев, Саврасов, Аммосов, Аммон, Ге, Крамской, М. П. Клодт, М. К. Клодт, Прянишников, Шишкин, Боголюбов, Гун, В. Е. Маковский, Максимов, Брюллов, Савицкий, Куинджи, Бронников, Беггров, Киселев, Ярошенко, В. М. Васнецов, Литов-ченко, Лемох, Н. Е. Маковский, Репин, Поленов, Волков, К. Е. Маковский, Леман, Суриков, Неврев, Харламов, Кузнецов, Бодарев-ский, Дубовской, А. М. Васнецов, Светославский, Шильдер, Архипов, Левитан, Остроухое, Загорский, Лебедев, Степанов, Позен, Касаткин, Милорадович, Шанкс, Серов, Богданов-Бельский, И. П. Богданов, Корин, Ендогуров, Нестеров, Бакшеев, Орлов, Ко-станди.
За последние 10 лет в Товарищество вступили 23 члена. В настоящее время оно состоит из 42 членов и неопределенного, постоянно меняющегося числа экспонентов…То скромное дело, которому мы служим, оставит свой след и поможет русскому искусству возвратиться на родную почву, выработать свой язык, свои приемы, свое мировоззрение, без которых всякие стремления к высокому, идеальному и прочее останутся упражнениями в живописи, лишенными серьезного значения.
ВСПЫХНУЛ БЛЕСТЯЩЕЙ ЗВЕЗДОЮ
…то, что было у Васильева, а именно – поэзия, что и есть главное в искусстве, а в пейзаже в особенности.
М. М. Антокольский
Федор Александрович Васильев (1850 – 1873) – ученик Крамского. Член Общества поощрения художников. Заболел туберкулезом, и уже в 23 года скончался. Автор проникновенных поэтичных пейзажей.
Человек импульсивный, задорный, задирающий, словно предчувствующий свои отмеренные годы, а потому торопящийся жить, но не впопыхах, а весело, с радостным шумом, стараясь и тем как будто себя утвердить, и о том заставить говорить… Поведение такое естественно: человек еще очень молодой, талантливый необыкновенно – это подтвердят первые же картины.
И что было ставить ему в упрек пристрастие к лимонного цвета перчаткам и блестящему цилиндру, когда он по первому зову мчался с приятелем – ни много ни мало, как перекричать водопад Иматру.
Что было упрекать его, когда он с детства не знал сытости, а видел каждый рубль, да что там – каждую копейку в некоем ореоле и сам сызмальства тянул лямку труда подневольного, ради денег: то разнося письма, то помогая реставрировать картины…
Что раздражаться некоторым фатовством и дендизмом этого якобы "хохотуна-весельчака", отставного члена "Общества вольных шалопаев", отпускающего насмешки, подчас и несправедливые…
Будь он только таким, отшатнулся бы от него великий правдолюбец и правдоискатель среди художников русских – И. Н. Крамской. Да, отстраняясь, присмотрелся повнимательнее и простил молодому художнику Федору Васильеву его предерзостность и некоторое тщеславие. Узнал его ранимую душу, открыл в нем радость живописца: "…прихожу в восторг от прекрасных деревьев". За внешней бравадой разглядел баррикады, которыми юноша ограждался от внешнего сурового, неприглядного мира. Баррикады буффонады, смеха, задора. За ними скрывался тот Васильев, портрет которого Крамской и написал: скуластый, серьезный – сквозь напряженную задумчивость проглядывает трепетная и даже робкая душа, вглядывающаяся в мир настороженно, даже как-то беззащитно.
Таким увидел его Крамской и полюбил. И восхитился природным, столь уверенно, на удивление, зреющим талантом, – ведь Васильев в Академии художеств не учился, за что чиновники канцелярий от искусства ругали его самоучкой.

Конечно, он многому учился сам, посещал вечернюю рисовальную школу Общества поощрения художников, изучал творчество Шишкина и Крамского. Но все же не оставляет впечатление: Васильев-художник возникает вдруг, как из пены рожденный, – настолько по-новому он понимает и пишет русский пейзаж. Настолько неудержимо богатым и расточительным был его талант, которым, казалось, не дорожил, не знал ему меры, не лелеял, не холил, но расходовал беспощадно, словно взмыленных лошадей гнал, будучи убежден, что на следующей станции ждет свежая тройка. Вспомните рассказ Репина, ужаснувшегося, когда Васильев стал срезать уже готовые, так поразившие Репина своей красотой купы облаков… Срезал он их с полотна, как будто небрежно, походя, а на самом деле уверенно, чувствуя: это не то еще, что в душе запечатлелось. Громадный талант рождал громадную взыскательность. «Казалось бы, – писал Крамской, – все места заняты… но искусство беспредельно, приходит новый незнакомец и спокойно занимает свое место, никого не тревожа…» Это и верно, да не совсем. Не так уж спокойно Федор Васильев занял свое место, да и потревожил многих, в том числе учителя и родственника своего – Ивана Ивановича Шишкина, считавшегося тогда классиком эпического пейзажа. «Потревожил» – определение мягкое. Васильев ворвался вихрем, пошатнул устоявшиеся понятия и открыл живую, «дышащую» прелесть русской природы. Обычно его предшественником называют хорошего русского художника Сильвестра Щедрина, но последний писал почти исключительно итальянские пейзажи в их классической композиции: часть города, гавань, море, облака… Правда, если не обращать внимания на видовые аксессуары, южные белые дома, распятия, разноязычную толпу на пристани, – и у Щедрина можно разглядеть намек на пейзаж настроения, великим мастером которого нарекли Федора Васильева. И все же только напмек…
Васильева именовали романтиком, а он был скорее ведуном – ведал о том, о чем другие и не подозревали. Приходил к природе, когда она разговаривала наиболее откровенно, драматично, являла свои тайны, свой характер, – в переломные моменты бытия. Его пейзажи-откровения стали доверительным диалогом человека и природы.
Восемнадцать лет, а он уже признанный пейзажист. Молод, а жаден. Молод, а понимающ: красоту следует впитывать, собирать, зарабатывать. На ходу замечает и забирает с собой "огромный кусок радуги", "ветлы и избы", "скот и людей". Для него – "вся жизнь наружу!". Как сквозь магический кристалл открывал для себя то, мимо чего другие проходили равнодушно.
И вот появляется "Оттепель" – ей присуждается первая премия на конкурсе Общества поощрения художников.
…Просыпаются и земля и небо. Облака, еще не оформившиеся, тянутся, почти задевая землю. Темнеет уводящая вдаль дорога среди уже не белого, но еще не сдающегося буреющего снега. Все только начинается. Ветер обнажает зябкие кусты. Согнувшийся путник с ребенком минуют бедную избенку, придавленную снежным покровом, – неведомо, сколько им еще брести по бездорожью, по чернеющей грязи. Движется облачная тень, придавая полотну глубину. Ощущение печали, какой-то безысходности. Смотришь – и нет радости, а оторваться от картины трудно, словно слышишь печальную, но удивительно красивую песню… так мягки линии, так нежны краски, – чудится за всем этим неяркий, разгорающийся свет. Своим спокойным, раздумчивым тоном картина контрастировала с написанным ранее, полотном "Перед дождем", где все насыщено ожиданием грозы: темное небо, встревоженные птицы, расшумевшиеся деревья. Буйные, яркие блестки света и пятна тени изменили цвета, они вспыхнули неестественно, "раскаленные" до предела: запылала рубашонка на мальчишке, деревья засверкали золотом, гуси обернулись белыми-пребелыми лебедями… Васильев показывает нам русский пейзаж – "прозу, превращенную в фантастику", – отличающийся богатством цветовых характеристик, необычайно выразительной динамикой, живой светотенью, цельностью общей гаммы красок.
Обрушивается болезнь. И еще более резко, чем прежде, встает перед Васильевым вопрос: "Что такое художник? Что такое человек? Что такое жизнь?" Уже не имея сил возводить баррикады самозащиты и вовремя прикрываться маской, он только принимает удары. И снова деньги! Деньги! Они все необходимее: их съедает дача в Крыму, где поселяется художник, съедает болезнь, необходимость содержать мать и брата. Васильев вынужден идти на нравственные компромиссы и выполнять заказ великого князя– украшать ширмы. Совершает насилие над собой, чтобы писать этакую "мерзость" для князя. Наконец создает "несчастную картину" – "Эрик-лик". И даже безгранично любящий его Крамской, отчетливо понимая отчаянное положение своего младшего товарища, сокрушенно разводит руками, стараясь хоть как-то смягчить свое отрицательное мнение. А что смягчать? Тот и сам знал: плохо. Но в глубине души надеялся: мерзость, конечно, а может, талант все же вывезет. Талант не вывез. Вдали от друзей и выставок художник порой, терял критерий мастерства. Но все искупает лихорадочная работа в "неограниченном царстве" – в тесной квартирке, пронизанной сквозняками. В чем-то уступая, он все же до последних дней держится как боец, не расстается с надеждой, не выпускает кисти из рук – как нить, привязывающую к жизни. А ведь в его неограниченном царстве-квартирке нельзя "писать сразу… массами", но только "по частям, до того мелким, что картина иногда делается похожа на ситец…". Не квартира – клетка, из которой он вырывается все реже и реже.
"Человека заперли в комнату, которую постепенно наполняют дымом до того, что человек этот кричал: "Я задыхаюсь, выпустите дым!" Ему отвечают люди с чистого воздуха: "Скорей сделайте усилие и не задыхайтесь, не задыхайтесь только – вот уж и хорошо".
"Пойдемте погулять?" – так грустно-призывно заканчивает он письмо Крамскому.
"О болото! болото!.. – тоскуя, восклицал он из Крыма. – Неужели не удастся мне опять дышать этим привольем, этой живительной силой просыпающегося над дымящей водой утра?"
"Болото в лесу" художник не успел кончить. Но картина уже доносит до нас многокрасочное дыхание болота, деревьев, влажной травы; картина словно плещется контрастными цветами…
В Крыму же он пишет "Мокрый луг", перед которым Крамской долго-долго сидел очарованный: "…свет на первом плане. И эта тень – такого рода, что я не знаю ни одного произведения русской школы, где бы так обворожительно это было сработано…"
Картина сложных переживаний, восхищения, памяти о былом, свидание с юностью (странно звучит это в двадцать два года), глубокого проникновения в многокрасочный мир. Тень смятенных облаков гасит блеск влажной травы, темнит загадочное зеркало воды, отражающее неяркое небо. Перебегает рождающийся и угасающий луч солнца… Создается ощущение живого прикосновения к дышащему простору, подчеркнутое одинокой значительностью купы деревьев. Движущаяся тень уничтожает застылость, все неустойчиво, все пульсирует, все живет. Общий образ – настроение – не затмевает деталей: каждый камешек, каждая былинка выписаны любовно, они – часть целого, где все соразмеримо: дальние и ближние планы, гамма тонов…
Вместо подписи под "Мокрым лугом" Васильев рисует сломанный якорь. Символ крушения надежд. Он отчаялся и написал полотно, которое вновь явилось новым словом в пейзажной живописи.
"В Крымских горах". Горделива и печальна эта картина. Может быть, потому, что, являя будущее творчества художника, стала завещанием. Несовместимо ужились в ней "здравствуй" и последнее "прости" самому себе и друзьям.
Не прорывающийся внезапно стон, а песня отступающего сражаясь; не мрачная и траурная, звучащая трепетно и тонко, вот-вот оборвется…
Писал картину отважный боец: "… работаю каждый день до тех пор, пока кисти в руках видны". "В Крымских горах" – своеобразная исповедь. Могучие противоборствующие сосны на склоне горы – не в них ли видел художник далекого Крамского с его Артелью, под уставом которой и сам уверенно подписался некогда? А тощенькая, с облетающей кроной, тянущаяся за сестрами, трагически не успевающая сосенка, не он ли сам?.. И не является ли – синеватый горный кряж, каменистый щит – вечный, возвышающийся и возвышающий, теряющийся в облаках – дорогой искусства, единственно самобытного и памятного, как подвиг? Идти по дороге – испытание, долга она и трудна, а все ж приманчива и для него неизбежна.
Картину писал "упорно-печальный" человек, сроднившийся, нет, сжившийся со страданием. Выступающий против социальной неправедности: "…мало ли гибнет на земле русской… людей, у которых по их беспомощности могут отнять все!"
"В Крымских горах" – открытие в пейзажной живописи.
Пейзаж эпичен и неспокоен. На первом плане тревожно высветляется часть склона – видишь каждую "жилку" земли, ее беззащитную обнаженность, словно ушедшая тень неосторожно сняла сохраняющий покров. Подвижная светотень создает впечатление напряженного ожидания. Несовместимые, казалось бы, категории – величественность и непостоянство – в этом пейзаже неразрывны. Радостное ощущение красоты природы ("О Крым!., что за поэзия!"), предвосхищение будущего, неукротимое желание парить в вышине… Крамской писал: "Что-то туманное, почти мистическое, чарующее, точно не картина, а во сне какая-то симфония доходит до слуха оттуда, сверху…"
Крамскому казались лишними волы и телега, а Васильев, очевидно, хотел оттенить возвышенность мечтаний непреложностью идущей мимо повседневной жизни – неумолимой, словно равнодушной.
Всегда драматичный, романтический пейзаж настроения – здесь становится предсказанием, предвидением.
Крамской писал, что "какая-то сила" вовлекает зрителя "все дальше и дальше" – от сосен, ввысь, к облакам… Крамской – верный друг. Когда Васильев тоскливо мечется по комнате, ему представляется: откроется дверь, и возникнет Крамской.
Через него он, прикованный к Крыму, слышит голос
Большой земли, живет почти полнокровно, еще борясь: "Замечательно то, что у нас с Вами и враги одни и те же!" В эти дни своего последнего, 1873 года, двадцатитрехлетний Васильев духом сражается с болезнью, бравирует в письмах: "Бежит мимо глаз этакая, сударь мой, Италия, Гишпания… А мы дивуемся, чертом сидим. А? Махнем?"
Ему не удалось вырваться в Петербург, побывать в Италии, Испании. Но картину свою закончил и победил на конкурсе Общества поощрения художеств. Узнал о том. Был счастлив. Сумел показать "момент… нравственного света"; сумел не только выстоять, но сделать еще один, пусть последний, шаг вперед.
Роль Федора Васильева в искусстве велика. Он создал пейзаж мятежа – в жизни природы и мятежа своего духа, пейзаж облагораживающий и волнующий. На скромном памятнике на могиле художника друзьями высечена надпись:
"…Быстро развившись, мгновенно он вспыхнул блестящей звездою.
Но блеск ее яркий остался навеки".
Точные слова.

КТО ТВОЙ УЧИТЕЛЬ
Ге был оптимист, он верил в человека, верил в добро, верил в действие искусства на массы…
И. Е. Репин
Николай Николаевич Ге (1831 – 1894) – портретист, исторический живописец, автор картин на евангельские темы, с помощью которых он решал актуальные вопросы современности. Одно из самых знаменитых его полотен – «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе». Н. Н. Ге – учредитель Товарищества передвижных художественных выставок..
Николай Ге знал, чему учиться, и умел выбирать учителей. «Учителя, – говорил он, – были дорогие люди, они были светлые точки нашей жизни». Художник любил и Герцена и Толстого, как он признавался, «безгранично». Два их портрета – один, написанный в зрелой молодости, другой много позже – память об учителях, размышление о совести, правде, творчестве.
На портрете Герцен вышел дорогим гостем, которого очень ждали. Словно только-только вошел и, еще сохраняя инерцию движения, глянул остро, зорко – мыслью. Наверное, так оно и было. Ге давно жаждал встречи с Герценом, чей призыв – в истине и совести искать норму поведения, чтобы быть свободным, – был ему близок и дорог. Художник зачитывался его книгами, находил в них ответы на самые волнующие вопросы. Хотел даже ехать к писателю в Лондон. И вдруг тот сам – в гостях у Ге… Вот каким запечатлен Герцен на портрете: лицо озарено вдохновением, высокий лоб куполом возносится над изломами подвижных бровей. Крепкое лицо крепкого человека.
По словам художника, лицо публициста и философа, чьи "идеи электризовали", кто до конца сражался с самодержавием.
В 1867 году, когда писан портрет, Герцен сообщает Огареву о слухах, "что "Колокол" приказал долго жить…", и заявляет: "Ничуть не расположен к тому, чтобы своим самоубийством доставить удовольствие его величеству царю".
Лицо поэта. Вот что сказал о Герцене Достоевский: "Агитатор-поэт, политический деятель – поэт, философ – в высшей степени поэт!" Создавая портрет политика и остроумца, Ге также разглядел в нем поэта. Порывистый Герцен смотрит искрометно.
Когда Ге восторженно бросился ему навстречу, заметил прежде всего "живые умные глаза". Но, заглянув внутрь этих глаз, художник отшатнулся от неожиданности: перед ним стоял "глубоко несчастный человек".
Лучший портрет Ге парадоксально соединяет радость жизни с грустью раздумий. Герцен смотрит на вас, он здесь, но он и там, в недавних днях тревог и разочарований. Он говорит нам и одновременно вопрошает себя. Незадолго до встречи с художником писатель пережил личную духовную драму. Герцен заново осмысливает свое место в революционном движении. Герцен – человек, навсегда разлученный с Родиной. Возможно, у Ге возникло то же ощущение, что и у Стасова, назвавшего писателя великим человеком с отрезанными крыльями.
Герцену портрет понравился чрезвычайно: "Портрет идет Rembrandtish (по-рембрандтовски)".
Имя писателя было запретным. Ге вез портрет в Петербург с предосторожностями, пририсовав Герцену Анну на шею.
По другой версии – прикрыл картину бумагой, на которой кого-то изобразил.
Герцен привел Ге к зрелости. Толстой в зрелости ему "все открыл". Они часто встречались с Толстым. Ге жил у писателя в хамовническом доме, учил живописи дочь Льва Николаевича.
Толстой и Ге находят друг в друге души откликающиеся. Разговор у них "поднятый", дарящий Ге радость понимания: чтобы преодолеть муки сомнений, надо "броситься в море и плыть". И Ге это делает. Он не страшится страдать и поступать по совести. Мучительно поклоняясь искусству как выражению "совершенства всего человечества", имеет мужество оставить кисть, когда утверждается в мысли: воздействие искусства ничтожно, занятие искусством суетно. Кладет соседям печи и занимается хлебопашеством. И все же возвращается из печников и земледельцев к искусству, как к трудному подвигу во имя людей. Помогает ему понять это Толстой.
…Толстой с усилием двигает пером, таким хрупким в его красивой "моторной" (по Репину), но грубой руке. Окружает писателя слышная нам тишина. Предгрозовая. Толстой как-то сердито сосредоточен, мысль, затаившаяся в глубокой складке между бровями, проливается и вонзается в бумагу кончиком пера. Свободен могучий лоб – вылеплен мощно и крепко, на все времена. Свет озаряет лоб, и кажется, что напряженное лицо писателя излучает свет: мысль освещает. Перед нами Толстой, уже создавший "Войну и мир" и "Анну Каренину", начавший писать "Так что же нам делать", "Власть тьмы" и "Народные рассказы", которые, кстати, иллюстрировал Ге. В том же 1884 году писатель уже читает домашним отрывок из "Смерти Ивана Ильича".
…Толстой работает за столом в кабинете своего хамовнического дома. Сидит устойчиво, а приходит ощущение некоего непостоянства, движения, временности состояния. Словно шел-шел, жил, страдал и наконец смог сесть за стол. Впечатление о страннике усиливается и внешними приметами: вьющиеся волосы отбрасываются назад, Толстой как бы преодолевает порывы ветра – волосы охватывают голову легким пламенем…
Скажи мне, кто твой друг… А может быть, вернее, скажи мне, кто твой учитель?.. Два учителя. Солнечный луч падает на лица Герцена и Толстого. Отмеченные светом правды, страдающие вместе с людьми, они сражались со злом ради людей.









