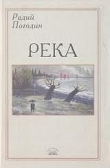Текст книги "По обе стороны океана (сборник)"
Автор книги: Виктор Некрасов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 27 страниц)
Я заговорил сейчас о дяде, хотя и писал в своё время о нём, потому что именно он напомнил мне эсеровский лозунг, а я, невежливый племянничек, спросил его, как он этот лозунг воплощал в жизнь. «Дорогой дядя Коля, – закончил я свой монолог, – не окажись ты в Швейцарии, на груди утёса-великана, твоего любимого Монблана, гнить бы твоим косточкам где-нибудь на Колыме или Магадане». Здесь произошёл взрыв: «Идиотское «бы»! – закричал он на меня. – Если бы, если бы… Если бы, да кабы, да во рту росли грибы. Если б Наполеон на месяц раньше начал свой поход на Россию. Не в июне, а в мае, даже в апреле. А? Если бы, если бы… Если бы твои родители не вывезли тебя из Парижа в пятнадцатом году? Кем бы ты был, в кого бы вырос? А? Отвечай!»
Не помню, что я ответил, очевидно, не удержался и сострил, подлив масла в разбушевавшуюся стихию, но вопрос этот запал мне в душу. А действительно, не вывези меня родители в пятнадцатом году? Кем бы был, в кого бы вырос? А?
Предлагаю некую игру. Может, не всем она будет интересна, поскольку касается в данном случае меня, и всё же приглашаю.
Человек устроен так, что в определённом возрасте на будущее начинает смотреть пессимистически, к прошлому же относится не всегда с нужной долей критики.
Одним словом, мы склонны идеализировать если не самих себя – мы люди скромные, – то своё прошлое. Давайте же сейчас, включившись в предлагаемую игру, попытаемся, запасясь юмором, малость пожонглировать им, этим прошлым, потасовать колоду. Посмотрим, что из этого выйдет.
Маленькое вступление к игре.
За рюмкой водки, стаканчиком вина, кружкой-другой пива любим мы пофилософствовать. Что наша жизнь? Игра! Добро и зло – одни мечтания. Труд сладкий – сказки для бабья… Или – жизнь человеческая подобна кривой – взлёты, падения, опять взлёты. Я же, как художник, а не математик («Слаб в вычитании, путается в умножении, никакого понятия о делении» – первая четверть 1923/24 гг. уч-ка 3-й группы 43-й ЕТШ В. Некрасова), – мыслю образами. Я вижу богатыря на своём буланом коне на перепутье, перед бел-горюч камнем. «Поедешь налево – татарин. Поедешь направо – Соловей-разбойник, поедешь прямо – Лубянка».
А может, не Лубянка, а Шанз-Элизе или плас Пигаль? Мне, например, попался именно такой бел– или розово-горюч камень…
Ну, а если б поехал влево? Или вернулся бы назад, в поисках другого перепутья, а там шестикрылый серафим?
Саперлипопет…
4
Конечно, об этом говорили не один вечер. Ехать или не ехать? Немцев удержали на Марне, но они всё же рвутся к Парижу. Обстреливают из «Больших Берт», сбрасывают бомбы с «Цеппелинов». Для малыша это только развлечения – вчера никак нельзя было оторвать его от окна, ночное небо исполосовано прожекторами, и где-то на скрещении их лучей серебрится сигара. «C'est lui! Regardez! Regardez!» – «Это он, смотрите, смотрите!»
Коля, как и положено всякому пятнадцатилетнему, хотя и побаивался, но упаси Бог обнаружить этот страх, проявляет недюжинные познания в военном искусстве. В спор об «уезжать или не уезжать» не вступает.
Бабушка же и мама говорят об этом, как только мать возвращается из госпиталя.
Бабушка, Алина Антоновна, больше всего боится, конечно, за детей. Немцы возьмут Париж, куда мы денемся? А Киев – там и мебель, и все вещи наши, – всё-таки дальше от фронта. И вообще это Россия. Если уж попадаться немцам в руки, так лучше в своей России. Всегда можно скрыться на какое-то время у Серёжи Эрна, бабушкиного племянника, в его поместье в Солоновщине. А здесь куда? Ни друзей, ни знакомых французских, одни русские…
Мать на противоположных позициях. Немцы никогда не возьмут Парижа. И вообще, ей как врачу негоже бросать свой госпиталь – раненых с каждым днём всё больше и больше, а врачей, особенно хирургов, криком кричи, а больше не становится. Сегодня с Соммы двадцать человек привезли, из них восемь тяжёлых, а класть некуда, и главный хирург к тому же заболел. Бросать госпиталь в такой момент – преступление. И только потому, что Киев дальше от фронта, чем Париж.
Последующие события показали, что мать совершила-таки это преступление. После, надо думать, долгих и утомительных споров относительно маршрута – через Италию и Грецию или Англию – Швецию – выбран был северный путь. Следующий этап – что взять, что оставить, как быть с Викиной нянькой – бретонкой Сесиль – хочет тоже уехать? Наконец всё упаковано, Сесиль оставлена, и через Лондон, Северное море (немецкие подводные лодки!), Швецию, Финляндию семейство добирается до России и оседает в Киеве, где мебель и прочие вещи… Начинается новая жизнь.
Ну, а победи мама, а не бабушка?
Война бы кончилась, не без маминого участия, можно было бы и не краснеть. Дети росли бы. Возможно, Февральская революция опять поманила бы в Россию, но неумение принимать быстрые решения привело бы к тому, что дотянули бы до Великой Октябрьской социалистической революции, а та смешала все карты.
Гражданская война. Глазами из Парижа. Коля, думаю, особенно ею бы не интересовался (даже там, в Миргороде, не так он ею, как она им заинтересовалась – нашёл большевистский патруль французские книжки у мальчика – шпион! – и убили). Младший же (как это было в Киеве) болел бы за белых, добровольцев, так они себя называли.
Первая волна эмиграции. Дружба с генеральскими отпрысками. Единая, неделимая. Потом всё это надоело бы – споры, ссоры, распри…
Лицей. Институт. Возможно, тоже архитектурный («мальчик так хорошо рисует…»). Корпение потом над скучными планами в частном архитектурном ателье. Возможно, одновременно пописывал бы рассказики а-ля Пруст, читал бы французским друзьям в Клозери де Лила или в тесной мансарде в Марэ.
Правый, левый? Скорее левый, рвался бы в Испанию, Гитлера ненавидел, поглядывал бы на Москву. В войну ринулся бы в маки. С полного одобрения матери: «Иди, иди, малыш, только давай о себе как-то знать». После войны рвался бы в Советский Союз. «Всё-таки мы, русские, победили!» В маки дружил бы со сбежавшими из плена советскими офицерами. Вот это ребята! О них написал свою первую книгу «Дымок махорки». В определённом кругу прозвучала, даже какую-то премию получила.
Крушение Сталина переживал как личную трагедию. «Дядя Коля, кажется, с ним встречался, – говорила мать, – не очень одобрял, спроси у него». А жена, если русская – «Ну и слава Богу, вздохнут наконец люди», а если француженка, повторяя слова то ли Сартра, то ли Арагона: «Идиот этот ваш Круштшэф, совсем не думает о Булонь-Биянкур… Во что ж им, рабочим, теперь верить?»
Ленин, Сталин, Хрущёв, Брежнев…
Максимов, к которому он ринулся, как только тот оказался в Париже, разливая водку по стаканам (о Господи, и это всё надо выпить сразу?), говорил ему:
– Вы идеалист, Виктор. Всё ищете жемчужину в говне. А её нет, как ни ищи. А если найдёте, знайте, что она из того же вещества… Все вы, русские, никогда не бывавшие в России, путаете русское с советским. И радуетесь не тому, чему надо. Радуетесь дутым успехам. Ах-ах, победили безграмотность! А вы знаете, что это главная беда советской власти? Ну, не беда – ошибка. Беда наша, народа. Читать-то научили, а книги запретили. И те, кто пишут, главные враги. Будь он даже мальчишкой-поэтом, читающим свои стихи у ног Маяковского…
– Да, но ведь и при Сталине были и Твардовский, и Пастернак.
– А Маяковский пустил себе пулю в лоб… И не равняйте Пастернака с Твардовским. Один был блаженненький, но гений, а другой, хоть и честный человек, но искренний коммунист, верящий в коммунизм. Теперь таких уже нет.
– А вы уверены, что верил?
– Верил. Более того, верил в Сталина.
– А вы?
– Вопрос, на который так прямо не ответишь. Верил, не верил… Сгубил миллионы, знаем, но всё же помним, что Рузвельты и Черчилли, встречаясь с ним, терялись. Вот он и вышел победителем. В Берлине – над немцами, в Ялте – над союзниками. Нет, я не верил в Сталина. В тоталитаризм верить нельзя. Ему можно либо покоряться, либо восставать…
– Почему ж вы не восстали?
– Стыдно, Виктор, надо знать историю своего народа. Помнить о Новочеркасске, о танках, окруживших восставшие лагеря. О том, что командование садилось даже за один стол с руководителями этих восстаний, даже вставало, чтоб почтить память погибших. Потом теми же танками задавили бунт. Но бунт-то был, был, был… А вы говорите…
С Максимовым трудно спорить, у него пропасть аргументов, к тому же он всё время подливает.
На каком-то симпозиуме или коллоквиуме встретился с Войновичем. Кажется, в Лос-Анджелесе. И тот с места в карьер:
– В России был?
– Нет.
– Почему?
А чёрт его знает, почему. То ли боязно в чём-то разочароваться, то ли с грубостью сталкиваться не хочется. О ней столько говорят приезжающие.
– Простите, но вы писатель русский или французский? – вторым вопросом огорошил Войнович.
– Писатель русский, но пишу по-французски.
– Как Набоков?
– Не надо параллелей, Владимир Николаевич. Набоков есть Набоков, а ваш покорный слуга… Что поделаешь, живу во Франции, французский мне ближе, но без русских не могу. Особенно когда столкнулся с вами, с той стороны. В маки в первый раз.
– Не с той стороны, а из России. Вы русский, Россия ваша родина. Вы же там родились?
– Там. В Киеве. В матери городов русских.
– И неужели не тянет туда?
– Тянет, а как же…
– Ну вот и поезжайте, за чем остановка?
Легко говорить «поезжайте». Это тебе не Италия, Испания, сел в машину и покатил. Это встреча с родиной, которую не знаешь. Вернее, знаешь, но как, по книгам, «Юманите», рассказам родителей, своих и чужих, всегда что-то идеализирующих в потерянной своей молодости, по кинофильмам, таким разным – «Падение Берлина», «Журавли», «Баллада о солдате», – никогда не поймёшь, где в них правда, где враньё, по тому же Войновичу, по новым, недавно появившимся авторам… И ехать не для Эрмитажа и Третьяковской галереи, а для чего-то существенного. Для общения. Вот и здесь, с советскими, как-то не очень получается. Не то что они, советские, высокомерны, нет, но, когда говоришь с ними, в каждом их слове чувствуешь – «Ну как вы можете это понять? Мы прошли через всё, понимаете, всё. Энтузиазм, гордость, унижение, убийства, растления, героизм, победу… Всё на собственном горбу. И знаем, ЧТО несём вам. А вы нас слушать не хотите. А несём мы вам рабство. Ясно?»
А мы действительно не понимаем. О каком рабстве можно думать, когда смотришь Плисецкую или Васильева в «Спартаке», взбунтовавшемся рабе?
Войнович улыбается своей милой улыбкой.
– Вот в этом-то и закавыка. Мы мастера обманывать. А вы мастера покупаться. Вас ничего не стоит купить. Умиляетесь нашему балету, бешено аплодируете Краснознамённому ансамблю, гордитесь Гагариным, а он был той же собачкой, что в космос запустили, только в отличие от неё малость выпивал… Оттуда и «алконавт» слово пошло. Верите в наш спорт, в победы на Олимпиадах. Не знаете, что все эти купленные машинами, дачами, заграничными поездками мальчики лишаются всего, если только проиграют. Короче, обмануть вас – раз плюнуть. Вы доверчивы. В то же время не верите в то, во что надо верить. Вы ахнули от солженицынского «ГУЛАГа». А сколько до него о том же самом писалось? Не верили. Не может быть! У Гитлера было, знаем, но это же Гитлер, говорите вы. А то, что Сталин сажал и губил не только евреев, а всех, без разбора, это в мозгу у вас не укладывалось. Не может быть! И опять же Плисецкая, Рихтер, Прокофьев, Шостакович, Эйзенштейн…
Нет, с ними трудно спорить. Они, действительно, знают что-то, чего не знаем мы. Но, кроме того, они считают, что и нас самих они знают лучше, чем мы сами. Языка не одолели, газет не читают, им пересказывают их содержание, но суждения обо всём категорические, возражений не терпящие – Картер тряпка, Штраус – молодец, – всё зависит от степени ненависти к советской системе.
Войнович опять смеётся.
– Да поймите вы, Христа ради, что она заслужила эту ненависть. Вот для вас хуже всех Пиночет. Диктатор, видите ли… А мы только улыбаемся или злимся. Тоже мне диктатура. В день какого-то юбилея Неруды многотысячная демонстрация, антиправительственные митинги. И никто не разгоняет. Десятка два крикунов арестуют, а к вечеру они уже на свободе. Диктатура… А у нас? Попробуйте выйти на Красную площадь с лозунгом, пусть на нём только «Миру – мир» будет написано, сразу же схватят…
– Зачем же мне тогда в эту страну ехать? Даже без лозунга «Миру – мир»?
– А чтоб собственными глазами всё увидеть!
И он поехал.
5
Поехал посмотреть собственными глазами. С туристской группой. На десять дней. Москва, Ленинград, Киев. Поехал к себе на родину. Со своим деревянным эмигрантским русским языком – «не так ли?», «взял поезд», «курьёзно», «роояль», «коолит», «синема» – да и интонации французские, кверху в конце фразы и всё время вырывающиеся «а бон», «д'аккор»[36]36
«хорошо», «договорились» (фр.).
[Закрыть]. В своих, попроще, стоптанных туфлях «Bally», пятилетней давности рубахе, но с вытачками, которые сразу же засекались москвичами, как и джинсы («в Москве 200 рублей пара, а все мальчишки носят, не удивишь»), а джинсы удивляли неизвестным ещё покроем и пуговицами вместо эклер-«молний». Ходил по Москве, тут же разгаданный и разоблачённый, преимущественно молодёжью, а те, что постарше, всё больше расспрашивали про Польшу и Афганистан: «У нас, в очередях, всех этих строптивых братьев-соседей только осуждают. Мы их кормим, освобождаем, а они ещё недовольны, бунтуют… В Ярославле, приехала тут одна, рассказывает, и по карточкам-то ничего не достанешь, яиц месяц уже не видели, а они, видишь, – свобода им нужна, профсоюзы какие-то…»
В Третьяковке (москвичи обожают эти Третьяковка, Маяковка, Отечка…) бесконечно долго держали возле «Утра стрелецкой казни» и «Княжны Таракановой» – посмотрите, как выписан шёлк! – а о Кандинском та же экскурсоводка, милая и интеллигентная, испуганно сказала: «Нет, не в русле русского искусства. Народом не воспринимается». В Ленинграде кроме Эрмитажа, Русского музея и маятника Фуко в Исаакиевском соборе показали дом, где жили Достоевский, и Раскольников, старуха процентщица. Но больше всего говорили о Пушкине, к месту и не к месту цитировали его стихи. В Петропавловском соборе, где похоронены цари, на вопрос о том, правда ли, что при вскрытии гробницы Александра I там ничего не обнаружили, сухо было отвечено: «Никакого вскрытия не было. Бабьи сплетни». При осмотре же тюремных казематов просто ничего не ответили, когда кто-то спросил: «А есть ли тут камеры тех, кто уже при советской власти был арестован? Министры Временного правительства, например?» – молодой человек, водивший экскурсии, просто сделал вид, что не расслышал вопроса.
От Киева, где он родился, матери городов русских, осталось какое-то странное, двойственное впечатление. И красив, ничего не скажешь, и фальшив одновременно. Нашёл дом, в котором родился, на Владимирской, № 4, рядом с немыслимо чистенькой, точно к празднику приодетой Андреевской церковью. Растреллиевский шедеврик знал по фотографиям, а родной дом никаких эмоций не вызывал. Дом как дом, кирпичный, четырёхэтажный, некрасивый, зато балконы большие, широкие. На одном из них, на последнем этаже, по рассказам матери, он провёл первые месяцы своей жизни. Ну, провёл так провёл, велика важность. Доски мраморной о том, что родился здесь французский писатель с русской фамилией, никогда не будет, хорошо, что к какому-то торжественному юбилею доской, и, кажется, даже с портретом, почтили дом, где жил Булгаков.
Зато море эмоций, впрочем, скорее отрицательных, вызвал победный мемориал над Днепром. Тяжеловесная Брунгильда немыслимых размеров с мечом и щитом в руках стояла на постаменте, в котором расположился Музей военной славы. Но музей был закрыт на ремонт, и туристам показали скульптуры разных героев, очень мускулистых и решительных. Такие же бронзовые бицепсы, лятусы и могучие брюшные прессы показаны были на том месте, где тянулся когда-то Бабий Яр. Там расстреливали евреев в первые три дня оккупации. Несколько десятков тысяч. Но об этом ни слова, ни в надписях, ни в облике полуголых гладиаторов, которым впору было передушить весь конвой, в лучшем случае обратить их в бегство…
Вечером бродили по Крещатику, широкой, пустынной, обсаженной деревьями улице. Из любопытства заходили в продуктовые магазины – их три на Крещатике, называются «Гастрономы» – у винных отделов происходили маленькие битвы. Тут же востроглазые, серолицые молодые люди приценивались к часам, к транзисторам, к джинсам, предлагали иконы.
Я, нынешний, парижский, эту крещатицко-гастрономовскую молодёжь прекрасно знаю. Неоднократно одаривал рублями или сам в долю входил. Знаю, кто из них падок на часы, кто на «Плейбой» и футбольные журналы, кто торгует иконами якобы XVII века. Пьяницы. Есть и наркоманы, но за стаканчиком подкрашенной сиропом «столичной» («бабуля, чтоб не засекли, хватай стеклотару, да поживей!») могут и об израильских успехах поговорить, и о результатах последнего Кубка Европы, и об Иди Амине и Энтебской операции, и не только о цене (50 рублей!), но и о содержании «Мастера и Маргариты». И меньше всего о девочках. У них, в основном, стреляют на пол-литру, у них же, если живёт одна или с подругой, её же «раздавливают», а утром просыпаются малость опухшие и опять же выцыганивают что-то на «поправку». Все они вроде где-то работают, или числятся на работе, или делают вид, что ищут её, целый день чем-то, не ясно чем, заняты, вечером же встречаются у «Гастронома» или на втором этаже «Мороженого», рядом, у входа в Пассаж, или напротив в так называемом «Ливерпуле», или в «Гроте» против улицы Ленина. И всегда есть что выпить и о чём перекинуться парой слов, над чем посмеяться, над чем поиздеваться. Над потерями, убытками и прочими прорехами советской власти в том числе. Милиция их всех знает, но в общем-то, не очень трогает. Ни их, ни присоседившихся художников, киношников, ни так называемых письменников.
Если парижский гость к ним присоединится (а такое случалось-таки), то, несмотря на дикую утреннюю головную боль и кое-какие другие последствия, случившиеся ночью («Ничего, парижанин, вытрем, не впервой…»), через неделю, в Париже, будет о чём рассказать…
– Ну, как съездили? – всё с той же тихой, иронической улыбкой спросил Войнович. – Понравилась родина?
– Споили, Владимир Николаевич, споили, как вы говорите, в доску. Что пили, не знаю, какие-то смеси, биомицин называли, разбавленный спирт, потом сказали, что мало и надо, чтоб я пошёл в бар отеля «Днiпро», где продают на валюту, и я пошёл, русских, советских туда не пускали, только иностранцев, и я взял две бутылки коньяка, и мы пошли назад, и опять пили, и они пели про какого-то корнета Оболенского или что-то в этом роде, потом раздобыли гитару, под неё бывший капитан пускал слезу, вспомнив, что до смерти четыре шага. Потом схватили такси – набилось в него человек шесть или семь – ездили, называется, за «пополнением», в какой-то «паровозный резерв», где машинисты ночью обедают. И пьют, конечно. И мы пили. И пели во всё горло, ночью, полиция, милиция то есть, почему-то не останавливала. В общем, было весело. Но утром, утром…
– М-да… В вашем возрасте всё это не очень-то…
– Да в том-то и дело, что забыл про возраст. А здесь, в Париже, всё время помнишь. Даже карточка такая есть, «Вермей» называется. Пятьдесят процентов скидки в поезде… И называемся мы «труазьем аж» – третий возраст… А впереди что? Четвёртый? Для нас, русских, Сен-Женевьев-де-Буа, где Бунин, Мережковский, Мозжухин, дроздовцы, Галич…
– Вот видите, зря мы, значит, ругаем советскую власть. Поехали, помолодели.
А Максимов сказал:
– Что киевская молодёжь? Вы б с писателями погуляли, лауреатами и Героями Соцтруда, это вам не по рублику или в бар за бутылкой коньяка, узнали б и «Арагви», и «Националь», «Метрополь», ЦДЛ. А повези вас в Тбилиси, ног бы не унесли, там бы и похоронили…
6
Да, поездка встряхнула. И основательно. Началось, конечно, с таможни. Молодые, кровь с молоком, таможенники так увлеклись «Пари-матчем» и «Плейбоем» (для того и взяты были), что не обратили внимания на «Жизнь и судьбу» Гроссмана, засунутую среди советских изданий Шукшина, Распутина, Белова. Так и провёз, осчастливив москвичей – умудрялись за ночь прочесть все 600 страниц мельчайшего шрифта. Один же из молодых писателей, специализировавшийся на книгах о военной игре «Зарница» («я туда под шумок и Киплинга протащил, и генерала Баден-Пауэля, организатора первых скаутов в Англо-бурскую войну»), просто заплакал, когда Гроссман был ему оставлен на вечное пользование. «Ну чем я вас отблагодарю?» – и совал серебряные кавказские кинжалы, из моржовой кости эвенкские, у него была целая коллекция. А другой, журналист спортивной газеты, увидав набитую цветными фотографиями брошюру «Мундиаль-82», ахнул: «Вы знаете, сколько мне за неё дадут? Не поверите. Пару джинсов и Мандельштама впридачу, если уж очень буду жмотничать. Ну, а по вашим, парижским меркам, какой у вас самый дорогой ресторан?» – «Максим», «Распутин», «Царевич», «Шехерезада». – «Так вот, втроём целый вечер просидеть… – и тут же засмеялся, – а если буду только на один вечер давать почитать, то с «Динамо», допустим, смогу выдоить на ремонт квартиры. Небольшой, правда, однокомнатной».
В Париж вернулся с полупустым чемоданчиком «дипломат». Всё оставил в Москве. Дома всплеснули руками: «Клошар!» – стираная-перестиранная ковбойка, штаны с пузырями на коленях, стоптанные сандалеты…
Пожалуй, это больше всего, что поразило в Союзе – хотя и слыхал об этом неоднократно, – гипнотическая тяга ко всему западному. Неважно к чему, лишь бы заграничное. Не говоря уже о джинсах и рубахах – ручки, карандаши, зажигалки, тёмные очки (ого-го!), жёлтенькие бритвы (3 франка 5 штук), крем для бритья, зубная паста, щётки, гребешки, трусы-слипы (два мальчика из-за них чуть не передрались, пришлось уйти в ванную и снять свои, заменив их на цветастые «семейные» советские трусы), полиэтиленовые мешки «FNAC»[37]37
Сеть магазинов, торгующих культоварами (фр.).
[Закрыть], баночки от йогурта и приведшие женщин просто в восторг зелёные губочки-тёрочки для мытья посуды. Всё это было взято с собой – бери, бери, не представляешь, сколько счастья доставишь москвичам. И доставил!
Поразили и толпы людей, и не только мальчишек, стоящих на улице возле «Мерседеса», ожидающего своих хозяев неподалеку от «Националя» или у посольств. И это в стране ракет, летающих дальше всех и лучше всех. «А потому и гоняются наши бабы за зелёными губочками, что ракет не сосчитать, – сказал один. – А будь ракет поменьше, а губочек и губной помады побольше, не тряслись бы вы перед нами, плевали бы, как на какую-нибудь Гану или Нигерию, где в джунглях разве что обезьяны не душатся «Герленом»…» (Впрочем, другой, скептик, заметил: «Так уж вы уверены, что ракеты эти летают и дальше, и лучше всех? Советское – это значит отличное! А мы говорим – это значит «шампанское». Тоже дерьмо…» Кстати, о шампанском. Пьют его в Союзе разве что на Новый год, во Дворце бракосочетаний да когда перед закрытием магазинов на винных полках ничего, кроме него, уже не остаётся. Пьют же… Но это тема для отдельной диссертации. Во всяком случае, не так, как французы. Те пусть и с утра, в кафе, перед работой, рюмочку-другую, маленькими глотками, не торопясь, что-то обсуждая, своё, местное, футбольный матч.
Завели как-то москвичи любознательного своего гостя («собственными глазами хочу, собственными ушами…») в элементарную столичную «стекляшку».
Обычной, вываливающейся на улицу, очереди за пивом ещё не было. У прилавка, как объяснили хозяева-москвичи, в этот ранний час только те, кому срочно надо опохмелиться. Двое в ржавых спецовках, с виду водопроводчики, угрюмо разделывали у стойки воблу.
– Дать кец? – спросил один из них, заметив внимательный взгляд гостя.
Гость улыбнулся: «Не откажусь».
И завязалась беседа, та самая, из-за которой и приехал-то он к себе на родину.
– Вот эта рыбина, – говорил старший из водопроводчиков, – слыхал я, что тогда, в Гражданскую, кроме неё и пшена, ничего не было. А сейчас – попробуй достань. Тебе, хоть и русскому, но из тех краёв, не понять. Купить её не купишь, х…я, а достать можно. В обмен. Я одному хмырю кое-какие деталишки завалящие дал (тоже ни за какие деньги не достанешь), а он мне десяточек вот этой, золотистой. Вот так и живём…
Всё это было сказано без признака улыбки, хмуро, зло.
Отсутствие улыбки особенно как-то поражало. В Париже, в метро, тоже не только целующиеся парочки, к концу дня на лицах серая усталость, здесь же, кроме усталости, какая-то внутренняя привычная озлобленность, затаённая готовность противостоять любой агрессии, а она поминутно вспыхивает где-то при входе или выходе. Нет, ни в метро, ни на улице, ни в магазинах улыбки нет, не увидишь.
– А чего лыбиться? – пожал плечами всё тот же, старший. – Вору не до улыбок. А мы все воры, дорогой товарищ, или как там у вас, камрад. Все. И этот, и этот, и этот, – у прилавка постепенно стали накапливаться любители пива. – А она, эта толстая у бочки, главная воровка. И все на неё в обиде, что не доливает, но понимают – иначе не проживёшь. И советская власть наша, голубушка, тоже понимает. Воруй, только не зарывайся. Правильно я говорю, Антон?
– Точно, – кивнул Антон, помоложе. – Не воруют только футболисты да хоккеисты. Спекулянты, но не воры. Торгуют шмотками после загранки, зачем им воровать?
Тема эта, воровства и обмана, очень популярная в Союзе, получила своё развитие за отнюдь не пустым вечерним столом в одном из профессорских домов Москвы. Один из гостей, намазывая толстым слоем икру на ослепительно белый, хрустящий хлеб, с улыбкой (только здесь, за столом, они стали появляться) сказал:
– Вот икра. Та самая, за которую девять граммов свинца замминистра рыбной промышленности получил. Откуда она здесь, на столе? И всё прочее. Стол ведь ломится от яств. Где достали, дорогая наша хозяюшка, Мария Ивановна? В «Гастрономе» № 2, у Елисеева, на рынке? Чёрта с два! Женщина приносит. Есть такая женщина. Ворует и приносит… Так выпьем-ка за женщин!
Все выпили за женщин. Потом кто-то крикнул: «А за мужчин? Мне тут один завмаг, не-не, не скажу какой, два кило копчёных угрей по блату отпустил». И все выпили за мужчин.
Слово взял хозяин.
– Вы здесь совсем недавно, дорогой Виктор Платонович, но, вероятно, обратили всё же внимание на обилие лозунгов «Партия и народ едины». Почему-то над всеми въездами в туннели висят. Многие смеются над ними. А я не смеюсь. И вы не смейтесь. Да-да, едины! Притёрлись друг к другу, ненавидят, острой ненавистью ненавидят, те этих, эти тех, но на данном этапе, как говорится, прожить друг без друга не могут. На черта колхознику или рабочему хвалёная эта демократия, свобода? Да он не знает, с чем её едят. А тут всё знает. Где и как толь достать и что принести секретарю райкома, чтоб полуторку на сутки выдурить, а хапуге начальнику милиции, чтоб наскандалившего спьяну пацана твоего освободил. А Партия – та самая, с большой буквы, честь и совесть народа, знает, что как платят, так и работают. Ну и пусть воруют, только не зарываются. Едины, едины…
Вот это да! Какая прелесть! Простой рабочий и заслуженный профессор закончили свои сентенции одними и теми же словами. Словами, точнейшим образом определившими сущность советской власти. Воруй, но не зарывайся! Вероятно, и в Кремле, за тесными их застольями, они, так называемые руководители, ведя пьяную беседу на ту или иную тему, говорят, осуждая кого-нибудь из потерявших стыд министров: «Знает же, падло, что на воровство сквозь пальцы смотрим, без него наш винтик не проживёт, но знай же, гад, меру. Воруй, но не зарывайся!»
Очень всё это было интересно, стоило ехать. Интересно вникать в то, как советская хозяйка умудряется печься, чтоб холодильник был не пуст – одна другой звонит, что где выбросили. Забавно обнаруживать в букинистических магазинах Матисса, Модильяни, Сезанна, Лежэ, в обложках «Скира», но, упаси Бог, Сальвадора Дали – его только из-под прилавка. Интересно, и не только печально, всё, связанное с еврейским вопросом. Централизованный, насаждаемый сверху, антисемитизм и значительно меньший, чем можно было ожидать при такой легализированной директивности, охват им населения. И увлечение ивритом, древней историей, Библией определённой прослойки молодёжи. И крестики на шее. И относительно малый процент наркоманов при алкоголизме, ставшем уже всенародным бедствием. Слыхал, правда, что в Афганистане солдаты, лишённые привычной водки или самогона, с лихвой переключились на гашиш…
Всё это интересовало, удивляло, пугало, радовало, восхищало, отталкивало, возмущало, не укладывалось в голове…
Одно особенно никак не укладывалось. Свободные, еретические речи, и не только за профессорским столом, а и в забегаловке, да ещё с кем, с незнакомым иностранцем, с другой стороны – всеобщая запуганность. Что вы, разве можно? Звонить в Париж, поддерживать переписку с уехавшими евреями? Телефон выносят в соседнюю комнату, покрывают подушкой, хотя все знают, что подслушивать можно и из стоящей у подъезда машины. Ну, и излюбленнейшая тема, кто на кого стучит. «Не может быть, чтоб на тебя не стучали. Исключено. Но кто, кто?» И всем, сидящим за столом, становится не по себе.
7
По части запуганности или, скажем так, разновидности её – лояльности по отношению к советской власти, цену которой знают поголовно все, – поразил особенно старый друг детства, ещё парижского. Он со своими родителями вернулся в Россию тогда же, в пятнадцатом году. Отец его занимал какой-то крупный пост, но, как ни странно, умер естественной смертью, а сам Мика стал одним из ведущих журналистов страны. Из тех, кто без конца ездит по заграницам, участвует во всех конгрессах, съездах, обо всём, что происходит в мире, знает не только понаслышке.
На телефонный звонок ответил сдержанно: «А-а, очень рад, очень рад…» – но особой радости в голосе не чувствовалось. Тем не менее пригласил к себе в гости. Жил он в одном из безликих высоких домов, что выросли на месте старых особнячков арбатских переулков. Квартира большая, светлая, с двумя балконами и видом на кремлёвские башни. Обставлена со вкусом, с некоторой претензией – чувствовалось, что хозяин усердно листает заграничные архитектурные журналы.
Низкие столики, шарообразные, подсвеченные аквариумы с экзотическими рыбками, в углу, в японской вазе, нечто вроде икебаны из веток и листьев, на стенах африканские маски, абстрактные полотна, на почётном месте, над камином (электрическим!), два пейзажика в золочёных рамах – Марке и Дерена…
Именно о них, как и где они ему достались, больше всего хотелось говорить в этот вечер хозяину. О них и о бутылке старого «Амонтиладо» («Помнишь Эдгара По?»), привезённой им из Штатов, о маленькой японской сосенке «бансай», которая, увы, гибнет, хотя из Японии ему присылают удобрения и по телефону дают советы – что поделаешь, климат не тот…