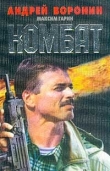Текст книги "Плацдарм"
Автор книги: Виктор Астафьев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 32 страниц)
По ту сторону Великой реки тоже готовились к встрече. Дороги по седловине и за седловиной пылили густо – двигались войска на передовую, окапывались в желтых полях, в серых прибрежных пустошах. Гуще и гуще перепутывались между собой нити траншей, окопов, ходов сообщений, углублялся ров, опоясавший все побережье, седловина и ниже ее отголоском темнеющие косолобки сделались пятнистыми – исколупали немцы высоту Сто, оборудуя огневые позиции, наблюдательные, командные пункты и всякие другие, необходимые фронту заведения. Среди изборожденной земельной глушины еще нарядней засветилась пойма речушки Черевинки – осень все настойчивей, все ближе подступала к Великой реке, нежила мир Божий исходной солнцезарностыо бабьего лета.
Пыль, непряденой куделей мотающаяся по земле, расползалась над берегом, тучками катила к воде, и по-над рекою что-то искрилось, вспыхивало, золотилось. Солнце применительно к нижнеобскому лету в полдень пекло почти по-летнему. Лешка разулся, распоясался, похаживал босиком. Ноги, как и у всех давно воюющих людей, в обуви сделались бумажно-белы, ступни боялись даже сенной трухи.
Низко, нахраписто пронеслись два «фоки», взмыв над Лешкиной головой, разворачиваясь за хутором, всхрапнули и, прижавшись к самой воде, прячась от ударивших пулеметов, малокалиберных зениток «дай-дай!», – улетели куда-то. Со старицы заполошно, вдогон, раз-другой лупанули зенитки покрупнее и тут же конфузливо заткнулись. Широко расползаясь, плыли по небу грязные пятна взрыва.
«Интересно, Обь у нас стала или еще только забереги на ней?» – лежа на пересохшей, ломающейся осоке, Лешка заставлял себя вспоминать, как об эту пору глушили шурышкарские парнишки налимов по светло замерзшим мелким сорам, как лед щелкал и звенел у них под ногами, белыми молниями посверкивая вдоль и поперек. Оставив подо льдом мутное, на зенитный взрыв похожее облачко, металась рыба меж льдом и илистым дном. Гоняясь за рыбой, пареваны входили в такой азарт, что и промоин не замечали, рушились в них.
– Эй, вояка! Ты не знаешь, где тут наша кухня? – прервали Лещкины размышления два коренастых мужика, потных от окопной работы, на ботинках у них земля, обмотки и руки грязные.
– Где наша – знаю, а вот где ваша – не знаю. Наверно, там, – показал он опять же в сторону старицы. – Там кухонь густо сбилось.
– Ну дак спасибо тогда, – сказали бойцы и, побрякивая котелками, двинулись дальше.
Провожая взглядом этих двух бойцов в выбеленных на спинах гимнастерках, в пилотках, севших до половины головы и как бы пропитанных автолом, – свежий пот, выше пот уже подсушило и пилотки от соли как бы в белой, ломкой изморози, Лешка вдруг остро затосковал. Изработанный, усталый вид этих бойцов с засмоленными шеями, мирно идущих по скошенному полю, на котором начали всходить по второму разу бледные цветы клевера, сурепки и курослепа, обратил его в тревогу, или что другое защекотало под сердцем, и когда солдаты спустились в балку, размешанную гусеницами и колесами, он отрешенно вздохнул: «Убьют ведь скоро мужиков-то этих…»
Почему, отчего их убьют, – Лешка ни себе, ни кому объяснить не смог бы, да и не хотел ничего объяснять. Он упорно стремился еще раз вернуться памятью на Обь, побегать по заберегам, погоняться за стремительной рыбой, но в это время из-за реки опять выскочили те два шальных истребителя, пронеслись над хутором, обстреливая его из пулеметов. Зенитчики на этот раз не проспали, забабахали густо. Народ из хутора сыпанул кто куда. Лешка залез в каменья и, когда затих гул самолетов, унялись зенитки, вылезать на свет не стал: «Уснуть надо. Обязательно уснуть – время скорее пройдет, соображать лучше буду».
Испытанный тайгою и промысловой работой, он умел собою управлять и был еще здоров, не размичкан войною настолько, чтобы не владеть своим телом и разумом, оттого и уснул быстро, и ничего ему не снилось.
Войска все прибывали и прибывали, пешие и конные, на машинах с орудиями и на танках, в новой амуниции свежие части, в истлевшей за лето бывалые, обносившиеся бойцы. Смена летнего обмундирования через месяц, тем, кто доживет до нее. Большие уже проплешины появились в приречных дубняках, в буковом лесу у старицы – на плоты их свалили, тяжелые, непригодные для воды, но не было поблизости других деревьев, вот и смекали дубок объединить с вербой, старой балкой от хаты либо телеграфным столбом – все доброе дерево, какое росло возле старицы, было уже срублено, местами ослепленно светилась обнажившаяся вода, заваленная ветками вершинника: в вырубках, по кустам прятались кухни и кони. По всей этой неслыханной лесосеке плотно установлены батареи, за старицей, под сетками, усеянными палой листвой, притаилось несколько дивизионов реактивных минометов.
Самолеты-разведчики шастали и шастали над рекой, норовили прошмыгнуть в глубь русской обороны, посмотреть, что и куда двигается. Двигалось много всего, и все в одном направлении – к Великой реке. Сосредоточение войск совершалось ночной порой, и гудели, гудели моторами приречные уютные места, вытаптывалась трава, сминались кустарники, бурьян, на берег выбегали испуганные кролики и зайцы, грязным чертом выметывались кабаны, щелкая копытцами по камням, не зная, куда деваться, метались беззащитные косули. Солдатня открыла безбоязненную охоту, из кухонь и от костерков доносило запахи свежей убоины.
«Надо будет утром написать домой письмо», – решил Лешка.
Не один Лешка Шестаков был откован войною и обладал даром, предсказывать грядущие события, несчастья, боль и гибель. Побывавшие в боях и крупных переделках бойцы и командиры без объявления приказа знали: скоро, скорей всего уже следующей ночью начнется переправа, или как ее в газетках и политбеседах называют, – битва за реку.
В реке побулькавшимся, отдохнувшим людям не спалось, собирались вместе – покурить, тихо, не тревожа ночь, беседовали о том, о сем, но больше молчали, глядя в небеса, в ту невозмутимо мерцающую звездами высь, где все было на месте, как сотню и тысячу лет назад. И будет на месте еще тысячи и тысячи лет, будет и тогда, когда отлетит живой дух с земли и память человеческая иссякнет, затеряется в пространствах мироздания.
Ашот Васконян днем написал длинное письмо родителям, давая понять тоном и строем письма, что, скорее всего, это его последнее письмо с фронта. Он редко баловал родителей письмами, он за что-то был сердит на них или, скорее, отчужден, и чем ближе сходился с так называемой «боевой семьей», с этими Лешками, Гришками, Петями и Васями, тем чужей становились ему мать с отцом. У всех вроде бы было все наоборот, вон даже Лешка Шестаков о своей непутевой матери рассказывает со всепрощающим юмором, о сестрицах же и вовсе воркует с такой нежностью, что на глаза навертываются слезы. В особенности же возросло и приумножилось солдатское внимание к зазнобам – много ли, мало ли довелось погулять человеку, но напор его чувств с каждым днем, с каждым письмом возрастал и возрастал. Ошеломленная тем напором девушка в ответных письмах начинала клясться в вечной верности и твердости чувств. Да вот зазнобы-то имелись далеко не у всех, тогда бойцы изливались нежностью в письмах к заочницам.
Васконян Ашот начинал понимать: люди на войне не только работали, бились с врагом и умирали в боях, они тут жили собственной фронтовой жизнью, той жизнью, в которую их погрузила судьба, и, говоря философски, ничто человеческое человеку не чуждо и здесь, на краю земного существования, в этом, вроде бы безликом, на смерть идущем, сером скопище. Но серое скопище, в одинаковой одежде, с одинаковой жизнью и целью, однородно до тех пор, пока не вступишь с ним в близкое соприкосновение, В бою начинает выявляться характер и облик каждого отдельного человека. Здесь, здесь, в огне, под пулями, где сам человек спасает себя от смерти, борется, хитрит, ловчится, чтобы остаться живым, уничтожая другого человека, так называемого врага, все и выступает наружу: «Война и тайга – самая верная проверка человеку», – говорят однополчане-сибиряки. Васконян в боях бывал мало, с самого сибирского полка Алексей Донатович Щусь опекает его, заталкивает куда-нибудь. Ребята, те еще, с кем он побратался в сибирской стороне, одобрительно относятся к действиям и хитростям своего начальника.
Будучи последний раз в каком-то мудрено называющемся отделе штаба корпуса, Васконян попал под начальство человека, осуществлявшего связь с французами, он что-то, где-то и кого-то агитировал через армейскую или фронтовую радиотрансляционную батарею с рупорами. Агитатор дурно говорил по-французски. Васконян заподозрил в нем французского еврея или русского француза да и сказал ему про это. «Француз» пожаловался в какой-то еще более секретный отдел. Особняк с презрительной насмешкой молвил: «А-а, старый знакомый! Ты когда укоротишь свой поганый язык? Когда уймешься? Или тебя унять?..» Васконян ему в ответ: «Извольте обращаться на вы, раз старший по званию и к тому же офицер. Что касается языка, то он у вас испоганен ложью больше, чем у меня, и я считаю, вам, а не мне надобно униматься и как можно скорее, иначе опоздаете». – «Куда это я опоздаю? „ – «К страшному суду, вот куда“. Бесстрашие этого нелепого человека было обезоруживающим. Беседа закончилась почти что ничем.
– Надо бы тебя под суд упечь, да пока повременим. Сплаваешь за реку, продолжим разговор, есть тут бумаженция из вашего доблестного батальона, и в ней повествуется, как я догадываюсь, о вашей персоне.
– Вы не поплывете, конечно, за реку. У вас более важные дела?
– Ступайте вон!
Рвясь к своим армейским корешам с такого вот хитрого места, Васконян делал «глупости». Но как это опытные вояки и комбат Щусь, армейский человек, не поймут, что только здесь, среди своих ребят, Васконяну место, здесь он «дома». Никогда у него не было ни товарищей, ни друзей, родители раздражали его своей навязчивой опекой, но его отдаляют и отдаляют от ребят, он же их до трепета в сердце любит, на переправу напросился, показав комбату и всем друзьям-товарищам, какой он лихой и умелый пловец, насморк добыл, зато класс выдал!
«Ну и черт с тобой!» – махнул рукой Щусь.
Пока Васконян ошивался в штабе, в хитром агитотделе, пока ждал решения своей судьбы, утоляя книжную жажду, поначитался он всякой всячины. Французский еврей или русский француз понавез ящики книжек, да все с грифами, да все не по-русски писанные, – для важности, видать. Наместник Гитлера в России Розенберг, как и остальное гитлеровское охвостье, заранее уверенное в полной победе над большевизмом, совершенно откровенно и цинично писал о том, что война, если она затянется, может продлиться лишь в том случае, если армия полностью перейдет на снабжение России. «Отобрав у этой страны все необходимое, мы обречем многие миллионы людей на голод и вымирание, иного выхода из положения нет. Гитлер еще до начала военных действий в России утверждал, что война здесь будет вестись вовсе не по рыцарским правилам, это будет война идеологий и расовых противоречий, вестись она будет с беспрецедентной, безжалостной жестокостью. Немецкие солдаты, виновные в нарушении международных правил и норм, будут оправданы фюрером, Германией и прощены историей. Да Россия и не имеет никаких прав, так как она не участвовала в Гаагской конференции по правам человека. Фюрер мыслил разделить ее европейскую часть на отдельные земли-королевства, устроить что-то похожее на Британскую и Римскую империи, населенные рабами под господством расы господ-немцев. Возникнет новый тип человека – вице-короли, но для этого необходимо захватить обширные территории, умело ими править и эксплуатировать, до поры до времени скрывая от мира необходимые меры: расстрелы, выселения, истребление нетрудового элемента…»
Васконян глядел на ночное небо, на звезды и думал о том, что под этим невозмутимым, вечным небом составляют дьявольские планы маленькие смертные человечки, присвоившие себе право повелевать миром по своему разуму и усмотрению, и все ведь делается во имя и для блага своего народа, доподлинной гуманности и справедливости. Нацизму противостоит большевизм – фрукт с начинкой новой морали, свежей гуманности, отвергающих нацистский и всякий прочий гуманизм. Странно только, что мораль и гуманизм утверждаются разные, методы же их утверждения одинаковы – во имя лучшей половины нации, худшую по усмотрению немецких и советских специалистов на удобрение, в отвал. Через кровь, через насилие навязывание бредовых взглядов о мировом господстве и во имя этого беспощадная борьба с инакомыслием, хотя в принципе и инакомыслия-то нет, с одной стороны завоевание мира во имя арийской расы, без марксизма, с другой стороны – завоевание мира ради утверждения идей коммунизма с помощью передовой марксистской науки, учение-то сие, кстати, создано в Германии и завезено в качестве подарка в Россию оголтелой бандой самоэмигрантов, которым ничего, кроме себя, не жалко, и чувство родины и родни им совершенно чуждо.
В то время, как Ашот Васконян глядел в ночное небо, где вроде бы свершался праздничный карнавал – то его, небо, просекало и обшаривало голубыми, белесо рассыпающимися в выси прожекторами, простреливало разноцветно мелькающими, на жемчуг похожими пузырьками пуль, – медленно плывущие зеленые и красные огоньки ночных самолетов тащили во тьму мерный гул и сонное, добродушное урчание моторов; самолеты эти, словно с возу мерзлые дрова, сваливали на землю кучи бомб, и земля, дрогнув, качнувшись, и устало охнув, снова успокаивалась и отдыхала.
Ашот Васконян мучился вечными вопросами и по этой причине не мог уснуть. А комбат Щусь, сидя на валуне, хорошо нагретом за день, еще и еще прикидывал, как, где и когда легче перемахнуть водное пространство, прорваться за реку и выполнить боевую задачу, при этом как можно меньше стравив людей. Пополнение в полк и батальон прибыло незначительное – «колупай с братом», – как определял военный контингент острослов Булдаков, – больше из госпиталей, раненные по второму, кто и по третьему разу, да еще какие-то унылые белобилетники, долго и ловко ошивавшиеся в тылу и на лапчатых утят похожие оттого, что обуты в ботинки не по размеру, выводок солдат уж двадцать пятого.
«Годки», еще недавно шалившие в бердских казармах, шерудившие сидора новобранцев в карантине, изображали из себя честных, неподкупных людей, били морды пойманным с поличным охотникам за съестным. Оно, конечно, хорошо, что поучили старшие младших – пакостить в своем подразделении – распоследнее дело, впереди тяжелые бои и испытания товарищества на прочность, если орлы из пополнения не сразу примут солдатскую науку, дела их за рекой будут худы, у кого и безнадежны. Тут, на войне, спайка – одно из главных условий выживания, спайка и круговая порука. Вон они орлы-осиповцы, как на сельских работах сдружились, так рука об руку и в бои вступили – ни одного своего раненого не бросили, без еды и угрева никого не оставят. Они и за реку поплывут с надеждой, что надежа-товарищ всегда рядом, всегда поможет, в любом опасном деле. А коли край подойдет, последней крошкой поделится, раненого тебя спасет.
Река в ночи была покойна, отчужденно поблескивала сталистой твердью на стрежи, но под правым, высоким берегом пугающе черна, могильна. Взлетела осветительная ракета, соря огненными ошметками, мерцая, описывала дуги и обозначила, как бы приблизила овражистый правый берег. Недвижен, меркл, объявился он на минуту, пополоскал черный фартук, обозначил и вывалил в воду какие-то предметы, днем невидимые из-за мерцания солнца иль широкого пространства воды – камень с плешивой макушкой, уснувшую на нем чайку; короткой зарничкой мелькнула пойма Черевинки; кустик бузины и тальника за устьем речки, в жерле оврага обозначились, днем их там еще не было.
«Точка! Замаскирована пулеметная точка, – отмечал комбат. – Укрепляется немец, ждет, но сам же, себя же маскировкой и выдает…» – когда отдаленный свет очередной ракеты достигал шиверов, воду тревожило, морщило, в неспокойно ворочающейся стрежи реки играло: желтый свет ракеты переливался всеми цветами радуги, двоился, троился, искручивался спиралями. Тревожилось сердце комбата – свет ракеты хорошо, как в зеркале, отражался в глуби реки, выявлял стрелу ее – на этой-то стреле, в заманчиво блистающем зраке больше всего и погибнет народу.
Днем, на оперативном совещании, где присутствовали работники штаба корпуса и дивизии, штаба соседнего, резервного полка, пожилой усталый человек – новый командир дивизии, разрабатывалась и утверждалась так называемая диспозиция, план переправы через реку, и на этом-то совещании-инструктаже окончательно выяснилось: плавсредств ничтожно мало, ждать же, когда их изладят да подвезут – недосуг, момент внезапности и без того упущен, противник спешно укрепляется на правом берегу, надо начинать операцию и… помогай нам Бог. Непременный, всюду и везде с пламенным словом наготове, присутствующий на совещании начполитотдела дивизии Мусенок тут же выдал поправку: «Наш бог – товарищ Сталин. С его именем…» Как всегда, слушая говоруна, командный состав морщился, отворачивался, сопел носами, но терпеливо впитывал назидания. Чуть ли не полчаса молотил языком Мусенок. Командир стрелкового полка, Авдей Кондратьевич Бескапустин сердито сорил трубкою искры, ворчал себе под нос о том, что работы по горло, времени в обрез, но трепло это неуемное ничего знать не хочет…
Грузноватый от годов и тела, человек добродушный и в чем-то даже застенчивый, Авдей Кондратьевич настолько был раздосадован и раздражен, что пнул часового, уютно заснувшего на крыльце хаты, в которой располагался штаб полка. Часовой спросонья свалился с крыльца, ползал по цветам маргариткам, отыскивал винтовку. Такой же, как и его командир, пожилой, малоповоротливый ординарец заварил чаю в ведерный чайник, поставил его на стол, сгрудил кружки, зачерпнул котелком сахару из вещмешка. Собранный в штаб комсостав полка чаю обрадовался. Всяк сам себе насыпал в кружку сахару. Пришли майор Зарубин с Понайотовым из артиллерийского полка, пили со смаком чай, сосредоточенно молчали. Полковник Бескапустин, переобувшийся в старые, аккуратно подшитые валенки – у него ревматизмом корежило ноги – время от времени громко отпыхивался и, ровно бы самому себе, бубнил: «Н-ну, художник! Н-ну, художник! Когда этот говорильный автомат и изломается?!»
Собрались как будто все. Ординарец снова подвесил наполненный чайник на притухший костер. Бескапустин обвел вопрошающим взглядом своих командиров. «Ну, что скажете, орлы мои – художники?»
«Художники», уже нанюхавшиеся пороху, не по разу битые и раненные, высказывали общее мнение: надеяться приходится снова на себя, только на себя и на свою сообразительность, да на поддержку артиллерии.
– Все правильно, все правильно, – подтвердил командир полка, артиллерии на берегу сосредоточено много, и еще обещают, – но наступать-то, воевать-то нам…
Полковник Бескапустин дал задание: первым, еще до начала артподготовки, на правый берег должен уйти взвод разведки. Ничего он там, конечно, не разведает – немцы прижмут его на берегу и перебьют. Но пока этот взвод смертников, которого хватит ненадолго, отвлекает противника, первому батальону с приданной ему боевой группой уже во время артподготовки нужно будет досрочно начинать переправу. Достигши правого берега, без надобности в бой не вступать, по оврагам продвигаться в глубь обороны противника по возможности скрытно, рассредоточенно, не привлекая к себе внимания. К утру, когда переправятся основные силы корпуса, батальон должен вступить в бой, но уже в глубине обороны немцев, в районе высоты Сто. Рота из полка Сыроватко, под командой старшего лейтенанта Оськина по прозванию Горный бедняк – за столом приподнялся, качнув головой, стриженной под бокс, довольно щегольской офицер и всем сразу приветливо улыбнулся, – рота Оськина прикроет и поддержит батальон капитана Щуся. Все это должно происходить в районе заречного острова, с него, по мелкой протоке – вперед и только вперед, под укрытие яра, и сразу во тьму оврагов. На левобережном острове не прохлаждаться, не толпиться – он, конечно же, хорошо пристрелян – сюда немцы обрушат главный огонь. Другие батальоны и роты начнут переправляться на правом фланге, с прицелом на устье речки Черевинки, чтобы рассредоточить огонь противника, создать впечатление широкого, массового наступления. Артиллеристам задание одно – обеспечить огневой поддержкой стрелковые подразделения. К утру на плацдарм должны переправиться представители авиации, гвардейских минометов и нашей вечной палочки-выручалочки – бригады номер девять.
Из-за стола поднялся и дал себя рассмотреть на полковника Бескапустина похожий, чуть моложе его годами, полковник Годик Кондратий Алексеевич – командир девятой гаубичной бригады, с самой Ахтырки так и следующий за гвардейской стрелковой дивизией и, в конце концов, отпущенный из резерва главного командования РГКА в полное распоряжение корпуса генерала Лахонина.
РГКА звучит, конечно, весомо и красиво, но для тех, кто в частях этих не воевал. Давно, еще с первых великих пятилеток в стране Советов заведено: бросать на строительство, на прорывы и, чаще всего, на уборку тучного урожая – людей и технику из разных краев и областей страны. И что? Будет начальник строительства, директор комбината или колхозишка «Заветы Ильича» жалеть технику и людей, приехавших исчужа? Да он их в самое пекло, в самую неудобь пошлет, дыры затыкать ими станет.
То же самое и с резервом главного командования – только они поступят в распоряжение армий, корпусов, дивизий, как начинают их мотать, таскать по фронту, заслоняться ими, латать ими фронтовые прорехи. Кормежка же им, награды и поощрения, все, вплоть до мыла в бане, – после своих родимых частей. Ту же девятку взять с ее гаубицами образца девятьсот второго – восьмого – тридцатых годов. Девятьсот второй год – дата рождения, восьмой и тридцатый годы – даты модернизации орудия, так вот эти гаубицы, переставленные на современный ход и сделавшиеся более маневренными, загоняли по фронту, беспрестанно держали на прямой наводке, хотя ставить орудия, у которых для первого выстрела ствол по люльке накатывался вручную и снаряд до сих пор досылался в казенник стародавним банником, – можно было только по недоразумению и по нежеланию дорожить чужим добром. Но в предстоящих боях, в этом холмисто-овражистом месте девятка со своими короткоствольными лайбами была самой нужной и полезной артиллерией. На переправу назначался взвод управления одного из дивизионов девятки, отделение разведки, связисты, начальник штаба с планшетом со средствами вычисления.
Если будет где и что вычислять.
– Всего не предусмотреть, товарищи, – сказал в заключение командир дивизии, – тем паче при ночной операции. Собственная инициатива, своя сообразиловка должны помогать и выручать. Выспаться ладом, отдохнуть – чтоб сообразиловка не истощилась. Командиров полков, батальонов и рот прошу ненадолго остаться, остальные товарищи свободны.
После полудня началось короткое движение возле хутора и по дубнякам. Опять натянуло большое начальство, и опять не замаскированное, а в кожаных регланах, в хромовых сапогах, в нарядных картузах. Командующего фронтом и армией среди них не было, но все равно чиновный люд выразительно сверкал звездами на погонах, кокардами, волочил на брюках красные лампасы. Все это воинство двинулось к заранее оборудованному в хуторском школьном саду наблюдательному пункту. И тут же вверху зашустрили истребители, охраняя небо от немецкой авиации.
Лешку понесло с берега на кухню именно в это время, и он нос к носу столкнулся с начальством и обслугой, его сопровождающей. Отвалив с дороги, он взял котелок в левую руку, правой лихо козырнул. Несколько рук взметнулось к картузам. Неожиданно к Лешке подскочил старый его перевоспитыватель и наставник с радушно расшеперенным ртом. Этот был в плащ-палатке, юбкой по земле волочащейся.
– А где ваши награды, товарищ боец? – спросил он, показывая на четкие следы, оставшиеся на выгоревшей и сопревшей на крыльцах гимнастерке. «Пропил!» – чуть было не ляпнул Лешка.
– Боевые награды я сдал на хранение, товарищ военный неизвестного мне звания, – сделав угодливо-глупое лицо, ответствовал Лешка, будто и не узнавал Мусенка, когда-то изловившего его с похищенными сухарями, – потому как плыть на ту сторону следует налегке.
– Звание мое – полковник. Я начальник политотдела дивизии, – пояснил маленький человечек, в крохотных, почти кукольных сапожках. Заметив, что его спутники, замедлившие было шаг, двинулись дальше, Мусенок деловито поинтересовался:
– Как будете преодолевать водную преграду? Немец-то ведь не дремлет. Он ждет. Страшно будет. Ох, страшно! – у человека-карлика были крупные, старые черты лица, лопушистые уши, нос в черноватых дырках свищей, широкий, налимий рот с глубокими складками бабы-сплетницы в углах, голос с жестяным звяком. Почему-то хотелось передразнить его.
– Так точно, товарищ комиссар, страшно. Но как есть мы советские бойцы, а вы – наши руководители, выходит, наш совместный святой долг в достижении цели: вы на этом берегу день и ночь о нас думать будете, заботиться, мы на том – бить фашиста.
Удивленно выпучив отечные, пестренькие глаза, Мусенок не знал, как и о чем дальше говорить с нечаянным встречным.
– Член партии? – наконец нашелся он.
– Никак нет, товарищ комиссар. Сочувствующий я.
– Подавайте заявление. Примем. Всех героев, идущих на переправу, примем. Достойны! – Мусенок игрушечно козырнув ручонкой, засеменил, догоняя начальство, и с ходу начал о чем-то говорить, показывая на заречье так уверенно, будто он эту реку не раз уж форсировал, все там до кустика знает и первым бросится вплавь во время переправы.
Щусь, тащившийся с начальством на наблюдательный пункт для объяснений и рекогносцировки, скрытым, негодующим матом крыл всю эту челядь и полковника Бескапустина заодно – куда-то смылся или спрятался этот хитрован.
– Чего выкаблучиваешься? Чего языком бренчишь? – приотстав, навалился он на Лешку. – Мусенок недотепой прикидывается, но память у него о-го-го! Штрафная рота вон в лесу, рядом, место в ней всегда найдется.
Лешка хотел сдерзить, не все ли, мол, равно, где подыхать, но в это время за рекой гулко, будто в колодце бадьей, забулькало над головой, запели мины. Разорвались они вблизи дороги. Военная свита рассыпалась по сторонам. Мусенок и еще какие-то малиновопогонники залегли. Плотный, небольшого роста, с кругловатым бабьим лицом, с планшеткой, бившей его по коленям, военный как шел по дороге, так и шел, только носом пошмыгивал – не то щекотило в носу дымом, не то этак он выказывал презрение к своей свите, да командир корпуса Лахонин, приостановившись, ждал, когда вылезет из канавы чиновный люд. Переждав налет за грудой каменьев, исчерканных колесами, Лешка отряхнул штаны, узнав генерала, запомнившегося еще по давней встрече на берегу Оби, порадовался, что «свой» генерал не плюхнулся наземь, он продолжал что-то говорить и показывать тому, коренастому, с планшеткой, усмешливо косясь на Мусенка. Одетый в кожаную куртку с мехом и летчицкий шлем, молодой, но уже красноносый генерал щупал штаны Мусенка и тряс рыжим чубом, выбившимся из-под шлема.
На кухне царило небывалое оживление; тем, кто должен был участвовать в переправе, давали наперед водку, сахар, табак и кашу без нормы. Полупьяный повар и старшина Бикбулатов, вся хозвзводовская братия вели себя заискивающе, будто отрывая от сердца, подобострастно делили, наливали, сыпали щедрую пайку и воротили рожи, прятали глаза, считая уходивших на переправу обреченными. Вояки вредничали, пытались сцепиться с кем-нибудь из тыловиков, чтобы хоть на них отвести душу. Лешка пошел за пайкой, сказав командиру отделения связи, чтобы еще раз проверили, готов ли провод с подвесами, на кухне попросил крепкий холщовый мешок. Не спросив, зачем ему тот мешок и где его взять, как всегда, полупьяный Бикбулатов откозырял: «Будет сделано!» – и передал приказ, чтоб никто не пил выданную водку, – после ужина замполит полка собирает открытое партийное собрание.
Тревога и сосущая боль не покидали Лешку. За себя он был спокоен. Он почти уверен был, что переплывет. Но переплыть – это еще не все, далеко не все. Могут, конечно, и убить, но тот, внутри каждого опытного фронтовика заселившийся бес, человек ли бесплотный, ко всему чуткий, не подсказывал ему близкого срока, и все же тревога, тревога…
И чем больше тревожился Лешка, тем размеренней и спокойней были его мысли. В минуты опасности он полностью доверялся тому, кто сидел в нем, точно в кукле-матрешке, укрощал шустрого, веселого солдата Лешку Шестакова, где надо, оберегал от опрометчивых поступков. Лишь вспышки буйства, глубокого скрытого самолюбия, уязвимости, жестокости, точного понимания большой ему опасности – малую, несмертельную опасность он тоже научился как бы не воспринимать – выдавали порой Лешку. Он умел сходиться с людьми, дружить, быть в дружбе верным, но в душу к себе никого не пускал, оттого и чуждался людей пристальных.
Приняв чеплашку водки, хотя ему хотелось, очень хотелось немедленно выпить всю флягу и забыться, провалиться до самой ночи в сон, он смотрел на реку, на остров. Никто бы не угадал по его скучному, долгим сном смятому лицу, как напряженно работает его мысль и какая, все более разрастающаяся тревога, почти боль, терзает его.
В переправе, по слухам, будет участвовать около тридцати тысяч, считай – двадцать верных. Судя по приготовлениям, по тому хотя бы, что все дубовые и прочие плоты и несколько понтонов замаскированы по ухоронкам в прибрежье, старица забита машинами с понтонами на прицепах – интересно, куда делся из своих уютных кущ тот секач-кабан? Уконтромили и съели его, поди-ка, славяне. За старицей разместилась как раз штрафная рота, и Лешке показалось, что он видел среди них обритого наголо Феликса Боярчика.
Передовой, ударный отряд начнет переплавляться с приверху хуторского острова – это и без высокоумного начальства ясно, табуном поплывет через шивер, на заречный остров, чтобы скорее зацепиться за вражеский берег. Взвод разведки, рота Яшкина и рота Шершенева уже на исходных, стало быть, на берегу. Эти первые подразделения, конечно же, погибнут, даже до берега не добравшись и заречного острова не достигнув, но все же час, другой, третий, пятый народ будет идти, валиться в реку, плыть, булькаться в воде до тех пор, пока немец не выдохнется, пока не израсходует боеприпасы, пока не уверится, что русские так и остались баранами, хотя их давно и усердно учат воевать. Вот тогда, когда немец подустанет, опустошатся у него заряды, – и обрушить на него огонь, начать переправу, накопившись на хуторском острове, мощным рывком перемахнуть узкое пространство и сразу, сразу, с ходу растечься по оврагам, по ручьям, рассредоточиться вдоль берега, паля и шумя как можно шире, чтобы немец забоялся за свой тыл: очень уж он не любит, когда за спиной щекотно. Да и кто любит? И вот, пока немец в ночи разбирается, что к чему, пока гоняется по оврагам за вояками, нужно, опять же рывком, быстро, до рассвета перебросить понтонный мост и бегом по нему, с патронами, с гранатами, где и минометишко, и пушчонку перетащить бы…