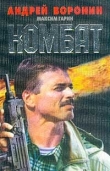Текст книги "Плацдарм"
Автор книги: Виктор Астафьев
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 32 страниц)
День пятый
Лешкино путешествие за реку на редкостном плавсредстве оказалось замечено где надо и кем надо. Почти все телефонные линии, проложенные с левого берега, умолкли или едва шебуршали. Среди всего великого развала, хозяйственного разгильдяйства, допущенного в подготовке к войне, хужее, безответственней всего приготовлена связь – собирались же наступать, взять врага на «ура!» и бить его в собственном огороде, гнать, колоть, гусеницами давить – чего ж возиться с какой-то задрипанной связью – вот и явились в поле военные рации устарелого образца, в неуклюжем загорбном ящике и с питательными батареями, величиной и весом не уступающими строительному бетонному блоку. Парой таскали рации и питание к ним радисты, но пока настраивались, пока орали, дули в трубку, согретые за пазухой батареи садились. Уже во время войны до ума доводилась компактная, более-менее надежная рация, однако передовой она почти не достигала, оседая где-то в штабах на более важных, чем передовая, объектах.
Неся огромные потери, фронт с трудом сообщался посредством наземной связи – сереньким, жидким проводочком, заключенным в рыхлую резинку и в еще более рыхлую матерчатую изоляцию. Пролежавши четыре-пять часов на сырой земле, провод намокал, слабел в телефонах звук, придавленной пичужкой звучала по ним индукция. Товарищи командиры, гневаясь, били трубкой по башкам и без того загнанных, беспощадно выбиваемых связистов, тогда как надо было бить трубкой или чем потяжелее по башке любимого вождя и учителя – это он, невежда и вертопрах, поторопился согнуть в бараний рог отечественную науку и безголово пересадил, уморил в лагерях родную химию, считая, что ученые этой науки и без того нахимичили лишка, отчего происходит сплошной вред передовому советскому хозяйству и подрывается мощь любимой армии. Его коллега по другую сторону фронта, не менее мудрый и любимый народом, характером посдержанней, хотя и ефрейтор по уму и званию, прежде чем сажать и посылать в газовые камеры своих мудрых ученых, дал им возможность всласть потрудиться на оборонную промышленность.
Чужеземный, более жесткий, чем русский, провод заключен в непроницаемую пластмассовую изоляцию – ничего ему ни на земле, ни в воде не делается. Телефонные аппараты у немцев легкие, катушки для провода компактные, провод в них не заедает, узлы не застревают. Связисту-фрицу выдавался спецнабор в коробочке – портмоне с замочком, в желобки вложены, в кожаные петельки уцеплены: плоскогубцы-щипчики, кривой ножик, изоляция, складной заземлитель, запасные клеммы, гайки, зажимы, проводочки, гильзочки – назначение их не вдруг и угадывалось. Отважным связистам-Иванам вместо технических средств выдавалось несчетное количество отборнейших матюков, пинков и проклятий. Всю трахомудию, имеющуюся на вооружении у фрица, иван-связист заменил мужицкой смекалкой: провод зачищал зубами, перерезал его прицельной планкой винтовки или карабина, винтовочный шомпол употреблял вместо заземлителя. Линия связи – узел на узле, ящички телефонных аппаратов перевязаны проволоками, бечевками, обиты жестяными заплатами.
Уютно осевшие на дно траншеи, бойцы отводят глаза, когда уходят из окопа в разведку ребята. А разведчики одаривают завистливым, напряженно-горьким, прощальным взглядом остающихся «дома». Так разведчики-то не по одному, чаще всего группой идут на рисковое дело. И сколько славы, почета на весь фронт и на весь век разведчику. Связист, драный, битый, один-одинешенек уходит под огонь, в ад, потому как в тихое время связь рвется редко, и вся награда ему – сбегал на линию и остался жив. «Где шлялся? Почему тебя столько времени не слышно было? Притырился? В воронке лежал?» Словом, как выметнется из окопа связист – исправлять под огнем повреждения на линии, мчится, увертываясь от смерти, держа провод в кулаке – не до узлов, не до боли ему, потому-то у полевых связистов всегда до костей изорваны ладони; их беспощадно выбивали снайперы, рубило из пулемета, секло осколками. Опытных связистов на передовой надо искать днем с огнем. От неопытных людей на войне, в первую голову в связи, – только недоразумения в работе, путаница в командах, особенно частая у артиллеристов. По причине худой связи артиллерия наша, да и авиация, лупили по своим почем зря. Толковый начальник связи должен был толково подбирать не просто боевых, но и на ухо не тугих ребят, способных на ходу, в боях, не только сменить связистское утиль-сырье на трофейный прибор и провод, но и познать характер командира, приноровиться к нему. Толковый начальник не давал связистам спать, заставлял изолировать, сращивать аккуратно провода, чтоб в горячую минуту не путаться, сматывать нитку к нитке, доглядывать, смазывать, а если потребуется, опять же под огнем, починить, собрать и разобрать телефонный аппарат. Толковый командир связи обязан с ходу распознать и разделить технарей, тех, кто умеет содержать в порядке технику, носиться по линии, и «слухачей» – тех, кто и под обстрелом, и при свирепом настроении отца-командира не теряет присутствия духа, понимает, что пятьдесят пять и шестьдесят пять – цифры неодинаковые, если их перепутаешь, – пушки ударят не туда, куда надо, снаряды могут обрушиться на окопы своей же пехоты, где и без того тошно сидеть под огнем противника, под своим же – того тошнее. Телефонист с ходу должен запомнить позывные командиров, номера и названия подсоединенных к его проводу подразделений, штабов, батальонов, батарей, рот. Кроме того – Бог ему должен подсоблять – различать голоса командиров – терпеть они не могут, особенно командиры высокие, когда их голоса не запоминают с лету, для пользы дела надо телефонисту мгновенно решить – звать или не звать своего командира к телефону, кому ответить сразу: «Есть!», кому сообщить, что товарищ «третий» или «пятый» пошел оправиться. И всечасно связист должен помнить: в случае драпа никто ему, кроме Бога и собственных ног. помочь не сможет. Связист – не генерал, ему не позволено наступать сзади, а драпать спереди. Убегать связисту всегда приходится последнему, поэтому он всечасно начеку, к боевому маневру, как юный пионер к торжественному сбору, всегда готов – мгновенно собрав свое хозяйство, он обязан обогнать всех драпающих не только пеших, но и на лошадях которые. Будучи обвешан связистским оборудованием, оружием, манатки свои – плащ-палатку, телогрейку, пилотку, портянки, обмотки клятые ни в коем случае не терять – никто ему ничего взамен не выдаст, с мертвецов же снимать да на живое тело надевать – ох-хо-хо. Кто этого не делал, тот и не почует кожей своей…
«Где эта связь, распра…» – Не дав закончить складный монолог, связист должен сунуть разгоряченному командиру трубку: «Вот она, т-ыщ майор, капитан, лейтенант! Тутока!»
Будучи северным человеком, к суровому климату приспособленным, единственный сын хоть и беспутной матери, Лешка Шестаков все же был местами подбалован: не мог, например, спать в обуви, надо ему непременно разуться, накрыть ноги телогрейкой, согреть их, тогда он уснет, не уделив внимания туловищу и всему остальному. Не всегда фронтовые условия позволяли спать с этаким вот солдатским комфортом, но ноги так уставали, такая изморная можжа их охватывала, что Лешка махал рукой на неподходящие условия, и случалось уже не раз – драпал босиком, никогда, правда, при этом не попускаясь обувью. Один раз его забыли спящего, и он часа полтора находился под оккупацией.
Есть негласное фронтовое правило – в отдалении от своего воюющего братства индивидуальную щель не рыть, избегать ее одноперсонально рыть также на окраине опушек леса и кустарников, возле камышей, окошенных хлебов, кукурузы, подсолнухов, в первую голову следует избегать мест, выкошенных в поле уголком, хотя они-то и соблазнительны. Здесь, в уединении, в пшеничной или кукурузной затени, пусть и в малом удалении от блиндажей и окопов, кротко спящий военный субъект есть самая соблазнительная для врага добыча. Полезет фрицевская разведка за языком, а он вот он, голубчик, дрыхнет, поставив оружие на предохранитель, положив ладошку под щеку, – бери его сонного-то без риску и неси аккуратно восвояси – он не вдруг и проснется. Могут танк или машина на щель наехать, пехота, идущая ночью на замену, на тебя сверху рухнет, штабной офицер-красавец, влекущий на тайное свидание в кусты иль в тучные хлеба боевую подругу, парой навалятся – держи ее, пару-то, на плаву.
На Дону было – свалилась эдак вот парочка в связистскую ячейку, кавалер руку сломал, кавалерша – ногу в коленке выставила, Лешке шею свернули. Долго вертеть головой не мог, а ведь на голове-то трубки висят – две, и каждая не меньше килограмму.
Под Ахтыркой, помнится тоже, так Лешка умотался, что месту был рад, и занял готовую щель, фрицем иль Иваном была копана в спелой пшенице, но началась уборка, косилка прошлась и как раз возле щели, по дну толсто устеленной соломой. Окошенная щель оказалась как раз в уголке, колосья на бруствер наклонились, зерно насыпалось. Когда Лешка подошел к щели, из нее пташки выпорхнули. Он почистил щель, еще пышнее устелил ее соломой и только устроился – хлобысь на него сверху иван с котелком, горячим чем-то облил. Лешка лизнул губы – горошница. Склизко в щели сделалось. Надо бы уйти из щели, сменить место, но сил нет. Дождь. Спал, спал, снова придавило. Плащ-палатку сверху пристроил, комьями ее придавил, но не успел насладиться, как снова сверху что-то легкое навалилось на него – подумалось: человека заживо закопали. Или в плен берут – Лешка двумя пальцами снял затвор с предохранителя да как вскинет, да как заорет: «Кто такие? Вашу мать!» А никого уже нету, иван опять шел, оступился, ведро воды налил с провисшей плащ-палатки, грязной земли пуда два обрушил на человека. Снова стал устраиваться Лешка, решив, что уж теперь-то все, не наступят на него больше. Но на рассвете на него самоходка наехала своя. Наша. Крупнокалиберная. Вдруг шатнулась самоходка, земля треснула. Стрельни бы еще разок – засыпало бы. Самоходка съехала, свет открылся – можно дальше спать. А с рассветом немцы контратаковать задумали, по стерне подобрались к наблюдательному пункту и выбили гвардейцев с высоты. Лешка вроде бы и слышал шухер какой-то, но после дикой самоходки его, как блаженного младенца, охватил самый сладкий сон. Спит он, значит, себе, не ведая, что на высотке уже хозяйничает враг. И спал он до тех пор, пока его же родные гаубицы не обрушили огонь на высоту, затем артиллеристы вместе с хромающей пехотой пошли свои позиции отбивать. Помнится, он проснулся, узнал по звуку снаряды своей родной артиллерии и подосадовал: «Совсем сдурели! Опять по своим лупят…»
С высотки фрицев вышибли, в хлеба их отогнали, пошла работа до седьмого пота, боец же Шестаков дрыхнет в уютной затени недокошенных хлебов. Разбудили его уж когда еду принесли и пришла его пора садиться к телефону. Тут-то от возбужденно по линии треплющихся связистов и узнал он, что побывал под пятой врага и что генерал Лахонин до того освирепел, узнав, как его непобедимые гвардейцы бесшумно снялись с высоты на рассвете от внезапно нахлынувшего из хлебов врага и увлекли за собой артиллеристов, что, стоя на «виллисе», распоясанный, лохматый генерал гнал оглоблей свое войско и всех, кто под оглоблю попадал, обратно на высоту.
Схлынуло. По проводам связистский треп, из которого следовало, что танкисты бросили три закопанных на склонах высоты машины, артиллеристы всякое свое имущество посеяли, даже будто бы стереотрубу в боевом настрое кинули. Ах, знали бы трепачи, что и солдатика, спящего в щели, забыли… Он – истинный советский солдатик, порассуждав сам с собой, с умным, кое-что повидавшим человеком, решил военную тайну никому не выдавать и осенью уж, в благую минуту, рассолодев от хорошего харча и доброй погоды, рассказал о случившемся с ним приключении надежным людям – майору Зарубину и капитану Понайотову. От души повеселились родные командиры, однако тоже посоветовали помалкивать. И после, до самой реки, Зарубин с Понайотовым работают, работают на планшете, глянут в сторону телефониста и головой потрясут или майор скажет в телефон кому-то загадочно и весомо: «Ну как мы спать умеем бесстрашно, прямо на передовой, так нам никакой враг нипочем…»
Прикарпатский еврей по фамилии Одинец, сложенный из частей, худо подогнанных друг к дружке, как бы совсем меж собою не соединенных, – носище отдельно, губищи, всегда мокрые, отдельно, глаза от рождения напуганно вытаращены. Уши прилеплены к сплющенной голове с философски-высоким, гладким лбом, уже с юности уходящим в залысину. Если к этому добавить, что гимнастерка застегнута через пуговицу, штаны часто и вовсе незастегнуты, пряжка ремня набок, сапоги – один начищен, другой нет, все-все как бы случайно, на бегу надето – вот и закончен портрет. Внешний. В деле же Одинец собран, толков, одержим, и, если б он панически не боялся начальников, – цены бы ему не было. Свое смятенное состояние Одинец всячески скрывал, подражая громилам-командирам, у которых хайло шире погона, витиевато выражался вроде по-русски и вроде по-бессарабски – «боийэхомать!». В присутствии начальства вторую половину своего виртуозного мата Одинец сокращал. Над Одинцом посмеивались, но все кругом знали – без него, как без рук. Командир артполка Вяткин, снова спрятавшийся в санбат, под крылышко жены, разносил Одинца часто и больно. Зарубин же всячески начальника связи защищал. Велел ему без крайней надобности не появляться на глаза начальству, что тот охотно исполнял, пропадая в походной мастерской, где среди проводов, аккумуляторов, паяльников, гаек, болтов и разного другого железа он и спал, но спал мало, ругался и гонял связистов. Чего-то сваривал, паял, клепал, по личной инициативе собирал спаренную пулеметную немецкую установку – для защиты штаба и однажды на глазах у всех подшиб вражеский самолет – все видели, как самолет, низко летевший с бомбежки, громыхнулся в кукурузу и загорелся. Как ни кривился комполка Вяткин, пришлось ему Одинца представлять к ордену «Отечественной войны», которого сам комполка не имел. Одинец же получил третий орден и повышение в чине, сделался капитаном, но, привыкнув к званию старшего лейтенанта, долго на новое звание не реагировал. И вот связь, налаженная под руководством Одинца, и, более того, его же руками намотанная, лежала на дне реки, работала, другие же линии постепенно угасли. Узнав, что майор Зарубин ранен, капитан Одинец не очень уверенно предложил:
– Может, мне к вам переправиться?
– Сидите уж, где положено! – раздраженно буркнул Зарубин и, тут же успокаивая человека, добавил: – Вы там нужнее.
Радение Одинца, его умение, ценный талант нежданно-негаданно коснулись судьбы связиста Шестакова. Он после тяжкой ночи каменно спал в земляной норке, когда его задергали за ботинок так, что чуть не разули.
– Что такое?
– К майору. Бегом!
Разумеется, бегом Лешка не бежал, потянулся, позевал и засунулся в выемку, сделанную наподобие звериного логова, снаружи завешенную лоскутом брезента. Майор, совсем пожухлый лицом, полулежал возле телефона.
– Вам звонят. – Сказал и протянул Лешке трубку.
– Мне?! – поразился Лешка. – Кто мне может звонить? Корешки с того берега не посмеют занимать телефон. Может, капитан Щусь?..
– Вам, вам, – кивком головы подтвердил майор.
– Лешка! Ой, тоись, Шестаков слушает, – неуверенно произнес Лешка.
От дальности напрягшийся, незнакомый голос, перекрывающий скрип, шум и писк индукции, произнес:
– Товарищ Шестаков! С вами говорит начальник связи штаба большого хозяйства. – Дальше сообщались звание, фамилия, но Лешка их не запомнил. – Вы меня слышите?
– Шестаков! Ты где там? – ворвался на линию заполошный голос Одинца, но уж без «эхомать».
– Да здесь я, здесь, у телефона. Что случилось-то?
– Да ничего у нас не случилось, – рассмеялся далекий начальник связи. – Слушайте меня внимательно. Командующий хозяйством, вы его лично знаете? – Лешка ничего не знал о командующем какого-то хозяйства и видел ли его хоть раз, вспомнить затруднился, но согласно кивнул головой, как будто человек на другом конце провода мог его увидеть. – Так вот, командующий просил передать лично вам благодарность за тот подвиг, который вы совершили, переправив связь…
«Ну, это уж ты, дядя, загибаешь! – усмехнулся Лешка. – Что-то тебе надо от меня, вот подмазываешь салазки…»
– …Он также поручает вам переправить связь…
– Какую еще связь? – испуганно переспросил Лешка и явственно почувствовал, как у него кольнуло и заныло в животе иль близ его.
– Нашу, нашу! – продув трубку, кричал далекий человек – начальник. – Вы меня поняли? Вы меня слышите?
– Ты понял? Ты слышишь, Шестаков? – снова объявился Одинец.
– Слышу.
– Я понимаю. Все понимаю… трудно. Но надо. Одна лишь ваша линия эксплуатируется. Этого мало для развития операции, слишком мало, – он еще что-то говорил и в заключение «по секрету» выдал: – Лично ходатайствую «Звезду».
Быстро-быстро вращалась, трепыхалась мысль, только бы ее не услыхали по проводу, не ощутили бы, как она катается под потной солдатской пилоткой, с какого-то утопленника доставшейся, бьется в углы черепа и никак в лузу не попадает: «Рассветает же! День! Сказать, лодку разбило. Нет лодки! Нету этого несчастного корыта! Кто узнает? Оттолкну. Унесет к чертям. Проверь, попробуй!..»
– Шестаков! Шестаков! – опять завелся Одинец. – Ты шо, не выспался?..
– Вот именно! – вспылил Лешка. – Я только что приплыл. Я один тут? Один?
Но что говорить об этом Одинцу? Он от страха, как всегда, вспотел, утирается подкладкой фуражки, облизывает мокрые губы. Он своего-то домашнего начальства, за исключением Мусенка, боится, как огня, а на проводе чин аж из корпуса. И товарищ майор чего-то примолк, устранился, не приказывает, не распоряжается. Приказывал бы. Умные какие все кругом, один он дурак, с этим дурацким корытом, выкопанным из грязи на свою дурную голову.
Майору Зарубину тоже приходило в голову, что челн этот нечаянный будет замечен не только на плацдарме, его или изымут, или прикажут делать чужую работу. Солдат сделал все возможное и невозможное, и если на то пошло, и пехотные части, и все-все боевики на плацдарме ох как обязаны ему, этому связисту! И нету ни у кого никакого права упрекать его ни в чем. Солдаты у него, у Зарубина, какие-то несообразительные растяпы – догадливые давно бы пустили то корыто по течению, немцы в щепки разбили бы его. Нет, берегут плавсредство – на всякий случай, предлагают переправиться на нем ему, командиру, но на самом-то деле тайно радуются тому, что и командир, и корыто здесь, с ними. Ох уж эти солдаты – политики! Кто их поймет? Кто пожалеет и оценит?..
Лешка нашаривал, нащупывал взглядом в темном земляном отверстии майора, отвалившегося на сырую стенку. Зарубин высунул из шалашика шинели голову, тусклый его взгляд, устремленный в пустоту, скорее угадывался, чем виделся. Взгляд майора погас – отвернулся он от своего солдата? Бело отсвечивало что-то – лицо или бинт – не разобрать. Наконец Лешка понял: майор, командир его и отец на все время военной жизни, предоставил солдату все решать самому, дав ему тем самым ответ – не судья он ему сейчас. Все пусть решает совесть и что-то еще такое, чему названия здесь, на краю жизни, нет.
– Ладно, не надрывайся, товарищ капитан, – устало сказал Лешка Одинцу и, сунув майору трубку, потопал к воде, отчего-то по-лошадиному мотая головой и как бы забыв про немецкий пулемет, пристрелянный к устью речки Черевинки.
«Ишь ты все какие! Ишь какие! Как кутенка – из мешка в воду, который выплывет, тот – собака. И майор тоже хорош… Да какой я ему друг-приятель? Я – его подчиненный, и Одинцу подчиненный. А до того начальника, что из штаба корпуса, как до Бога, – высоко и глухо».
Переправа, кровь и смерть отделили их ото всех смертных, подравняли, сблизили. Что ж заставило майора взять с собой на плацдарм именно его, Лешку Шестакова, который сам же и давал советы майору – выбирать надежных людей. А надежный – это значит тот, на кого можно надеяться. Всегда, во всем! Не на Сему же Прахова. Сочувствие, помощь друг другу, главное работа, которую они уже проделали, тяжкая, смертельная работа настолько сблизила их, что памяти этой хватит на всю жизнь. И вот войдет в эту память худенькое, сволочное. Ведь он майора втягивает как бы в сделку вступить, ложь сотворить, а она, эта ложь, угнетать будет не одного Лешку и наверняка уж сделает к нему отношение майора совершенно иным. Этаким вежливеньким, спокойно-холодным, как к Вяткину Ивану.
Пнув в войлочно-мягкий бок челна, Лешка, глядя на другой, туманной дымкой скрытый берег, отрешенно выдохнул:
– Я бы две звезды вам отдал…
Майор ворохнулся, нажал клапан трубки:
– Боец Шестаков приступил к выполнению ответственного задания.
– Все в порядке! Все в порядке! – восторженно подхватил за рекой Одинец, но майор оборвал его, сказав, что курортники-связисты из корпуса явятся налегке, надо набирать своей связи, привязывать к ней грузила и вообще помочь Шестакову всем, чем возможно. На каждое слово майора, вроде и опережая его приказания, Одинец угодливо твердил:
– Есть! Есть! Будет сделано!..
Опять к телефону потребовали бойца Шестакова. «Ну, прямо спрос, как на шептунью Соломенчиху в Шурышкарах!» – усмехнулся Лешка и услышал шлепающий голос комиссара Мусенка – готов ли он, боец Шестаков, к выполнению ответственного задания?
– Готов, готов! – резко отозвался Лешка на призыв военного тыловика, привычно распоряжающегося чужой жизнью.
– Вот и хорошо! Вот и правильно! Так и должны поступать советские бойцы! А вы – пререкаться…
– Да не пререкался я.
– По-вашему выходит, дивизионный комиссар говорит неправду? Так выходит? – построжел Мусенок. – Одинец! Не слишком ли разговорчивы у тебя бойцы?
Но выполняя задание Зарубина, начальник штаба полка Понайотов, на дух не принимающий важного политрука, оборвал его – по линии идет непрерывная боевая работа.
– Извините! – вежливо заключил Понайотов.
– Пожалуйста, пожалуйста! Я уже кончил, – бодренько, как ни в чем не бывало, откликнулся Мусенок и передал трубку дежурному телефонисту, укладываясь досыпать в своем, должно быть, сухоньком, с печуркой, блиндаже. Залезая под чистую шинельку, может, и под одеяльце. На столике у него, среди недочитанных газет, недопитый стакан с чаем, табачок «золотое руно» запахи извергает, может, и машинистка Изольда Казимировна Холедысская под боком. Уют, одним словом, соответствующий должности.
У печурочки клюет носом шофер, этакий толстобокий, опрятный дядька по фамилии Брыкин, люто ненавидящий своего начальника и презирающий машинистку Изольду Казимировну, которая печатает-то вовсе не машинкой. Кровей в этой труженице фронта намешано много, и она, не глядя на чин, кусает, можно сказать, загрызает начальника своего, жарко повторяя: «Зацалуе пши спотканю! Зацалуе пши спотканю».
«Ну, ничего-то человек не понимает. Никакой войны для него нет», – горестно возмущался начальник штаба Понайотов, угрюмо спрашивая у Шестакова – доплывет ли?
– Туда-то, к вам-то я доплыву, с радостью. А вот обратно?.. С грузом? Как только приедут связисты из большого хозяйства, пусть наши всю связь у них проверят. Провод должен быть трофейный, иначе тянуть коня за хвост незачем.
– Да вон слышно, Одинец орет на всю родную Украину, значит, действует. Как там Зарубин?
– Товарищ майор-то? Зарылся в землю.
– Не сможешь ли ты его…
– Попытаюсь… Но лодка-то, лодка…
– Дай сюда трубку! – вдруг выкинул руку из ямы майор. – Ты вот что, Понайотов, если хочешь мне и всем нам помочь, позаботься о снарядах. А филантропией не занимайся. Я могу уйти отсюда только после того, как ты или кто из комбатов… И все! И нечего! Мы и без того все тут жалости достойны… Божьей. – И, гася в себе вспышку раздражительности, мягче добавил: – С Шестаковым отправь записку… Все, чего нельзя сказать по проводам…
– Ясно. – Понайотов посчитал, что так вот, сухо, никчемно разговор заканчивать неловко и ляпнул: – Отдыхайте.
Вычерпывая воду из челна, поднятого на берег, кося глазом на нишу, на дрожащего в ней майора Зарубина, обметанного седеющей щетиной, Лешка подумал, что не доводилось ему видеть майора небритым. И не знал Лешка, что голова у него уже наполовину седая, здесь, на плацдарме, он и начал седеть.
– И правда, плыли бы вы со мной, товарищ майор. Чего уж там… – отвернувшись, сглаживая вину и опустив глаза, произнес Лешка. – Может, Бог нам поможет. Коля Рындин говорил – Он завсегда болезных жалеет…
– Делайте, что пообещались делать. Выполняйте задание! – вдруг сорвался на крик Зарубин и, услышав себя, упятился в свою обжитую берлогу, и уже в нос, для себя, выстанывая, – а я буду делать, что мне положено… Дьячки кругом, понимаете!..
На другой стороне реки Понайотов, ляпнувший обидное слово, можно сказать, издевательское для гибнущих людей, стоял, нависнув над телефонистом, стиснув трубку в кулаке. До него донесся уютный посвист, сопровождаемый глубоким, умиротворенным сопением, – телефонист, возле которого работал, говорил какие-то слова непосредственный его командир, спал. В открытую спал. Понайотов изо всей-то силушки завез телефонисту трубкой по башке.
– Река слушает! – подпрыгнув, заорал с перепугу связист.
– На плацдарм бы тебя! Выспался бы!
Осторожно скребя по дну лодки плоской банкой из-под американской колбасы, излаженной вроде совка, Лешка вычерпал воду, мокрые доски на средних поперечинах, по-моряцки – шпангоутах, проверил – корыто разваливалось, и все же перевалил через борт раненого, который подполз к воде из-под яра и по-собачьи глядел в глаза Шестакова. Раненый замычал и успокоенно скорчился на мокрых досках.
«Везуч ты, славянин, ох, везуч! – усмехнулся Лешка и зашагнул в лодку. – Может, и мне потом повезет…»
– Может, еды и бинтов приплавлю, – крикнул от воды Лешка.
– Себя приплавь! – раздалось в ответ.
Связав обмоткой весла, чтобы можно было одной рукой грести, другой вычерпывать воду, с раненым на борту, который от сознания, что теперь спасен, сбросив напряженье, впал в беспамятство, Лешка украдкой отплыл от берега и по мере удаления из-под укрытия высокого рыжего яра все ощутимей чувствовал, как кровь отливала от лица и не на коже, под кожей щек нарастает щетина, колясь изнутри. Выплыв из тени, за мутную полосу воды – это с острова, из протоки да с разбитого берега тащило ночным дождем грязь и муть, одинокий пловец на челне сделал то, что веками делали одинокие пловцы:
– Господи! – едва слышно попросил. – Господи! Если Ты есть – помоги мне! Нам помоги! – поправился он, вспомнив про бедолагу раненого, упорно памятуя, что Бог – защитник всех страждущих… «А-а, про Бога вспомнил! – злорадно укорил он себя. – Все нынче о Нем вспомнили, все… Припекло! Сюда бы вот атеистов-засранцев, на курсы переквалификации»…
Смутно уже проступал воюющий берег, расплывисто, безжизненно просекаемый редкими вспышками. Над берегом взметнулась ракета, как бы подышала вверху, косо пошла к земле и какое-то время еще билась в ею же вырванном чернеющем лоскуте воды.
«Неужто мне ракету бросают? Мне путь указывают? Экой я персоной сделался!» – удивился Лешка и, увидев парящих над лодкой чаек, догадался, что они, эти наглые птицы, ничего не страшащиеся, садятся на все, что плывет по реке и расклевывают всплывших утопленников.
«Мама, моя мамочка! Один на реке, всеми брошенный… – хотелось пожалеть себя и всех при виде этих зловеще умолкших птиц, базарных и прожорливых там, на Оби, в Шурышкарах. – О-о, Шурышкары родные, мама родимая! – где-ка вы?..»
Весла чуть постукивали. Коротко, рывками, шлепая подавалась и подавалась к левому берегу гнилая лодка. Над водой взрывами стали возникать и лететь на пониз ошметки исходящего тумана, что-то сильно шлепнулось рядом. Лешка вздрогнул: «Неужели рыба? Неужто не все еще поглушено… Не дай Бог, человек!»
Из тумана все возникали и возникали молчаливые чайки. Одна совсем низко зависла над лодкой, вертя головой, глупо глядела вниз, выбросила желтые лапы, пробуя присесть на раненого. Лешка замахнулся, чайка так же незаметно, как и появилась, отвалила, стерлась, будто во сне.
Слепая пулеметная очередь прошила предутреннюю сумеречь, ударившись в камни и стволы ветел, рассыпалась за спиною. Казалось, продробили на стыке рельсов колеса и поезд подняло вверх или уволокло по реке, в мягкий туман.
Немец просыпался, начинал работать.
Для острастки, не иначе, ударило орудие с левого берега, вяло, без азарта, чуфыркнула за лесом «катюша», отчего-то одна, прососался в тучах планирующий почтовик и, достигнув родного берега, плюхнувшись в смятый бурьян полевого аэродрома, вдруг заливисто, зовуще проржал, будто конь в росистых лугах.
Накоротко уснувшая война продолжалась. Здесь, на берегу, в самом пекле, изнемогшая за день, она забывалась в больном сне и вот начинает очухиваться. В тылах же враждующих армий шла и ночью напряженная работа мысли, рук, моторов: подвозились снаряды, доставлялась почта, мины, бомбы, патроны, хлеб, табак, горючее, обмундирование, лекарства.
Лешку уже ждали. Пеньком сидели на катушках со связью два солдата в чистом обмундировании, в сапогах, третий, укрывшись шинелью, спал, свалясь в камни. Здесь же в накинутой на плечи шинели стоял Понайотов, санинструктор Сашка, ординарец майора Зарубина Ухватов с котелком в руке.
– В лодке тяжелораненый, – сказал санинструктору Лешка, и тот метнулся к воде, таща через голову туго набитую сумку с крестом. – Его сперва в тепло надо, – добавил связист и, упреждая вопрос, как всегда, когда он позволял себе дерзость, отвернувшись, молвил Понайотову: – Неужели некому сменить товарища майора?..
– Ты поешь сначала, поешь! – совал прямо в лицо Лешке котелок суетливый ординарец майора Ухватов, изо всех сил стараясь замять неловкость.
– Потом, потом! Как связь? – обратился он к незнакомым связистам.
– А чего связь? Связь как связь! – недовольно отозвался один из связистов и сплюнул себе под ноги.
– Ты, весельчак! – обращаясь к нему, скривил губы Лешка. – Знаешь хоть, куда плывешь?
– На плацдарм, говорено.
– А плавать умеешь?
– А для че нам плавать-то? На лодке, говорено.
– Нет. Все-таки?
– Не-а. Мы с Яковом в степу выросли. У нас реки нетути, – отозвался за «веселого» его напарник.
Услышав ругань санинструктора, ординарец Зарубина Ухватов загромыхал сапогами и начал ему помогать. Из-под шинели высунулся третий связист и громко, раззявив зубастую пасть, с подвывом зевнул.
– Чево шумите-то? – расстегнув ширинку и целясь на Фаину палатку с крестом, он шуранул в камни шумной струей. – Полковник Байбаков приказал переправить связь, стал быть, без разговоров.