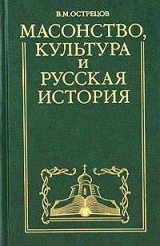
Текст книги "Масонство, культура и русская история. Историко-критические очерки"
Автор книги: Виктор Острецов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 67 страниц)
Виктор Острецов
МАСОНСТВО, КУЛЬТУРА И РУССКАЯ ИСТОРИЯ
(историко-критические очерки)


От автора. ПАМЯТЬ МОЕГО СЕРДЦА
Одни любят собирать марки, другие – исторические факты, кто-то любит искать грибы, а кто-то страстно ищет новые идеи, способные объяснить эти факты и связать их в одно целое. У каждого свой интерес. И сам по себе этот интерес совершенно бескорыстен. Смущенная каким-то вопросом мысль просто не может молчать и хочет знать зачастую то, над чем она не властна, пытается найти то, чего она не теряла, стремится прочесть то, чего не изучила и проникнуть туда, где не была. Это внутреннее состояние мысли, властно требующей ответа на бередящий вопрос, знакомо многим. В этих поисках новых идей, которые возникают зачастую после нахождения каких-то новых фактов, есть что-то детективное. По существу, это один и тот же процесс отыскивания, обнаружения причин, которые привели к каким-то известным событиям.
Что касается истории, нет ничего более увлекательного. В ней соединилось все: и множество фактов, и множество загадок, и удивительные судьбы людей. Да, история – вещь замечательная. Но в нашей истории, то есть в истории нашей страны, написанной советскими историками, постоянно ощущалась мною, который любил ее с детства, какая-то недоговоренность, какая-то жуткая ложь. Сквозь шаблонные фразы о «мелкобуржуазном» и «феодально-сословном» угадывалось страстное желание что-то скрыть, о чем-то умолчать. И меня, еще подростка, уже это ощущение раздражало: раз скрывают, значит, есть, что скрывать. К тому же семейные предания и воспоминания старших совершенно не вязались с тем, что сообщали историки, когда речь шла о дореволюционной жизни, то есть жизни, живые свидетели которой еще были живы.
В истории все было для меня интересно, и все раздражало, потому что из этой истории понять, отчего и что случилось, что с нами произошло, было просто невозможно. Историки словно задались желанием нас, простых и сирых, дурачить. И надо признать, это чувство не покидало меня долгие годы. Не покидает и сейчас. Каким образом, думалось мне, можно забыть о том, что десятки поколений людей, создававших это государство, верили во Христа, и эта вера заставляла их воздвигать монастыри и возводить соборы, украшать их, отрывая от своих материальных потребностей последнюю копейку. И все это, созданное тяжким трудом, затем назвать «поповщиной» и целые тома посвящать «борьбе русского народа с церковью»... И при этом жить в доме, построенном благодаря существованию не марксизма и ленинизма, а именно этой «поповщине».
Мои молодые годы пришлись на время бесконечных разоблачений: то разоблачали «культ личности», то какую-нибудь «антипартийную группу», то разоблачали вчерашних разоблачителей. Страна бурлила. Сыпались в печати какие-то факты, и много, которые при логическом образе мысли должны были бы опрокинуть режим. Но режим стоял крепко, и казалось, не столько сам себя дискредитировал, сколько издевался над нами и дискредитировал нас самих. Когда в наши дни слышишь от какого-нибудь коммуниста или просто «советского» сакраментальное: «мы тогда верили», – то только улыбаешься. Смею сказать, никто и ни во что не верил, но психологически приспосабливался. Важно было одно: казаться «своим».
Режим ведь не скрывал свою ложь. И оттого все население страны проходило обряд самоосквернения. Отсюда и такое море разливанное всевозможных анекдотов в те времена, от этой великой «веры». Второе, что было видно всем: «там» живут лучше, «там» чище и сытнее. И это ощущение на фоне пустых прилавков, и необходимость публично демонстрировать свою лояльность режиму, повторяя заведомо идиотские лозунги и цитаты из партийных постановлений, – особенно развращало людей той поры. А где-то рядом чувствовалось наличие другой России. Но дойти до нее было сложно, чисто технически сложно. Были рядом крупные библиотеки, которыми я как студент (с 1959 г.) мог пользоваться, но где и что искать, в какие картотеки смотреть?.. Признаюсь: и безо всяких теорий, чисто эмоционально, советская действительность мне не нравилась. Не нравились нищие крестьянские избы, непролазная грязь, возмущали заброшенные и загаженные церкви.
Поскольку я был активным антисоветчиком и далеко не всегда выдержан на язык, то дома с отцом, убежденным коммунистом, как это вообще в истории «отцов и детей» водится, происходили регулярные «объяснения». И именно эти самые «объяснения» заставили меня пойти не на исторический факультет, а в медицинский институт. Та мысль, что при моих убеждениях мне не удастся закончить даже первый курс, была для меня совершенно очевидной. И потом, эта гнусность – повторять идиотские цитаты из «классиков» и необходимость лгать на собственную историю, следуя указаниям «партии и правительства», – эта перспектива казалась мне хуже любой каторги. И я пошел «на медицину», о чем нисколько не жалею. Тем более, что перед глазами у меня был пример более своеобразной внутренней жизни, в отличие от отца, Митрофана Федоровича, уроженца воронежских земель, старого партийца, вынужденного читать передовицы газет, чтобы не впасть в «уклон». Это моя собственная мать, Ольга Александровна, уроженка Севастополя. Она была детским врачом, и ее жизнерадостность, доброта, уважение к ней соседей и даже совсем незнакомых мне людей, – все это как-то выгодно отличало и ее специальность. По крайней мере, говорил отец, врачом ты всегда заработаешь на кусок хлеба, а твоими взглядами, если о них не будешь громко кричать, никто не станет интересоваться. Скорее всего, впрочем, эти слова говорил не отец, а я сам себе.
Среди всех разговоров, которые велись у нас в семье и, вероятно, как-то отражались и на моих взглядах, вспоминается один эпизод. Тогда я еще учился в старших классах средней школы. Вероятно, это был 1958 год. Надо ли говорить, что вся историческая и публицистическая литература, что была у нас дома, не миновала моего интереса. И надо ли говорить, что литература эта была в духе своего времени. Это были сочинения Сталина. История КПСС, была, правда, и «История» Соловьева. Но самое пристальное мое внимание привлек двухтомник Ф. Энгельса «Военные произведения». Какие только мысли не пробуждали строки «классика». Первое, что обнаруживалось, так это отсутствие у «классика» классового подхода. В большинстве случаев Энгельс говорил совершенно «ненаучным» языком. Как простой обыватель, на глазок оценивающий события. И это меня как-то по-хорошему взбодрило. В СССР за такие сочинения, изгоняли из партии. Во-вторых, главными категориями в этих его произведениях были категории национальности. Я выяснил для себя, что Энгельс, например, был самого невысокого мнения о русских, но о царизме отзывался одобрительно, сравнивая его с австро-венгерским Двором не в пользу последнего. Не имея под рукой этот двухтомник, передаю свои впечатления тех лет. Энгельс превозносил гений Наполеона. Кто только не носился с этим гением! В пику, что называется, окружающей обстановке, и я приобрел портрет этого романтического героя «пушкинской эпохи», а в классе стал громко цитировать Энгельса. Между тем, как раз в коммунистической идеологии тех лет места Наполеону не было. Отец морщился и говорил, что, во-первых, Наполеон был завоевателем и потому его портрету не место у нас в доме. Во-вторых же, что я неправильно понял Энгельса.
Но если справляться с культом Наполеона было относительно несложно, то справляться с другими уклонами товарища Энгельса было сложнее. Например, с его оценкой царизма. Энгельс писал, что русские еще слишком варвары, и мало интересуются образованием. И поэтому, если кто-нибудь из простонародья проявит к этому какие-то способности, то русский царизм вытаскивает такую персону из толпы, одевает-обувает, учит, дает чины и потом вертит перед всей Европой, чтобы доказать, что и в России образование прививается народу. И как пример следовал Ломоносов.
Однажды, когда у нас гостил мой дядя, как и отец, военный, живший на Украине, я стал им задавать, как обычно, каверзные вопросы, а затем с наивным видом просил объяснить мне то-то и то-то. И я стал читать из Энгельса: мнение его о русских, поляках и славянах в целом. Причем, меня самого поразило одно место у Энгельса, где он пишет о том, что не пройдет и сорока лет, как немцы вторгнутся в Россию и отомстят за унижения, претерпеваемые ими от русской политики. Далее шло о необходимости растоптать немецким сапогом «нежные цветы славянской независимости». Энгельс чеканным слогом немецкого милитариста в одной из своих поздних статей отвергал все глупые басни о «дружбе народов» и утверждал, что будущее Германии и Европы должно решиться не на страницах журналов и газет, а на полях кровавых сражений немцев со славянами.
И чем больше я читал, тем задумчивее становились мои слушатели. Когда я кончил, они долго молчали. Оба. А ведь надо понять, какая гамма чувств могла их одолевать. Энгельс!.. Сам, можно сказать, верховный бог! Если бы у нас в госучреждениях не висели портреты всех «классиков», то многие в нашей стране вообще считали бы, что Маркс и Энгельс – одно лицо; вроде как одно – имя, а другое – фамилия. Замечу, шли 50-е годы. И тогда оба военных, дядя и отец, как-то в один голос тихо спросили меня: «А не кажется ли тебе, Виктор, что в данном случае Энгельс – просто шовинист? – Русофоб?».. «Да, немецкий шовинист». Надо признать, что это был один из тех случаев, когда я вполне оценил смелость и откровенность собеседников.
В 60-е годы учащаяся молодежь кипела и бурлила. Все делились на группы и группки. Наш курс в институте не был исключением. С одной стороны – молодые карьеристы, скалозубы, бегающие с доносами в деканат и в партком. С другой – мы, неоперившаяся молодежь, смотревшая на запад, как на земной рай. Надо ли говорить, что тон всему в этой среде задавали евреи, которых у нас на «потоке» было большинство абсолютное. По крайней мере, в нашей группе, совершенно типичной в этом отношении, евреев было из 12 человек семь, а из русских две девушки были замужем за евреями. В то время мы бегали смотреть импрессионистов, слушали «голоса» и рассказывали анекдоты о тупости советских чиновников. Надо признать, что и скалозубы не давали повод восторгаться своими моральными и идейными качествами. Здесь царил цинизм и карьеризм нескрываемый. Никто ни во что не верил.
Впрочем, и в нашей среде, диссидентско-студенческой, принципами не пахло. Мой однокашник С., еврей, с которым я затем работал и на Севере, после анекдотов и возмущений по поводу советской тупости, мог тут же переключиться на рассуждения о том, как бы ему попасть в комитет комсомола, чтобы получить теплое местечко по окончании института. Еврейская среда достаточно своеобразна в этом отношении. Уживаются вещи, «в одном флаконе» не совместимые, и безо всякого внутреннего конфликта. Веши, которые в русском ужиться рядом никак не могли бы, не вызвав душевной драмы.
Одновременно я ходил в Историческую библиотеку и «ленинку». Однажды, уже на пятом курсе, я познакомился в «историчке» со странным «черным» человеком. Он был похож на цыгана, с черной, как смоль, бородой. Живой как ртуть, постоянно возбужденный, он сыпал какими-то фактами, как горохом. Его собеседники в курилке библиотеки, будущие историки, делали слабые попытки возражать. Он же нес самую откровенную антисоветчину и говорил о жидах и масонах. Осмыслить, что он говорил, я не мог. Я просто ничего не знал из того, о чем он говорил. Мой ум плавал в каких-то расплывчатых идеях, не опираясь ни на какие точно подобранные и систематизированные факты. В то время я не мог бы, вероятно, сказать, кто такие были кадеты или октябристы. И у меня не было никакого представления о февральской революции или о масонах. Я знал, что где-то и что-то «такое» было. Вот и все. В лице же моего нового знакомого, Александра Филипповича, я увидел просто представителя другой цивилизации, внеземной. И от этого инопланетянина я впервые услышал слово «монархист», сказанное им о самом себе. Меня это не шокировало, потому что я просто не знал, что это такое – в наше время быть монархистом. Мои однокашники, по преимуществу евреи, просто мечтали о сытой и богатой жизни. О возможности посидеть в кафе, вырулить на «бродвей» на своей машине и иметь возможность открыть свое дело. Вот, пожалуй, и все их идеалы. Те из них, кто мог осуществить их при «советах», с радостью это делали. Все их недовольство сводилось к разговору о деньгах, барахле и антисемитизме. Доказательства наличия последнего они видели в том, что кого-то из близких или знакомых не взяли в какой-то институт, обычно мифический, или не дали визу, и «он теперь страдает от этой ихней тупости». Но поскольку не брали на работу как раз русских, если начальство было сплошь еврейским, то поверить в этот антисемитизм было трудно. Это была, впрочем, единственная тема, которая разделяла меня и моих однокашников-евреев. Что касается эмоционального неприятия советского режима, то здесь моя душа открывалась в разговоре с ними. Тем более, что и народ этот был живой, подвижный, сообразительный, и в житейской отношении с ними в то время было легко. Они «все понимали».
На этом фоне совершенной беспринципности и, в сущности, невежества, Александр Филиппович выглядел действительно пришельцем из других эпох. У него и манера держаться была какая-то старорежимная. Но самое удивительное, что и тогда дойти до интереса к монархизму я так и не смог. Надо заметить, что постепенно у нас в «историчке» сложился некий кружок молодежи. Нас интересовала именно русская история и русская судьба. Мы хотели понять, отчего все сложилось так, а не иначе. Откуда взялись большевики, что было бы, если б в 17-м году не произошло революции. Тут же и еврейский вопрос, и роль этого «вопроса» в событиях тех лет. Шел 1965 год. Не раз и не два Александр Филиппович, «борода», объяснял нам и втолковывал, кто такие были кадеты и кто такие масоны, и называл большевиков бесами и жидохвостами. В первое время мы вежливо улыбались: слишком резко и не научно. О Ленине он мог рассказывать часами. О пломбированных вагонах, о связях с германским генштабом и проч., и проч.
Однажды осенью я пришел в библиотеку и взял журнал «Русская мысль» за какой-то предреволюционный год. В то время этот кадетский орган печати мне казался «самым-самым». По крайней мере, в нем не было цитат из Ленина и Маркса. И был хороший русский язык, на котором в наше время уже никто не пишет научных сочинений, даже исторических. И вдруг мой взор попал на название очерка в двух номерах: «Ошибки и преступления большевиков в революции 1905 года». Это был один из тех моментов, которые не забываются никогда. В то время я еще не знал, что совсем скоро мне воочию придется увидеть и ошибки эти и преступления. Увидеть и тех, кто их совершал, и тех, кто от них пострадал. Очерк этот содержал исключительно одни факты, одни признания участников тех событий, почти современных для очерка. И эти факты и имена, и высказывания Ленина и его соратников, и отзывы зарубежной прессы, и самих революционеров, – все это слилось в моем сознании в один поток. Я не мог оторваться. Голова у меня в конце концов стала какой-то ватной. Я сидел в царстве большевизма и читал то, за что полагался бы тюремный срок. Но не это меня волновало. Было жуткое, ощутимое чувство лжи; вроде как перед декорацией с ненастоящими горами, лесами и дворцами вас уверяют, что все это – «всамделишное». Именно с таким ощущением я вышел на улицу. И мне показалось, что и улица-то какая-то нарисованная, ненастоящая. И стены домов картонные, а прохожие – просто тени умерших. Это ощущение всеобщей лжи трудно передать словами. Но оно было всеохватывающим: все вокруг – дома, улицы, люди, слова – не настоящие.
Правда о 1905 годе, о сотрудничестве большевиков с охранкой, уже в то время не бывшее никаким секретом для их революционных соратников, близкие отношения с Германией, провокации и умышленное стравливание народа с войсками, чтобы вызвать кровопролитие, циничные заявления лидеров большевизма и сотни других фактов, обрушились на мою голову , совершенно не готовую все это воспринять. Важно было, что весь этот материал был горячим, в сущности – репортажем с места событий.
Шли 60-е годы, голодные и тревожные. Но в целом это было прекрасное время. Потому прекрасное, что была молодость и были надежды. И, главное, были такие же молодые люди, сверстники, тоже возбужденные общими политическими вопросами, неизбежно соприкасающимися с интересом к истории. Разговоры, споры, свидания с девушками, находки в библиотеке, вроде названной... Александр Филиппович жил в Измайлове, напротив леса, а я жил на другой стороне того же леса, на шоссе Энтузиастов. Мы часто шли через лес от Семеновского метро. В лесу же, на Пасеке, жил мой хороший товарищ, потом крестник, Ю.В. 0-ко. В конце концов, общим местом встречи и стала эта Пасека, дом гостеприимного моего товарища. Ю.В. был рабочим завода, книгочеем и книголюбом. На этом интересе мы и сошлись в свое время. Кроме того, когда-то мы ухаживали за одной девушкой, жившей в то время тоже на Пасеке.
Другая сюжетная линия, разворачивавшаяся одновременно с этой, касалась моего однокурсника татарина Ш-ва. Это была очень колоритная фигура. Человек прямолинейный, цельный, он был, увы, членом партии. «Увы» для него самого. Мы близко познакомились с ним уже на пятом курсе, на военных сборах. Он знал массу фактов из истории большевизма, прогрыз до дыр «классиков», сравнил все это со своей тяжелой жизнью в подвале на гроши, в голоде и холоде, и... возмутился.
В отличии от моих еврейских друзей, ругавших большевиков и их «антисемитизм», но при этом соблюдавших благоразумие, Ш. решил довести дело до конца. Как только мы вернулись с военных сборов, он написал заявление о выходе из партии. И отнес это заявление в партком.
Сначала с ним тихо беседовали. Тихо, чтобы замять дело, и не сделать его предметом огласки. Его уговаривали подождать по крайней мере до окончания института. Ш. заявил, что не желает пребывать в этой карьеристской организации, затравившей народ и погрузившей страну в море лжи, ни на одну секунду. Весь наш курс наблюдал за событиями, затаив дыхание. Последний эпизод этой истории был самым драматичным. Когда в парткоме поняли, что замять дела не удастся, то решили поставить на заседании парткома вопрос об исключении Ш. из института. А ведь дело происходило за несколько месяцев до его окончания. До получения диплома оставались считанные недели. На парткоме нашего, 1-го Медицинского, первым выступал громогласный Владимир Исакович М., заведующий кафедрой Истории КПСС. Двухметрового роста, он гремел, как иерихонская труба. Он требовал исключения недостойного и из партии, и из института. Когда он говорил, камни рыдали от его красноречия.
После всех прочих речей в том же духе слово дали Ш-ву. Его речь не отличалась, конечно, риторическими красотами. И она была короткой. Для того, чтобы понять ее смысл, надо знать, что десятки преподавателей в нашем институте шли по «делу врачей» (1953 г.). Многие стали инвалидами в застенках Лубянки. У академика В.Х. Василенко был перебит нос, у проф. Виноградова отбили селезенку... И многие из них теперь находились в этом зале. И Ш. сказал примерно так: вот только что вы прослушали выступление Владимира Исаковича М. Вы слышали его требования расправиться со мной. А теперь вспомните, как этот же человек совсем недавно, в сущности, выступал здесь же, и требовал расправы над вами, «врагами народа». Это ведь он писал на вас донос, и громко кричал о необходимости очищения рядов от «сорняка». Это ведь все те же слова и тот же человек.
Наступила гробовая тишина. И, как рассказывали очевидцы, все молча поднялись и молча вышли. Больше не было сказано ни одного слова.
Что касается дальнейшей судьбы Ш., то она сложилась, насколько мне известно, благополучно. Он выбыл из рядов КПСС, окончил институт и стал психиатром.
Что касается Александра Филипповича и нашей «исторической» группы, то здесь события шли к трагическому для многих концу. Весной 1966 года я заканчивал институт, впереди «светило» госраспределение, и куда зашлют, в какие веси – было решительно неизвестно. Всем, понятно, хотелось остаться в Москве или попасть на Север, что давало право на бронь и гарантировало возвращение в Москву. Поэтому я как-то отошел от кружка в это время. Надо сказать, что при всех собраниях в курилках библиотек, исторички ли, или «ленинки», обязательно присутствовали сексоты. Обычно это были студенты юрфака МГУ. Их знали, и в разговоре между собой этот факт учитывался. По правде сказать, распознать такого стукача не было никаких проблем. Пока все шло на уровне разговоров, не было проблем с Лубянкой. Разговоры учитывались, но за них не преследовали. Но вот весной того же 1966 года Александр Филиппович предложил создать организацию. Собрались на Пасеке у Ю.В. всего где-то около 30 человек. Не было всего-навсего четырех-пяти. За отсутствием телефонов предупреждать друг друга было сложно. Я же к тому времени был, как сказал, занят выпускными экзаменами и находился в крайне расстроенных чувствах. Меня распределили на работу в Тюменскую область. На этом роковом собрании не был, так как долго не бывал и в «историчке». И это меня спасло.
В конце мая – начале июня узнаю, что все, кто был на собрании, арестованы. Я встретил Александра Филипповича года через два после своего возвращения с Севера, где пробыл три года безвыездно, как молодой специалист, врач, отрабатывая свой трехгодичный срок. Он же как раз вышел из психбольницы и шел устраиваться на работу. Дворником. Забыл сказать, что до этих событий он работал переводчиком с итальянского на телевидении.
Надо признать, что он был все такой же неунывающий и неугомонный, как и прежде. Его арестовали в ту весну 1966 года на 5-й Парковой, когда его знакомый, оказавшийся стукачом, возвращал ему взятые книги, в том числе и работу В. Чернова «Марксизм и славянский вопрос». Его отправили в психбольницу в Ленинград, где он и провел большую часть срока, пока «не понял, что евреи не виноваты в преступлениях большевизма» и то, что «евреи вовсе не монополизировали все области культуры в нашей стране». В конце пятого года заключения он все это «понял» и был отпущен на свободу, имея на руках какую-то серую карточку с фотографией, удостоверяющей, что он где-то все это время «лечился».
С мая же месяца до самого отъезда в Тюмень за мной болтался «хвост». Иногда он ждал меня у подъезда, в кромешной тьме делая вид, что читает газету.
Я же осенью 1966 года прибыл на берег Оби. Здесь советскую историю я увидел, минуя все книжки и комментарии. Таежный поселок Октябрьский (б. Кондинский) среди своих пяти тысяч жителей имел в себе: русских крестьян из Тамбовской области, Воронежской, Архангельской и, конечно, с южных районов Тюменской области и из-под Тобольска. Это были остатки оставшихся в живых «раскулаченных» русских мужиков, кого под конвоем сгоняли на пустынные берега северной Оби. Одна часть поселка называлась «половинкой» и там жили сектанты, согнанные из Тамбовской губернии. Надо признать, это были самые хозяйственные мужики, сохранившие свой патриархальный уклад. Они не вели со мной религиозных разговоров, но общаться с ними было легко и приятно. Грамотные и подтянутые, совершенно не скрывающие своей неприязни к бесовской власти. Их привезли сюда уже после войны. Погибло их тьма. Всех умерших зарывали в ров. И этих рвов по всей средней Оби от Ханты-Мансийска до Салехарда, вероятно, тысячи. Это все могильники русского крестьянства. Здесь был зарыт цвет русской нации. Ее главная надежа и источник всех ее сил и свершений на историческом поприще. С историями о том, как все это происходило, я сталкивался каждый день, заполняя «историю болезни», и в том числе такой раздел ее, как «анамнез виге» – историю жизни.
Основная масса попала сюда в 30-е. Их гнали до Оби или везли в теплушках до Тюмени. Затем загоняли на пароход, окруженный конвоем с натасканными на людей собаками. Среди этого лая, плача детей, криков несчастных женщин, мата-перемата конвоиров, их грузили на пароход. Затем везли и высаживали на совершенно пустом берегу Оби. Без пиши, без теплой одежды, обдуваемые всеми ветрами, они поголовно умирали, но успевали поставить первые избы. Затем, на следующий год, шла новая партия с русскими крестьянами, с детьми и женщинами. И эта партия погибала поголовно, но успевала подвести избы под крышу. И только на третий или четвертый год уже следующая партия могла обосновываться в избах. Но оставались конвоиры, голод и расстрелы. Напротив нашего поселка, вдалеке в хорошую погоду можно было видеть избы заброшенной деревни. Там были арестованы и расстреляны все жители. Кажется, только последняя оставшаяся женщина бежала оттуда в поселок и потому осталась жива.
Кроме этих «раскулаченных», основной массы населения поселка, были и две улицы, заселенные то ли немцами, то ли австрийцами. Говорили, что это те, у кого дети служили в «СС». С немцами ладить было легко. Во-первых, они вполне обрусели, хотя и не забывали немецкий. Местное радио два часа в день вело на немецком передачи и транслировало какие-то немецкие бодрые марши.
Третья группа населения – бывшие бендеровцы. Их было много. И народ это был мрачный и неприветливый.
Ну и, конечно, местные жители – ханты и манси. Эти почти поголовно пили, почти поголовно болели туберкулезом, самой распространенной в этих местах болезнью, не щадившей и русских. Ханты и манси просто бедствовали. Они не могли приспособиться к новым условиям жизни. И вымирали.
Жить было тяжело. Во-первых, как сказали бы сейчас, из-за разницы менталитета москвича и провинциала. Во-вторых, здесь и сами отношения между людьми были далеки от сияния добра и милосердия. Раскулаченный в глазах райкома партии оставался потенциальным врагом. Рядом жили те, кто в 30-40-е был здесь же надзирателем. Тут же и бывшие бендеровцы. И сектанты. И над всем этим висел советский террор, моральный: «не наш». «антисоветчик», «контра». Вскоре приехал, впрочем, мой однокашник – еврей С. Приехал по расчету: заработать. Мы не ссорились, были близки и по настроению, и по воспитанию, и как однокашники. Но настоящей близости не было. С. был всецело погружен в житейские расчеты. Но однажды приехал новый врач, Щербаков Александр Александрович, и жизнь моя сразу стала веселее и краше. Щербаков, наш новый детский врач, с бородой Бармалея и насупленными бровями, так пугал детей, что не только лечить их ему почти не удавалось, но их, этих детей, надо было вытаскивать из-под койки, куда они забивались от страха перед страшным дядей. Человек он был хоть и своеобразный, молчаливый, но по-настоящему русским, провинциалом, по-своему человеком замечательным. Мы просто поняли друг друга, что называется, с полуслова. Около двух лет мы прожили с ним на хуторе, одни, и эти годы были, вероятно, лучшими из всех.
Отсюда, с этого хутора, принадлежавшего больнице, мы ходили через кладбище на работу, отсюда отправлялись на вертолете или на катере в командировку по району и сюда возвращались, рассказывали друг другу долгими вечерами, что видели и слышали. Здесь обсуждали долгими полярными ночами и «дней минувших договоры», и как жить дальше, и надо ли торопиться с женитьбой, и проч., и проч. За бутылкой вина, при свечах, когда трещат дрова в печке, а вокруг тайга и темень черная... Да, это было прекрасное время. И неповторимое. Вспоминаешь и щемит сердце...
Но на этом пасторальном фоне происходили и события вполне драматические. Я не буду их описывать – это заняло бы много места. Но надо сказать, что по иронии судьбы не я, грамотный диссидент со стажем, а совершенно аполитичный Сан Саныч попал в глазах райкома партии во враги советской власти. В анкете у него уже значилось исключение из комсомола со старших курсов за игнорирование воли партии. А, может, и саботаж. Это было странно. Сан Саныч до нашей встречи ничем, кроме спорта, в институте не интересовался. Это его и подвело. Плюс, понятно, разгильдяйство. Вместо того, чтобы поехать на Целину вместе со всеми, он поехал на какие-то спортивные сборы. В результате – исключение из института с пятого курса и год работы лаборантом и «запачканная» анкета.
Кроме такой анкеты, он отличался еще, по несчастью, и очень независимым характером. А в этом райкому виделся «протест», почти бунт. Там затаили злобу и стали выжидать. Случай представился с неожиданной стороны. К делу подключили прокуратуру, поручив ей найти и юридически оформить компромат. По близости отношений в поселке и по положению доверенного врача районного начальства, я все это видел и слышал, убеждал и разубеждал. С большим трудом, не без помощи нашего же товарища, адвоката М. [1]1
Ю. Малетинский. Райком не простил ему ни этого дела, ни многих других, т.к. везде он выступал, выигрывал один процесс за другим и не советовался с райкомом. Он был арестован, судим, и получил 2 года условно с исключением из адвокатуры.
[Закрыть], удалось дорогому моему другу остаться на свободе. А это «дело» тянулось едва ли не год.
И все это находилось в резком контрасте с отношением того же райкома к Павлу Феликсовичу С. Он работал в качестве женского врача. Приехал, как я говорил, чтобы заработать деньжат. Он быстро наладил поток денежных средств к себе в карман через производство абортов. Здесь возможности были немалые. Но ведь в поселке ничего нельзя скрыть. Все было бы хорошо, но едва ли не с первого дня он вступил в конфликт с главным врачом по вопросам оплаты ночных дежурств. Да, платить за ночную работу «забывали» всему персоналу. В этом деле мы с С. выступили вместе и добились своего. Сумма, на которую нас обкрадывали, была немалая – больше месячной зарплаты в средней полосе России. В результате я получал регулярные выговоры, раз-два в неделю, за то или сё. Но за С. началась слежка, и он попался с поличным. Надо сказать, на него был обозлен изрядно и прокурор. Невзлюбил, увидев в нем не врача, а дельца.
Тут же было заведено уголовное дело. Бледный и трясущийся С. бросился в райком. Объяснил все начистоту и услышал в ответ слова, слаще меда: «А кто не берет, если деньги сами идут в руки!» В результате дело было приказано закрыть, прокурору за игнорирование мнения райкома – выговор. И С. стал брать еще больше и веселее. В этой истории не было бы ничего особенного, если б не одно обстоятельство. Дело в том, что и я, и С. бывали гостями на застольях с членами райкома. И С., не стесняясь в выражениях, что называется, нес марксизм, Ленина и весь коммунизм, рассказывал самые что ни на есть антисоветские анекдоты. В ответ раздавался дружный смех членов райкома партии. Правда, за столом никого постороннего, кроме нас и хозяина дома, тоже врача, не было [2]2
В первое время я жил на квартире рядом с райкомом.
[Закрыть]. Но смех и одобрительные восклицания партийного начальства были в изобилии, как и закуски с выпивкой. Примерно через гол после нашего приезда С. начал вести войну с исполкомом по «квартирному вопросу». И здесь райком стал на его сторону. С. был своим. Важны были не его взгляды, а признание власти партийного начальства. И поскольку его антисоветчина совершенно не трогала райкомовцев, а даже их веселила, можно было сделать вывод, что сам по себе марксизм-ленинизм не был предметом нежного обожания в среде партийной номенклатуры. Не был в таковом качестве и сам Ленин с его «бессмертным» учением. Уж над ним-то, «бессмертным», С. изгалялся с особенной язвительностью. То, что вокруг – грязь и разруха, низкое качество советских изделий и еще более низкая производительность труда, членам райкома партии было видно и самим. Следовательно, внутри партийной номенклатуры действовали другие убеждения, другие верования, и они знали что-то такое, чего мы, простые обыватели, не ведали. Это было видно и по другим признакам. Отсюда можно было сделать вывод, что этот марксизм-ленинизм существовал для низов, для дисциплины народных масс, для разрушения национального сознания, как в давнее время вольтерьянство разрушало сознание религиозное, после чего на эти руины салился у кого мистицизм масонства, у кого – примитивный идеал социализма, а у кого – и то, и другое сразу.








