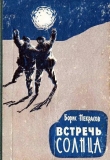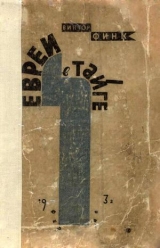
Текст книги "Евреи в тайге"
Автор книги: Виктор Финк
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 16 страниц)
2. Деды отмерзают
Мы возвращались с охоты со знакомыми казаками. Ехали верхами. В пути к нам присоединился еще один верховой, – молодой парень-пастух. Было солнечно и хорошо, и парень во все горло пел частушки:
Старики вы, стары черти,
Нерассудливый народ.
Молодые помирают,
А вас чорт не берет.
Кто-то из казаков сказал:
– Это ты, парень, однако, брешешь, что чорт не берет. Вполне берет. Зимой видал, что в Екатерино-Никольском со стариком было?
Вот что было зимой: зимой в тайге появился автомобиль.
Страшная телега, свистя, гудя и пыхтя, рванулась от станции Тихонькая Уссурийской железной дороги и побежала на самый Амур. Эта машина появилась с новыми переселенцами, с евреями.
Зима здесь сурова, но малоснежна. Грунт промерзает и делается тверд. Когда тугой таежный мороз перекинул мосты через сумасшедшие речки и вековечные болота, Озет пустил пассажирский автомобиль. Маршрут лежал через казачьи села. Там никогда не видели такой машины. Всполошенное население толпами выбегало на улицы. Бабы крестились, старухи читали псалмы на кончину мира, а чертовская машина гудела и мчалась, смеясь над всем на свете и оставляя позади себя страшный смрад геенны огненной.
Нельзя сказать, чтобы эти первые путешествия были безопасны: от перепуганной темноты можно было ждать всего. Но так устроен мир под солнцем, что жизнь зовет жизнь. Когда первые страхи прошли, то на каждой остановке, в каждой дикой таежной деревне неведомо откуда являлись люди, дремучие люди тайги, с просьбой подвезти их.
Автомобиль, пущенный Озетом главным образом для своих организационных надобностей, сделался доходной статьей. Люди, которые никуда никогда не ездили, потому что – «куда от нас поедешь?», получили потребность передвигаться, сноситься с себе подобными, ездить. У таежных барсуков появились дела. Находились люди, которые предлагали втрое против установленной таксы, никаких денег не жалели, лишь бы скорее доехать. Семьдесят лет мокли в болотах, семьдесят лет не вылезали из тайги и вдруг заторопились, едва показалась возможность наладить человеческую жизнь.
Многим приходилось отказывать. Один был, однако, человек, которому шофер отказать не смог. Это – старый казак в Екатерино-Никольском. Ему сто шесть лет. Он пришел сюда с Муравьевым-Амурским семьдесят лет тому назад из Забайкалья с первыми новоселами. Он провел в пути три года.
Старика усадили на машину. Он вздрогнул, когда она рванулась, и стал что-то беззвучно шептать про себя, – должно быть, молитву. Его повезли по всей деревне. Когда прогулка кончилась, дед вышел, покачиваясь. Он потряс еврею-шоферу руку и сказал:
– Таперя, однако, я слободно и помереть могу.
Глухая сторона Биробиджан. Кругом Хинган, тайга и медведи, а внутри деды.
Особый народ – казачьи деды. Я знаю одного, которому сто шестнадцать лет. Он ездит верхом и шутит с девками. По хозяйству ему помогает девяностолетний сынок.
Старики – хранители старой казачьей рутины.
– Уж мы – как деды, – говорят казаки на Амуре, держась за косную и темную старину.
Я встретил казака, который был в Китае и видел, как хорошо и остроумно китайцы разводят свои огороды.
– Ну, я решил, как домой приеду, и у себя то само заведу, – сказал он.
– И завели?
Он понуро отряхнул пепел с цыгарки, сплюнул и сказал:
– Дык не довелось.
– А почему?
– Кто его знат?.. Приехал домой, рассказал старикам, а старики говорят: «Сукин ты, говорят, сын! Плохо, что ли, деды твои жили? А табе мудрить надо? Умней стариков хочешь быть?» Вот так оно, дело-то, и пропало.
Старики – пример и основа казачьей жизни. В Лазаревой я видел хромого, которому старики не позволяют лечиться у врача. У них есть от хромоты свое лечение. Вот оно: «Два мертвеца дерутся, острыми саблями секутся, у их раны не ломит, кровь не текет. И у раба божия Афончи кровь не теки». Афонча к доктору и не ходит. Только старики и читают над ними свои заговоры.
Неудивительно, что случай со стариком, который сел в автомобиль, облетел все побережье. Он передавался из уст в уста. Я потом слышал эту историю за триста километров. Она обросла невероятными подробностями, она стала легендарной. Передавая ее, казаки говорили:
– Во! Пронимать стало!.. Деды отмерзать начали.
Как ни первобытны люди тайги, они с замечательной, подчас трогательной и настороженной чуткостью относятся ко всякому, кто приходит к ним с культурой. Куда мы ни приезжали с научной экспедицией, мы встречали самый живой интерес со стороны населения.
В станицу Столбовую мы приехали совершенно мокрые. Пришлось переходить вброд речку, проводник неудачно повел нас, и кони под нами проваливались в какую-то яму и плыли через стремнину. Мы все, один за другим, падали с коней в воду. Эта книга рисковала не быть написанной. Если бы у лошади профессора Кунца был чуть короче хвост, автор не имел бы за что ухватиться в последнюю минуту.
В Столбовой сушили платье, сапоги, вещи. Народу глядеть на нас набилось уйма.
– Пущай, пущай наглядятся на ученых людей. Авось, самим захочется учеными стать, – сказал пожилой казак, указывая на детишек, глазевших во все глаза.
За Волочаевкой, в непроглядной глуши, жители созвали сход и пригласили наших профессоров рассказать им, что именно они здесь собираются делать:
– Каку пользу затеваити?
Объяснения давал глава экспедиции, профессор Хэррис.
Казаки сидели вокруг своих стариков, как краснокожие в Дакоте, и слушали непонятный им язык. Американец говорил о прогрессе и учености его богатой страны, о машинах, которые заменяют человека в труде. Он сказал, что Биробиджан имеет все, чтобы тоже стать богатой и ученой страной.
Когда он кончил, выступил казацкий дед, древний дед с белой бородой и колючими глазами. Он сказал переводчику:
– Передайте, знацца, што благодарим. Так, мол, и скажи, – благодарны, мол, казачество. И ишшо просят, мол, Америку, чтоб, знацца, и напредь так поступала…
Дед вытянул вперед руку, зажатую в кулак, и, туго забирая ее назад, пояснил:
– Чтоб, знацца, именно к нам ученых людей спосылала, да с машинами, а не то што солдат с войной.
Потом он жал руки профессору Хэррису и всем нам и говорил каждому:
– Премного благодарим.
Когда в тайге впервые затарахтел трактор, казаки стали не на шутку высказывать недовольство: они давным давно свыклись со своей забитой и темной охотничьей жизнью и увидели в тракторе угрозу:
– Зверя разгонит! – говорили они. – Поди-ка поищи его, когда он шорох слышит, а тут во какой шум подняли!..
Но прошло какое-то время, и казаки увидели, что трактор, хотя и отгоняет зверя, но имеет все же свои качества, которые пожалуй, дороже и интереснее самой теплой медвежьей шкуры: трактор за первые два года поднял в Биробиджане больше земли, чем до него было поднято косными казаками за семьдесят лет.
В нескольких поселках уже горит электричество. Оно зажглось в тайге впервые в 1928 г., через несколько недель после прибытия первых переселенцев, когда на Бирской опытной станции была открыта тракторно-ремонтная мастерская. Трактор дал свет. Ни земля здешняя, ни небо, ни звери, ни птицы, ни люди не видели никогда того непостижимого чуда, которому революция присвоила наименование лампочки Ильича.
Евреи как колонизаторы Биробиджана являются культуртрегерами. Не потому, что они евреи, а потому, что их здесь поселяет советское государство, которое знает, что нельзя этот край колонизировать, не подвергнув его большой культурной обработке. С новыми колонистами появились тракторы, дорожные машины, экскаваторы, – частью советские, частью присланные друзьями из Америки. Появились мелиорация, агрономия, строительство. Вообще, начинается жизнь культурная. Колонизация, – в данном случае еврейская колонизация, – отвечает давно созревшим потребностям коренного населения.
– Спасибочки, евреи зашевелили, – говорил мне седой старик. – Таперя, говорят, будут дорогу прокладать тута. А то ведь сторона наша, сами знаете, какая, – сторона наша таежная.
Как мне ни казалось неожиданным, казаки и евреи уживаются рядом хорошо.
В Екатерино-Никольском, поблизости от еврейской колонии Амурзет, мой знакомый, с которым мы вечером проходили по улице, обратил мое внимание на разговоры, слышавшиеся в темноте. Там казачьи молодые люди звали евреек-трактористок проводить смычку национальностей где-то нето в саду, нето на берегу.
– Видите как? – сказал знакомый. – Сливаются, срастаются!..
Правда, политика Никольских парней в национальном вопросе объясняется еще и приятной внешностью евреек-трактористок. Молодые еврейки нравились во все времена и антисемитам. Еврейскую рыбу тоже зачастую любят самые заядлые юдофобы.
Но есть случаи и посерьезней: в том же Никольском еврей-переселенец, к тому же бывший шойхет, т. е. лицо почти духовного звания, женился на казачке и взят в дом ее родителями за сына. Тесть и теща не наглядятся на милого зятюшку. Лучшие куски свинины подсовывают милому зятюшке. Бывший шойхет отъедается сала за всех своих самых отдаленных предков, которые никогда не ели трефного.
– Свет перевернулся!..
Когда-то в местечках евреи выдавали дочку замуж за шойхета и брали его на полное иждивение. Потом бог давал погром. Тогда налетали казаки, шойхета убивали, а дочку насиловали.
– Когда свет перевернулся!..
Но как живут с казаками евреи, которые не женятся на казачках?
Евреи, которые не берут у казаков дочерей в жены, ничего у них не берут: громадное значение имеет то обстоятельство, что евреи заселяют земли, которые до них никогда ни в чьем пользовании не были. На Украине и в Крыму евреи поселяются на бывших кабинетских, церковных, помещичьих или кулацких землях. Как бы это ни было просто и справедливо, а все же иной раз подает повод для антисемитского злословья.
В Биробиджане этого не может быть. Немногочисленное коренное население здешних мест не имеет основания ревновать.
Были кое-какие нелады у евреев с соседями, но не с казаками, а со старыми переселенцами из Украины. Эти привезли сюда, среди прочего домашнего барахла, бытовое юдофобство, и на этой почве были ссоры. Но дело было улажено. Самый способ улажения был для здешних украинцев необычен и должен был подействовать на них внушительно.
Начать с того, что ссоры, которые им, по старой привычке, казались не подлежащими никакому обсуждению, вызвали вмешательство власти.
Приехал молодой человек в кепке, созвал «громадян» на собрание и изложил им принципы советской политики в национальном вопросе. У него на боку висел наган. После его отъезда многие «громадяне» были страшно разочарованы, узнав, что в отношении евреев есть перемены в законах. Никто не любит ломать свои привычки. Однако в этой деревне больше столкновений с украинцами не было.
С казаками легче. Осложнений может и вовсе не быть. У здешних казаков нет и старых юдофобских навыков. За недолгий срок соседства, за один-два года, казаки гораздо ближе сошлись с евреями, чем, например, с корейцами, которые живут в этих местах 60–70 лет. Корейцы к русским не ходят и к себе не зовут. А с евреями казаки ведут дела и даже сколачивают общие колхозы.
В еврейском колхозе Бирефельд у молотилки, среди евреев, работает девушка Катя. У ней ямочка на подбородке и немного приподнятые в углах большие черные глаза. Она – не еврейка. Она – кореянка. Евреи хорошо живут с корейцами.
В яслях возится с полсотни молодых колхозников. На стене висит размалеванный цветными карандашами плакат:
Не забутти папи – мами
Что детьми вы были самы.
У молодых колхозников стекают сережки из носов. Нянька не успевает вытирать. Детишки поют хором еврейские песни и в такт хлопают в пухлые ладошки. Детишки все более или менее одинаковы, но среди этих рыжих и черноглазых пичуг– несколько казацких детей. Они тоже поют по-еврейски. Два года назад, когда здесь прошел слух, что приедут переселенцы – евреи, казаки всерьез спрашивали, верно ли, что евреи с рогами?
Можно рассчитывать, что отношения будут хорошие, если…
Если их не испортят.
К сожалению, среди прочих ошибок организации еврейского переселенчества, были допущены и ошибки в деликатном национальном вопросе.
3. Как это делается
Километрах в восемнадцати от еврейского поселка Амурзет, расположенного на берегу Амура, строится большая рисовая плантация. В глухой глуши, которая миллион лет не слыхала никакого звука, кроме свиста таежных ветров, гудит экскаватор и суетятся переселенцы-евреи. Сюда свезены три деревянных здания – три сруба – и местность получила название. Она называется «Три балагана». В одном здании – контора, в другом – склады, в третьем живет технический персонал. Есть кооператив. В нем имеются одеколон и книги. Кругом пустыня. На стенке висит объявление, написанное от руки:
Всем членам н/союза и других союзов рабочим и служ. на данной предприятии о внесении членских взносов. Не внесение в течение 3 месяцев считается механически выбывшими.
Молодая колонистка, недавно приехавшая откуда-то с Украины, уже нашла себе мужа. Она уже на сносях. Глядя на нее и на экскаватор, можно судить, что будут дети и будет рис. В общем это то, что называется жизнью.
Рисосеяние – новая эпоха в жизни Дальнего Востока. Однако было бы ошибкой думать, что рисосеяние, в его нынешнем, т. е. «мокром», виде дает работу нашему советскому сельскохозяйственному населению Дальнего Востока.
Все процессы рисосеяния находятся целиком в руках корейцев и, главным образом, пришлых. Никто не может с ними конкурировать.
– Вот, поглядите на него, – сказал мне десятник, указывая на худосочного, прозрачно-желтого корейца-землекопа. – Полюбуйтесь! Он съедает в день три фунта мяса и пять фунтов хлеба, но зато он выбрасывает два куба земли.
На рисовые плантации привозили уже работников всяких национальностей: и русских, и казаков, и украинцев. Скушать корейскую порцию еще умели, но сделать корейскую работу некому.
Посев, полка сорных трав и уборка риса производятся корейцами в воде. Рабочий должен проводить весь свой день, стоя в воде. Нет любителей среди белых рабочих.
Не надо думать, что этот вопрос имеет только хозяйственное значение.
С ним связаны невидимые простому глазу, но первостепенные вопросы внутренней и даже международной политики.
Вот кое-какие статистические данные:
Отношение числа корейцев – японских подданных, к советскому сельскому населению Приморья составляет 18 %. Вообще же на 60000 советских граждан, занимающихся здесь сельским хозяйством, приходится 74 000 японских подданных– корейцев.
С течением времени эта ненормальность только усиливается. В 1910 году на Дальнем Востоке было 15 000 корейцев. А сейчас в одном только южном Приморье их проживает 150000.
Был в свое время такой случай: какой-то здешний исправник, объезжая свой район, неожиданно нашел неизвестное ему дотоле корейское село.
– Откуда взялись?
Корейцы знали одно:
– Моя понимай нету.
Выяснилось, что они расселились целой деревней в несколько сот душ с разрешения… унтер-офицера пограничной охраны. Впрочем, и сейчас вдоль границы стихийно вырастают села корейцев-рисосеятелей. Можно сказать, что граница стирается.
Как смотрят на это в Японии?
Передо мной II том «Записок Владивостокского отд. географического о-ва». Здесь напечатан краткий, но очень интересный разбор книги японского публициста Такео – «Очерк дальневосточных концессий».
«Я не могу не рекомендовать направить нашу эмиграцию в русскую Приморскую область, – пишет Такео. – Приморская губерния находится в таком положении, что для развития ее естественных ресурсов ей необходима восточно-азиатская и, особенно, японская эмиграция, и она должна ее приветствовать. Разработка Приморской губернии является естественным правом и долгом японцев».
Такео подсчитывает, что через 45 лет население Японии удвоится, я тогда вопрос о рисе, основном продукте питания, примет катастрофические формы. Автор делает отсюда следующий вывод:
«Не будет преувеличением сказать, что Приморская губерния в русских владениях дана японскому народу для того, чтобы он занимался в ней разведением риса».
Надо впрочем отметить, что еще в 1918 г., во время японской оккупации на Дальнем Востоке, в обозах японских полков следовали агрономы-рисосеятели. Они и положили начало рисосеянию на Дальнем Востоке, начав приспосабливать к нему корейское население. Японцы и на нашем Дальнем Востоке рассматривали корейцев как своих подданных. Во Владивостоке находился специальный комиссар японского генерал-губернатора, на обязанности которого лежало проведение ассимиляции. Японцы раскинули широкую сеть общества японокорейского сближения «Конахай». Это общество состояло из корейских кулаков. Официальной программой его был паназиатизм, фактически же это было подчинение корейцев японскому влиянию.
Как известно, японская военная оккупация мало-мало отменена, и даже Такео считает преждевременным обсуждать, каким образом сами японцы могли бы приступить к рисосеянию в Советской России. Но что он считает насущно необходимым и немедленно осуществимым, это – «оказывать помощь корейцам, которые эмигрируют в Приморскую губернию и имеют опыт в рисоразведении в местных условиях».
Политика Советского союза исключает версию о «желтой опасности». Нет «желтой опасности», как нет вообще опасности национальной. Но есть опасность империалистическая. 500 миллионов китайского, корейского и японского населения, изнывающих в скученности и нищете, управляются империалистическими правительствами!
Это значит, что дальнейшее пустование грандиозных пространств нашего Дальнего Востока грозит многими бедами. Надо зорко следить за этим уголком нашей географической карты. Устройство своей рисовой плантации в Биробиджане надо, следовательно, приветствовать.
Однако на этой плантации евреям первоначально отведена только организаторская роль. Всю же трудную работу выполняли опять-таки наемные рабочие-корейцы.
Правда, сами евреи-переселенцы в этом нисколько не повинны: не они организовали колхоз, а его организовали, не подумав, руководители биробиджанской колонизации. Правда еще и то, что плантация передана Дальрису и теперь является совхозом. Но это правда неходовая, это правда для знатоков и любителей. А ходовая правда та, что евреев, пришедших сюда трудиться, ни с того, ни с сего представили «хозяевами», едва они появились в тех краях.
Или еще:
В корейском селе Благословенном организованы два кооператива: общегражданский и рабочий. Один обслуживает население деревни, а другой-рабочих и служащих зерно-соевого совхоза. Гражданский кооператив снабжается хуже рабочего, и клиенты ревнуют. Все это очень обыкновенно. Но тут деталь: рабочие и служащие совхоза в подавляющем большинстве – евреи. И тут уже червь зависти получает национальный характер. Так что можно иной раз услышать, как корейский дядя с козлиной бородкой зюкает: «зиды капилативы зиледка давай, корейса зиледка давай могу нет».
Этого можно было избежать. Совхоз со своими тракторами и трактористами перевернул вверх ногами всю патриархальную жизнь села. Столкновение двух миров сопровождалось столкновением: двух рас. Думаю поэтому, что на таком деликатном плацдарме, как кооперативный прилавок, надо бы хоть первое время маневрировать более осторожно.
Есть и еще способы портить отношения.
4. Не та шиманесра
В осенние праздники в синагогах дуют в рог. Стоит обыкновенный еврей, даже не всегда почтенный купец, а нередко и сутулый беднячишко, и, надсаживаясь, дует в рог. Среди молчания, которое на миг тяжело и напряженно повисает в синагоге, его пронзительный вой наводит страх. Это очень сложное и ответственное дело. Еврей, дующий в рог, называется на духовном языке «муж, сведущий в роготрублении».
Он дает евреям урок музыки:
– Мол, запомните, кошкины дети, как звучит рог воскресенья! А то вот помрете, засыплют вас землей, а там придет Мессия, затрубит вот этаким фасоном, а вы, дубье, и не узнаете и продрыхнете важный час воскресения из мертвых.
По еврейским верованиям в день, когда протрубит рог Мессии, восстанут из могил все евреи, умершие со времени сотворения мира, и неудержимой лавиной устремятся в Иерусалим.
– Слушай, Израиль, как звучит зов воскресающий, чтобы не ошибиться и не дать маху!
И вот в осенние праздники, на Рош-Ашуно, в Биробиджане, в еврейском поселке Бомба – Бирефельд тож – евреи, собравшись на молитву, внимательно слушали роготрубление.
Переселенец, исполнявший обязанности кантора, стоял, покрывшись с головой талесом, и, закатив глаза, пел молитву на древне-еврейском языке.
Все было торжественно.
Внезапно молельня огласилась зычным криком. Кто-то из молящихся заорал с необычайно русопетским акцентом:
– Янкиль! Дубова голова! Ты ж каку шиманесру правишь?!
Среди молящихся произошло замешательство. К кантору подбежал мужик в фуражке с кожаным козырьком, в рубахе навыпуск из-под жилета и в высоких сапогах – типичный трактирщик.
– Белены ты, што ль, объелся? – кричал он, потрясая молитвенником. – Ты каку шиманесру правишь? Ты ж, дубье, буденную шиманесру правишь! А ить сёдни никак божий праздник – рошашона, дурья твоя голова!..
Можно было ждать, что этот наскок кончится восклицанием: «креста нет на тебе», что было бы, впрочем, вполне правильно.
Кантор, обыкновенный местечковый портной, не бог весть какой ученый, хватил, действительно, не ту молитву. Он так и повел бы молящихся не той дорогой, не случись здесь нескольких еврейских начетчиков – Вахрамеевых, Потаповых, Егоровых.
Рувима Исааковича Вахрамеева на мякине не проведешь. Старик Егоров, Хаим Шмулевич, тоже начетчик первой руки, да из Потаповых, ежели взять Ицхока Абрамовича, – тоже собаку скушал в сих делах. Этим людям нельзя втереть очки на древне-еврейском языке; их не заставишь петь не ту молитву.
Кто эти люди?
Секта субботников, еще иначе именуемая «жидовствующей ересью», народилась в православии очень давно, едва ли не в XIV столетии. Ее деятельность то вспыхивала широко, то угасала. Субботники были близки к престолу одно время – при Иоанне III. Потом их держали в темницах. Нето Иосиф Волоцкий, нето Иосиф Ростовский объ явили, что каждый субботник – «сосуд сатаны», «адов пес» и «диавалов вепрь». Однако еретики не плохо плодились и размножались на Северном Кавказе, в Саратовской губернии да и в некоторых центральных. Лет 60–70 тому назад, при Александре II, сектантство вспыхнуло в России с новой силой. Усилились и репрессии. Жидовствующие были выселены на окраины. В частности, из Саратовской губернии крестьяне-еретики попали в Сибирь. Они продолжали там заниматься земледелием и жили припеваючи по-кулачески. Они нажили кулацкие хозяйства, исподволь отвергая божественное происхождение Христа и поддерживая критическое отношение к вопросу о девственности девы Марии.
В последние годы им сделалось тесновато: с одной стороны, началось в их местах малоземелье, а с другой стороны, – рядом с коллективизацией, действительно, широко не развалишься.
– Думали мы, было, к бурятам переселиться, – земля там хорошая, да вот раздумали, – рассказывал мне один из них.
– Что так? – спросил я.
– Да к своим потянуло, к евреям…
– Какие же вам евреи – свои? – недоумевал я.
Но тот был непреклонен. У него были свои аргументы:
– Как жа, помилте? Ить мы позавсегда, скажем, раввинов держали. Опять же моеля, который младенцев, значится, обрезает по библейскому закону, тоже держим! Шойхета тоже самое! Да мы ить закон-то весь соблюдаем! Небось, трефного в рот не берем! Бабы у нас по пятницам свечи ставят. Одним словом, все честь-честью, по мойсееву закону.
Это был здоровый мужик, курносый, голубоглазый, стриженный под скобку. Я застал его дома за молитвой. На лбу, слегка отодвинув фуражку и волосы, смазанные постным маслом, сидела здоровая коробка тефелим – молитвенной принадлежности, которая уже умирает в быту природных евреев. Громадный талес падал почти до земли. Из-под него проглядывали лакированные сапоги бутылками.
Он взял молитвенник и начал зычно гаркать утреню:
– Ми шабейрах овисейну Авроом, Ицхок, в’Янкев, гу ивойрех зс кол гакол гакодиш азэ им кол.
Он обтесывал древнееврейский текст поистине как кол.
В селении Бирефельд по нарядам некоторых сибирских озетов целая группа сектантов-субботников получила земельные наделы.
Однажды мне сказал переселенец Хаим-Мордко Пинтель:
– Одново я понимаю, – сказал он, – и одново я не понимаю.
Мой приятель Хаим-Мордко – сухопарый еврей громадного роста. Голос у него такой, точно в горле застряла горячая картошка: бас-фальцет-профундо.
– Скажите сразу, чего вы не понимаете? – предложил я.
– Что такое эти кредиты, которые мы получаем от Озета, и тракторы, которые присылают американские евреи? – нервно спросил Хаим-Мордко. – Это премия за обрезание?
Самарские крестьяне-субботники могли попасть в евреи, действительно, только по графе религиозной хирургии.
Почему кто-то посмотрел именно на эту графу, я не знаю. В свое время даже святейший синод не признавал полного тождества жидовствующей ереси с иудейской верой.
– Вы посмотрите, что получается, – волновался Хаим-Мордко. – Получается, что настоящие евреи, так они уже почти в бога не верят. Может есть на сорок дворов два-три старика, что они подают радио до бога, так это же ничего. Так приехали русские мужики, что они такие евреи, как я армян, но только они сдурели и хотят молиться еврейскому богу, хотя что он такой самый опиум, как все боги, и еще показывают здесь пример, бо они же фанатики…