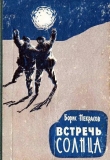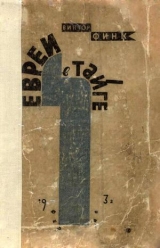
Текст книги "Евреи в тайге"
Автор книги: Виктор Финк
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц)
2. Ороч жалел! Ох и жалел!
Я сидел в X. на пристани на Амуре в ожидании парохода. Был вечер – темный и ветряный. Я был утомлен долгой ходьбой; тяжелый рюкзак, ягдташ и ружье обрывали мне плечи. Я прислонился к стенке.
Рядом со мной сидел какой-то человек в потертой кожаной куртке. Он внимательно разглядывал мое ружье и сказал:
– Смотрю я на ваше ружельцо и думаю… Господи, боже ж мой! Да из такого ружья… – Он запнулся, не находя нужного слова. – Да из такого ружья… Эх-х! Прямо родителям радость…
У меня было автоматическое пятизарядное ружье Браунинга.
– Эх-х!.. Жаль, калибер не тот!.. Велик калибер больно, а то откупил бы я у вас ружельцо!.. Ведь пять ударов клади один за другим, прямо как земной поклон…
– А вы охотник? – спросил я.
– Таежный я охотник, – представился незнакомец. – Я уж годов десять в тайге живу, не вылезаю…
Ветер раскачивал подвесную лампу. Когда свет падал на незнакомца, я видел лицо, изрытое оспой и заросшее грубой, мутно-серой шерстью. Какую-то ласкозую приятность ему придавали живые и веселые глаза. Они выглядывали из узких щелок, как лукавые зверки.
– Я раньше на острове святого Николая охотился, потом на Де-Кастри. А сейчас на запад подался, на Биджану… Пойдемте, я вас квасом угощу, – неожиданно предложил он мне, а сам обратился к буфетчику:
– Портвейну, братишечка, не найдется? Получше который, подороже? А?
Таежник был необычайно словоохотлив. Мне даже показалось, что он чуть-чуть не совсем трезв. Поговорив с минуту со мной, он побежал к ларьку. Я слышал, как он спрашивал:
– Почем грибы сушеные? Восемь рублей за килу? Мне три килы отвесь. А колбасы нет ли рублей на пять фунт? Нету? Плохо. Давай, котора есть, подороже.
Однако он не был пьян. Это просто был таежник, вырвавшийся в город. Он утратил равновесие, как моряк, сошедший на берег после долгого плавания. Вернувшись на место, он обратился ко мне:
– Собаку ищу купить хорошую… У вас не снайдется собаки продать?
Нет, я не имел собак для продажи.
– Говорят, там за Биджаной кунгусские собаки есть, – сказал таежник, – я туда и еду теперь…
Потом он вспомнил с оттенком грусти:
– Была у меня собака… Кабана ставила, медведя ставила… Да подметом отравилась… Корейцы на енота стрихнин подкинули, а она снайшла, поела с голодухи, да и отравилась… А собака же была!
Он вздохнул и мечтательно прибавил:
– Снайшел бы я таку собаку – эх, и кормил бы!.. Ошейник ей справил бы с набором!.. Так нет у вас собаки? Я за деньгами не постою!.. Зачем мне деньги? А то хотите, приезжайте ко мне в тайгу, я вас медвежьим мясом кормить буду… У меня пудов сто сейчас медвежины лежит… Хотите?
Он снова занялся моим ружьем:
– Эх!.. Кабы калибер не двенадцатый!.. Я из двенадцатого бахну, так белку однако в решето продырявлю. А мне, само главно, надо шкурку сохранить. Мне мелкий калибер надо, а опять же мелкого калиберу все односволки… Плохо нам с оружьей…
Я уже давно знаю, что пушное дело в Союзе сильно страдает из-за отсутствия подходящего оружия. Зато выработался в тайге тип изумительного стрелка. Туземцы Сибири и Дальнего Востока стреляют еще нередко из шомпольных ружей времен Очаковской войны. Порох засыпается через ствол, кусок пакли служит пыжом, кусок кабеля, откусанный на глаз плоскозубцами, служит пулей, и из этого инструмента туземец попадает белке в глаз.
Я знаю здесь и русского одного охотника, бездельного человека Антипку. Ружье у него, по прозванию «тромбон» – старый разбитый дробовик с затвором Бердана. У хорошей хозяйки кочерга– и та складнее Антипкиной рухляди. Но когда неожиданно взлетает тетерев, Антипка, не спеша, спрашивает:
– Головку?
Если сказать ему «головку», он вскидывает свой «тромбон» и в лет отстреливает птице голову.
Я слыхал от кого-то, что хорошо на Дальнем Востоке стреляют гольды, и спросил таежника, верно ли это. К моему удивлению, он принял вопрос почти как обиду.
– Гольды? – воскликнул он. – Да вы что – смеетесь с меня, товарищ дорогой? Какой же ж гольд охотник? Орочи – вот охотники, так да… Это вы за ороча слыхали, что охотник, а за гольда вам никто не мог сказать, что охотник…
Таежник даже как-то досадливо посмеялся: не громко, но и не желая скрыть, что мои слова только смешат его.
– Ороч – вот кто большой человек!.. Кто до него равняться может? Вот, к примеру, взять за прошлый год: я доставил в кооперацию белки семьсот штук… Кунгус – тысячу доставляет. А орочи по две, а то – верьте совести! – по три тысячи штук белковья приносили, черти…
Он многозначительно покачал головой:
– Ба-альшой человек ороч… Он только того сам не хочет, что он от господа бога может…
Он помолчал, а потом, видимо расстроенный мыслями об орочах, воскликнул:
– Да что мы против орочей, господи?! Да ничего!.. Ороч может зверя бить, как хочет…
Он не знал, как бы получше объяснить мне свою мысль.
– Ну, я в Москву приеду читать, дупустим, доклад… Ну, дупустим… Так то ж не доклад будет, а чистая география… У людей только будут ухи вянуть. А почему? А потому, что в Москве есть и без меня образованные люди, способные до докладов, а я – таежная коряга… Так само и ороч… Ему такие глаза даны, он тайгу на тысячу верст знает. Ты вот глянешь – тебе все тайга. Ты книгу читать умеешь, ты буквы знаешь, а он кажно дерево, как букву, знает…
Мне было приятно слушать таежника. Мне, охотнику, было приятно за охотничье достоинство: я не встречал людей других профессий, которые с таким наивным восторгом говорили бы о достоинствах своих конкурентов.
– А вы бы поглядели на него, – продолжал таежник, – так и смотреть не на кого! Как пьяный напьется – лежит, в песок мордой закопается и поет… А что поет? Ничего не поет… Так, по-ихнему лопочет, и боле ничего. Да вот, глядите на него…
На пристань входил маленький, худенький человечек – со спины он был похож на мальчика лет четырнадцати-пятнадцати, и, лишь когда повернулся лицом, я увидел, что это уже, повидимому, человек пожилой. Носил он мягкую шляпу и пиджак, а на ногах поверх брюк – рамузы – две отдельно надевающиеся штанины из лосевой или изюбриной кожи. Его длинные, до плеч, волосы были расчесаны в две косы и перевязаны красной материей. На маленьком, сухоньком монгольском личике с туго натянутой кожей застыло такое выражение, какое бывает у человека, глотающего что-нибудь очень кислое.
– Вот он… Ha-тебе!.. Гляди!.. И глядеть не стоит, а сказано ороч – значит, против него нету силы, первый охотник, и боле ничего, – полушопотом сказал таежник.
В его голосе слышались и полуснисходительность и преклонение. Свет упал ему на лицо. Я увидел, как улыбка бродила по нему. Но оно было такое неудобное – улыбка не знала, где остановиться.
С нами рядом сидел на пристани пожилой казак. Я немного знал его. Это был Лазарев Николай Тимофеич, почтенный местный охотник. Он скромно молчал во время всей нашей беседы с таежником. С туземцем же они обменялись поклонами.
Когда ороч отошел немного поодаль, Лазарев сказал:
– И верно, что он стрелок хороший. Я его давно знаю – он приходил на Таймень охотничать, и мы так само тоже там стреляли… У-ух, стрелки они были – он и сын! Бывало сойдемся, так они русских на спор вызывают – кто лучше стреляет. Ну, это конечно, нам до них не равняться…
Лазарев сделал паузу, закурил и потом продолжал:
– Они, бывало, с сорока саженей стреляли в яйцо на голове.
Я не понял.
– А очень просто! – пояснил Лазарев. – Скажем, поставит отец сына к дереву или сын отца – это им все равно, на голову яйцо покладет, сам отойдет саженей на сорок и с винтовки – торк! – и нет яйца.
Лазарев добавил:
– Только, конечно, это всегда на спор. Бутылку ханшины на забой ставили… Если попадет – мы бутылку ставим; не попадет – они нам бутылку повинны…
– Ну и что? – спросил я.
– А ничего. Всегда ихняя брала. Уж стрелит, так держись.
С Амура дул гулкий ветер, с маньчжурской стороны.
Висячий фонарь на пристани резко раскачивался, и временами его свет падал прямо нам в глаза.
Лазарев помолчал, потом вспомнил:
– А только, все-таки, наши один раз их обхитрили, – чуть-чуть улыбаясь, сказал он.
– Обхитрили? Как это?
Лазарев оживился.
– А так… Предложил им наш один: «На, мол! Ставлю в забой бутылку, и ты бутылку ставь, только…»
Таежник перебил:
– Должно потребовал, чтобы из другого ружья стрелял?
– Не, – сказал Лазарев. – И ружье ему оставили и дистанцию не меняли, ничего ему не сделали. «Только, – говорит, – ты мне раньше одну чурочку дров расколи, а опосля стреляй».
Я еще не понял, в чем тут дело, но таежник смекнул. Он подскочил даже.
– Ох-х-хо-хо! – крутя головой, сказал он.
А Лазарев продолжал:
– Ну, они согласились, орочи эти. Отец сына поставил, яйцо поклал, чурку эт-то расколол… Тут ему наши и суют ружье поскорей: мол, на, – сейчас и стреляй. Ну, а у него от топора-то, однако, в руках дрожба осталась, как бы сказать, дрожение. Стрелил, да прямо сыну ка-ак ни в лоб… Обмахнулся, значит!
– Жалел он потом, – добавил Лазарев после паузы. – Ох, и жалел..
Таежник совсем невнимательно дослушал рассказ. Я видел – у него в глазах забегали огоньки.
– Пойду спрошу у его, у ороча, не снайдется ли у его собаки продать, – сказал он, вставая. – А то у их тут подходящие собаки бывают.
3. Дело с китайцем
Был хмурый и дождливый день, когда мы подъезжали к селу Русская Самарка. Донимала мошка, дорогу размыло, ехать было трудно. Мы спустились с некрутого косогора и остановились у края широкой воды. Это была разлившаяся речка Самарка. Она не очень широка сама по себе, но разлилась из-за дождей и затопила низменный берег на добрых полтора километра. Из воды то тут, то там торчала зелень. Это были верхушки затопленных деревьев. Итти вброд было невозможно. Предстояла переправа в лодке. На берегу и стояла утлая лодочка, но в нее уже садились какие-то люди, – видно, здешние жители. Один из наших ямщиков сел с ними, чтобы привести лодку обратно. Ожидая его, мы пробовали укрыться от дождя в орешнике, но там сильно роилась мошка. Мы тогда вышли на дорогу и стали.
С косогора спускалась фигура в брезентовом плаще и поднятом капюшоне. Скоро стало видно лицо.
– Китай, – сказал один казак из ямщиков экспедиции, с которой я здесь путешествовал.
Действительно, человек в плаще оказался китайцем.
– Не иначе, с плантаций, – заметил другой. – С рису…
Китаец приближался. Третий казак воскликнул, обращаясь к нему:
– Ходя! Ты, может в лодке переправляться думаешь? Так я тебя в лодку не пущу, врастуды твои печонки!.. Так, ходя, и знай!
Это сказал Егорша, добродушный и веселый парень с чубом. Он вразвалку подошел к китайцу и, скрывая улыбку, закричал:
– Ты куды, косая сволочь, прешь? Не пущу в лодку…
Китаец сказал робко:
– Моя иди Самалка, капилатива…
– На кой тебе ляд капилатива? – все допытывался Егорша.
– Моя скажи капилатива, надо плантация капуста посылай, – отвечал китаец. – Моя мало-мало махолка купи.
– Махорки хотишь? – рычал Егорша. – Ды-к ты ж чаво, мутный глаз, не скажешь? На, кури…
Рычание Егорши было притворным. Он вытащил из кармана ситцевый мешочек с махоркой, бумажку и спички и добродушно подал китайцу. Подошли и остальные парни. Они стали оглядывать китайца, покуда тот скручивал себе цыгарку. Один держал в руках кнут. Весело улыбаясь, он стал им хлопать китайца по фалдам плаща. Китайцу хоть и не было больно, но было явно неприятно. Однако в это время кто-то другой спросил его, какое он получает жалование. Китаец ответил на вопрос. Это дало ему возможность сделать вид, что он не обращает внимания на то, как его хлопают кнутом. Он только переминался с ноги на ногу.
Казаки стали говорить, что жалование его небольшое.
– Ведь ты то подумай, – говорил один из них, казак постарше, Степан Сапожников, – каку он работу делает!.. А ни в жизнь тебе русский таку работу не поделает, как китаёзы.
Он обратился к китайцу:
– Ты что, ходя, – землекоп?
– Зимеликоба, – подтвердил китаец.
– Ну, то-то! Могим рази мы против китайца равняться, особливо который, к примеру, кореец? Ить он таку работу кладет…
Действительно, китайцы – прекрасные землекопы, а корейцы еще лучшие. Казаки говорили о тяжелом труде и замечательном трудолюбии китайцев. Китаец курил и от жадности моргал глазами. Тяжело висело оловянное небо. Шел дождь, и было скучно. Ямщик Афонча, который не имел пальто и промок насквозь, от скуки стал щекотать китайца. Он забегал то справа, то слева и хватал его подмышки, сам громко смеясь. Егорша, зайдя сзади, внезапно подобрал на китайце фалды плаща, и тогда Афонча и другие парни стали бесстыдно хватать китайца внизу живота. Китаец отбивался и что-то кричал по-своему. Вмешались мы, и парни оставили его а покое.
Дождь продолжал итти. Лодки все не было. Косматый парень в курчавой бороденке, по имени Алексей, но по прозванию Мишка-Муха, снял с себя узенький ременной поясок. Он подошел к китайцу сзади и, моргнув парням, чтоб молчали, накинул ему ремешок на шею. Затем он быстро пропустил конец ремешка через пряжку и затянул петлю. Пряжечка засвистела, и все засмеялись.
– Ходя! – закричал Алексей. – Хотишь? Я тебя удавлю!..
Степан Сапожников тоже смеялся. Однако наш завхоз прикрикнул на парней. Тогда и Сапожников сказал:
– Муха, брось, не балуй! Дай покурить человеку.
У китайца лицо было попрежнему невозмутимое.
Он боялся обнаружить испуг, чтоб не распалять аппетиты парней. Мы запротестовали. Муха отошел, но через минуту, когда мы отвернулись, он снова накинул китайцу петлю на шею и стал затягивать, попрежнему смеясь. Когда ремешок сжал китайцу горло, он сказал:
– Пилистань!
При этом он схватил Муху за руку, и тот вздрогнул. Видимо, сила китайца соответствовала ею невозмутимому самообладанию. Шутки прекратились.
– Не балуй, черти! Людей бы постыдились! – прикрикнул Степан Сапожников.
Тем временем подошла и лодочка. Она забрала нескольких из нас. Я выехал с квартирьерами. Мы нашли избу в Русской Самарке, заказали чай, еду. Потом я выходил на берег встречать казаков с имуществом. Страшно было смотреть, как они переправлялись. Мишка-Муха умудрился поставить целую телегу на узенькую лодочку. Казалось, поворота головы достаточно, чтобы нарушить это непостижимой равновесие и опрокинуть все в воду. А Муха стоял на корме во весь рост и, правя багром, лавировал между волнами и между деревьями, торчавшими из воды.
– Сказано, Муха! – замегил Сапожников. – Значит, Муха и есть. Горячий человек!..
Переправа продолжалась долго. Уже давно слетели сумерки, когда работа была окончена. Казаки ввалились к нам в избу. Муха весело прогремел, топая каблуками об пол:
– Ну, таперя мне кондяку надо! А то простыну я без кондяку, тады меня хочь в Нагибово к вельтирнару отправляйте!..
Завхоз пошел рыться в сумах, чтоб достать для парней бутылку, и вспомнил:
– Ну, а куда китайца девали?
Все смеясь бросились рассказывать наперерыв. Начал Егорша. Он сказал, зябко потирая руки и тоже смеясь:
– А взяли мы его перевозить. Не в лодке, а на коню. Пущай, мол, на коню едет! Я говорю: садись, – говорю, – ходя. Там, – говорю, – не глыбоко.
Степан Сапожников, доставая кисет, шитый из изюбриной лапы, перебил:
– А я говорил – не бери! Пущай на берегу пропадат. А то повезешь, а он в воду упадет. Ить тут, на Самарке на самой, страсть, как глыбоко, и очинно крутит волна.
Степан облизнул краешек цыгарки и, сплюнув, продолжал:
– Тут в воду оброниться самое малое дело. А пойдет он под воду, за коня ухопится, да и коня загубить могит…
Муха воскликнул:
– Оно само! Посадил я его на коня, а тут, однако, на речке, как конь поплыл, так ходя-то с коня и сковырнулся. Сковырнулся да стал топти… Извесно, – в сапогах да в балахоне… Ну, стал топти и, такой сукин сын, коня за хвост тянет.
Муха взял кисет из рук Степана и продолжал:
– Тута я его, как полагаецы, по морде! Не трошь, мол, ходя, коня! Не смей, зараза!.. Своей силой, мол, пропадай, своей и спасайся… Ух, смехота!..
– Ну, и что? – спросил я. – Спасся он?
– А хто его знат?! – весело скаля зубы, ответил Муха. – Я не видел. Уж темнеть стало…
Он потопал об пол промокшими сапогами и заторопил завхоза:
– Ну, давайти, давайти кондяку нам поскорейша, а то совсем зазябли!..
Сторона таежная
Не там тайга, где звери дикие,
а там, где люди темные.
Дед Микола.
1. Солидный Амур
Амур катит свои волны плавно, – именно так, как подобает большой и солидной реке. Летом он становится значительно шире – дожди заливают береговые низменности. Тогда путешественник может воображать себя катающимся не по реке, а по озеру. Но это – не обыкновенное озеро! Вот торчат из воды верхушки телеграфных столбов, а то вот лодочка прибилась к густой зеленой шерстке. Водоросли? Осока? Нет, – это еле торчат из воды вершинки затопленной рощицы. Она неосторожно раскинулась тут, верстах в пяти от берега, и чувствовала себя в безопасности, да вот дал бог летний дождик, и ее затопило по самую маковку.
Но это, в сущности, не так уж страшно, – всего затопить не могут и самые усердные дожди: Хинганский хребет, например, спокойно переходит с одного берега на другой. Его зеленые сопки беззаботно смотрят на разгул водной стихии и только улыбаются. Улыбается также и солнце в небесах. Со свойственным ему одному умением оно придает непостижимую радость и ликование картине, которая, откровенно говоря, не очень радостна сама по себе. Едва оно покажется из-за облачка, и уже в другом свете видишь и тупое спокойствие реки, и ужас ее разлива, и строгость горных ущелий. Когда проносится по воде скарб, смытый наводнением у недогадливого хозяина, ничего другого сказать не можешь, как:
– Эх, ты, скарб!..
И плывешь себе дальше. А там дальше, сколько ни плыви, – широкая вода, зеленя, рощи, луга, сенокосы, опять рощи да величественный, заросший тайгой Хинган. Он то отступает от воды, то выбежит на самый берег и стоит, высоко задрав косматую голову, как горный козел. Ни с чем не считаясь, он переходит с одного берега на другой, где ему вздумается. Конца ему не видно и края.
Сколько ни плыви, ни смотри, а конец и край теряются где-то там, в недостижимой и ослепительной голубизне.
На точном основании Айгуньского договора 1858 года, воды Амура омывают русский и китайский берега и делают это одинаково добросовестно и деловито по отношению к обеим сторонам. И вышинки, и низменности, и затопленные пади, и выскочившие из воды рёлки, рощи и луга, а также сопки разделены без обиды между обоими берегами, и жирные гуси стаями мечутся в поисках охотников с одного берега на другой.
Все здесь обильно и щедро, что создала природа. Но все скупо, убого и уныло, что создано так называемым венцом ее творения: унылые, одинокие деревушки на русском и на китайском берегах, – две-три избушки здесь, две-три фанзы там; одинокая кумирня, посеревшая деревянная часовенка; голоштанные детишки с косыми бровями, такие же дети с прямым разрезом глаз; тощие бабы, ругающиеся по-русски, худосочные китаянки, что-то кричащие по-китайски; бородатые дяди в посконных портах, китайцы в дешевых халатах из дабы.
И от поселка до поселка десятки километров живописной, волшебной, дышащей изобилием пустыни.
Почему не заселены эти цветущие берега? Почему нет здесь шумных городов, фабрик, заводов? Почему природа оставлена здесь во всей своей первобытной нетронутости? Почему первобытны и люди, которые здесь живут? Когда и как они сюда попали?
2. Дед Онисим
В деревушке Забелино на Амуре, где я застрял на несколько дней, я часто приходил на берег. Удочка, ведерко и коробочка с червями придавали мне вид рыболова; признаться, я именно за рыбой и приходил. Но всякий раз, едва расположившись на берегу и осмотревшись кругом, я уже и сам сознавал, что рыба будет в полной безопасности: так все красиво на реке, так волшебно величие зеленых вод, так густы зелени, так насыщен воздух солнцем, покоем и счастьем, что я неизменно всякий раз заваливался на траву и принимался вычислять, насколько здешний небосвод просторнее моей московской квартиры. Так я за этой математикой и засыпал с удилищем в руке.
Однажды меня разбудили чьи-то шаги и осторожный кашель. Открыв глаза, я увидел в нескольких шагах от себя высокого, чуть-чуть сутулого старика. Он был одет в пожелтевшее полупальто и в широкие полотняные шаровары в заплатах, а на ногах у него были старые рваные опорки.
– Прошу прощения, – сказал он, опускаясь на траву. – Разбудил я вас… А как рыбка-то?.. Клюет?.. Или вы спать изволили?
Старик говорил бойко и легко, не по-стариковски, и глаза у него были живые. Лишь прозрачная желтизна кожи, туго натянутой на лбу, выдавала преклонный, повидимому, возраст.
Никаких рыболовных принадлежностей у него не было. Он и не пришел рыбачить, – он пришел побеседовать.
– Онисим я, – представился старик. – Может, слыхали? Меня китайцы зовут Ниса, а хрещеное мое имя – дед Онисим… Я сегодня только вернулся из Благословенного. Я там у корейцев колонка скорнячил. А сегодня вернулся да узнал, что вот анжинер приехал, и очень хочется поговорить.
В деревне меня звали инженером, – без всяких, впрочем, оснований. Вероятно потому, что приезжавший сюда в последний раз, лет пятнадцать тому назад, городской человек был инженер. Репутация эта создала мне много знакомых среди сельского населения. Все приходили люди спрашивать, что я полагаю строить, не нашел ли я золотой жилы, не намерен ли рубить дорогу сквозь тайгу и т. д.
Я старался убедить, что я не инженер, а газетчик, корреспондент. Но от этого спокойней не делалось: ко всем обычным беседам прибавились вопросы мировой политики: спрашивали, будет ли война или не будет, действительно ли у Чемберлена твердый лоб и почему?
В этих беседах я часто слышал имя деда Онисима. Говорили, что он грамотей и знаток всевозможных мелких и крупных вопросов мировой жизни.
– Вот кто бы с вами побеседовал! Стародавних лет человек, – говорили про него, – и все с книгой ходит… У самого уж внуки в анжинеры вышли да в фершала, на больших жалованиях служут, а он все книгу свою читает… Чисто политик какой… Студент… Мы его так студентом и кличем.
Старик был в эти дни в отсутствии, и лично видеть его мне не доводилось. Я был рад, что он пришел посидеть со мной на берегу.
Однако, усевшись поудобнее, дед взял сразу нестерпимо высокую ноту: он неожиданно вытащил из-за пазухи пухлый том «Политической экономии» проф. Железнова в голубом переплете и, раскрыв его на главе о земельной ренте, попробовал вовлечь меня в беседу о теории Рикардо.
– Вот, – не торопясь, начал он, – как известно, иностранец Рикардо возводит…
Старик расположился блистать образованностью. Мне было очень трудно: теория Рикардо была бубном шамана. Но все же «Политическая экономия» была, наконец, захлопнута, и за махоркой, которая во все времена обладала свойством сближать людей, старик просто и не мудря рассказал мне много интересных вещей из истории заселения русского амурского побережья.
– Все мы, амурские казаки, – сказал он, – из забайкальских сюда казаков пригнаны в 1858 году. Даже песня у нас есть про то. Хотите, спою? – просто предложил дед.
Я попросил, и старик затянул протяжным и фальшивым тенорком:
В пидисят осьмым году
В Забайкальским во краю
По бригадам шел приказ:
Назначали в Амур э-нас.
Плыли ночь и плыли день,
Часто садились на мель,
С мели баржи нас снимали,
Свою участь проклинали…
– А боле того не упомню, – осекся дед. Впрочем, через минуту он вспомнил – А то вот друга есть песня.
Он опять затянул беспомощным тенорком:
С стрелки отправлялись с полными возами,
В Кизи приплывали с горькими слезами.
Плыли по Амуру великие версты,
Стерли у рук, у ног свои мы все персты,
Считаючи, считаючи те горькие версты.
– Опять дале не упомню, – сказал старик, переставая петь свою невеселую мелодию. – Это все амурские, давношние песни… Ишшо отцы складали, сюда едучи.
Старик покрутил головой.
– Эх, и приняли мы горя, как гнали нас сюда из Забайкалья!
– Кто же гнал? – спросил я.
– Как так кто? Захватил генерал Муравьев реку Амур, манегров попер оттуль, а край был одна пустыня. Ну, значит, был нам в Забайкалья приказ переселяться на Амур. Было тако объявление, что ежели котора сотня ехать не схочет, перевести ее немегля в пешее казачье войско в двадцать четыре часа… Ну, и испугались все…
– Чего же испугались?
– А как же?.. Мы, почитай, триста лет от самого Ермака конные были, да вдруг тебе в пеший строй! У нас считается пеший казак – оборотень. Ну, и не пожелали отцы в оборотнях оставаться, да и пошли на горе свое в переселение…
– Что ж, худо здесь разве? – спросил я. – Край, кажется, благодатный?
– Край-то благодатный, что и говорить! – согласился дед. – Да ить одной благодати мало. Нас-то сюда кинули на болото да в тайгу без дорог и без жилищ. Где Забелино наше, там тигры бродили. От мошки кони назад в Забайкалье за четыре тысячи верст удирали… Во… И то сказать – конь-то удерет, а человек куда поденется, ежели с семьей?.. Уж где без толку кинули, там и живи… А кому не нравилось которым, тех господа офицеры в кнуты брали… Заправят человеку сто горячих, уж тогда ему всякая местность понравится, – только отпустили бы поскорей.
Старик прибавил после паузы:
– Да, гражданин анжинер, времена тогда были такие: чуть что – спускай порты, ложись сечься… Тем и разум воспитывали…
– Вы в Екатерино-Никольское поезжайте, – помолчав, продолжал дед. – Там старик есть ишшо меня постаре, – ему, почитай, за сто годов. Он вам расскажет, как сюда люди с родины по три года пешком шли да в пути мерли. Я еще ничего. Я мальчиком сюда пришел на плоту, в пятьдесят девятом году, с родителями. А главное горе родители приняли.
Больше, чем слова старика, волновало его тяжелое молчание, когда он закончил фразу. Старик стоял у края своей жизни. Вряд ли она уж и вся была так легка и весела. Но вот случайно пронеслись перед ним воспоминания о картинах, виденных семьдесят лет тому назад, и на лицо его опять легла тень страдания.
– Мертвечину ели, – точно через силу выдавил из себя дед, – в очередь друг дружку убивали солдатики, да и поедали… Во какова жизня была.
Я уже слыхал жуткие рассказы о том, что в 1858 году, при заселении Амура, солдаты и казаки питались мертвечиной и, действительно, по жребию убивали друг друга и съедали. Еще не так давно жил в Благовещенске старик, до конца дней отбывавший церковное покаяние за участие в этих ужасных трапезах. Суд не решился приговорить его к более строгой каре, когда он рассказал, среди каких несчастий ему пришлось совершить свое преступление. Этими несчастиями переселенцы были обязаны исключительно властям, а власти надо было оставить безнаказанными.
Русские уже владели Усть-Зеей – нынешним Благовещенском, – а хотелось иметь большую китайскую реку Эмур-хэ. Это была стародавняя мечта российского империализма. За нее немало было заплачено крови. Правда, в 1847 г. Николай I приказал затею бросить. У него были свои взгляды: «вопрос об Амуре, как о реке бесполезной, отставить», – надписал он на одном из министерских докладов. Конечно, бросили тогда – боялись царя. Но с новым царствованием мечта возродилась.
Муравьев узнал, что в городке Айгуне – километров 30 ниже Благовещенска – живет китайский князь И-шан. На двух канонерках, с двумя ротами солдат, с казаками и с пушками прибыл Муравьев к Айгуню, расположился на островке вблизи города и пригласил И-шана вступить в переговоры.
Собственно, о чем переговоры?
Муравьев потребовал от И-шана отдачи китайских земель России, по мере возможности без каких бы то ни было разговоров. У князя с испугу только и хватило аргументов для отказа, что, мол, не имеет он с собой государственной печати. Русские возразили, что не в печати счастье, и просили размышлять побойчей, так как через три дня начнут стрелять пушки. Тогда И-шан кое-как обошелся без печати и подписал с Муравьевым договор, по которому Китайская империя, якобы, уступает империи Российской все земли по левому берегу Амура и по правому берегу Уссури.
Вот как просто можно иногда заключать международные соглашения!
Правда, впоследствии Китай пытался опротестовать эту сделку, как насильственную и одностороннюю. Но европейская дипломатия убедила Китай, и в 1860 г. Айгуньский грабеж был санкционирован формальным Пекинским договором.
В день, когда И-шан подписал в Айгуне бумажку, на Зее было большое торжество. Русские подошли к самому берегу и стали разбрасывать сбежавшейся толпе серебряные гривенники и пятиалтынные. Под залихватский стук барабанов и вой труб русские высыпали несколько мешков мелкой монеты.
Китайцы тоже были деликатны. От счастья, что их не убивают, они подарили Муравьеву – кроме Амура и Уссури – еще и черную свинью – подарок не только полезный в обиходе, но даже священный, по их верованиям.
Отдача территории, да еще и свиньи, кое-кому выпала боком: И-шан, как родственник богдыхана, отделался сравнительно благополучно – его сняли с должности. Хуже вышло с айгуньским губернатором Жераминго: его-то отдали под суд и заковали в колодку. Чувствуя себя скверно в этом положении, Жераминго подкупил судей и получил позволение отправиться под конвоем в сельцо Хабаровку – нынешний Хабаровск. Там жил Муравьев. Жераминго пришел просить Муравьева возвратить, если возможно, Амур обратно Китаю.
Не вернул Муравьев. Не из таких был людей!
Мне рассказывал о нем один древний старик:
– Вот енарал был, дай бог царство небесное… С кажным здоровкался… Бывало подойдет: «Здорово!..» – «Здравия желам, ваше превосходительство». – «Кашу вчерась кушали?..» – «Так точно, кушали!» – «Л-ладно!..» И уйдет. Вот какой был! Грудь табе колесом, а на груде орден!.. Да!.. И никогда, заметьте, простудой не болел…
Муравьев-Амурский взял Амур у китайцев без выстрела. Чтобы закрепить за Россией пустынный берег, он решил заселить его казаками в принудительном порядке. Переселенчество было организовано гражданскими чиновниками. Чиновники брали взятки с тех, кто не желал покинуть насиженные места, и обворовывали тех, кто решался на переселение. Переселение прошло среди невероятных мучений, лишений, испытаний. Много народу умерло от болезней, а партия в несколько сот человек погибла в пути от голода: продовольствие было расхищено интендантами. На берегах Зеи и Амура показывают иные курганчики – могилы несчастных переселенцев 1858 года, погибших голодной смертью в пути.
«Вчерась кашу кушали?..» – «Так точно, кушали».