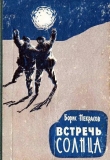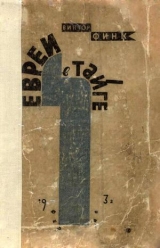
Текст книги "Евреи в тайге"
Автор книги: Виктор Финк
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц)
Насчет евреев
1. Ваня Печкин
В станице Никольской мне надо было повидать одного казака-охотника по фамилии, скажем, Печкин. Я сидел со знакомыми агрономами на скамеечке, на берегу. Беседовали. Я вспомнил о Печкине и спросил, где он живет.
– Да вот тут же, от угла третий дом, – сказал один из знакомых и прибавил – А вот сынишка его. Он вас проводит…
Вокруг нас стояла целая толпа мальчуганов. Без лишней скромности скажу сразу, что это скопление юной публики вызывала только моя фигура. Остальные, сидевшие со мной, были что? Они были ничего, – постоянные местные работники, – носили обыкновенные толстовки. А я в тот день появился в станице в необычайном виде: я появился с огромным рюкзаком за спиной, с ружьем невиданного образца, на мне висели через плечо ягдташ, патронташ, баклага, фотографический аппарат, полевой бинокль, а в зубах – моя вместительная трубка, моя верная и неутомимая спутница.
Мальчишки мобилизовались вокруг меня, едва я сошел с парохода, и не покидали меня больше. Хотя я по улицам ходил без ружья, без ягдташа, без патронташа, рюкзака, баклаги, бинокля и аппарата, с одной только трубкой, – мальчуганы не покидали меня и ходили за мной, как за слоном, и смотрели на меня во все глаза, как на передвижной музей.
Когда мой знакомый сказал, что вот, мол, проводит меня Печкина сынишка, мальчуганы расступились, и я увидал паренька лет четырнадцати, блондинчика со смазливым лицом.
– Проводи уж, Ванька! – сказали мальчуганы.
Ваня Печкин выступил немного вперед и расправил грудь: он нужен. Из безвестного, анонимного члена мальчишеской стаи он делается человеком, который нужен знатному иностранцу. Он даже принялся измерять меня взглядом с головы до ног.
– Ну, что – проводишь меня? – спросил я мальчугана.
– Да как по деньгам, – неожиданно ответил он, все продолжая меня оглядывать.
Я ничего не понял.
– За что ж платить-то?
– А уж за то, – отвечал Ванька, притопывая носком сапога.
Он стоял в позе человека, который не даст маху, который знает себе цену, раз он нужен и раз он один на всем свете только и может выполнить требуемую работу.
– Сколько ж тебе дать?
Я думал – ну, попросит нахал три копейки на конфеты. Но Ванька медленно процедил, глядя мне прямо в глаза:
– Девяносто копеек давайте!
Агроном послал мальчишку ко всем чертям, но тот все же весь вечер ходил и бродил вокруг меня: не предложу ли я восемь гривен. Он бы взял.
Я как-то рассказал об этом среди знакомых. Один из слушателей, как раз еврей, слушал, читая газету, т. е. невнимательно. Когда я кончил, он воскликнул многозначащим тоном:
– Наши еврейчики!..
2. Миллион и другие
Промышленность на Дальнем Востоке растет и расширяется, но на каждом шагу хозяйственники натыкаются на отсутствие рабочей силы.
– Нет людей!.. Не с кем работать!..
Это – общий вопль. Нет не только работников высокой квалификации, – нет чернорабочих для вывозки леса, для ловли рыбы, для промывки золота, для ухода за скотом и т. д.
– Приезжают разные люди из России, присылают даже организации людей, но толку от них мало, – говорят хозяйственники. – Едут в нашу даль почему-то чуть не сплошь пьяницы, авантюристы, искатели длинных рублей.
Я был во Владивостоке в конце сентября. В городе было полно сезонников. Это нарядные молодые люди. Они снуют целыми отрядами по улицам и все в пьяном виде.
Кто они?
Это наезжие рабочие, возвращающиеся с сахалинских и камчатских рыбалок по случаю окончания сезона. Они оделись во все новое, проезжая через Японию. Они привезли крупные суммы денег. Но уже через три-четыре дня деньги спущены, и щеголи продают свои новенькие костюмы на китайском базаре. Я видел, как один снял с себя рубаху и остался голым по пояс. За рубаху он получил не деньги, а косушку, тут же выпил ее и с пьяным плачем повалился ничком на землю.
Ночью в гостинице мне не давали спать: в комнате надо мной происходила оргия. Кто-то стучал ногами по пианино и пел плаксивым голосом: «А я уеду, да я уеду, да уеду в Самарканд». Потом его били, и он плакал. Он умолял, чтобы ему помогли выбросить пианино за окно. Пианино не пролезало.
Он кричал:
– А ежли б был бы б пожар? Надо было б тот фортоплян спасать? Ты б тогда выкинул бы б его за окно?..
Он плакал. Ему зажимали рот и давали тумаков. Но он вырывался и орал:
– Товарищи! Прошу я вас… Подмогните поднять фортоплян!..
Никто не помогал. За окно во двор летели бутылки, стулья и столы.
А я поеду, да поеду, да прямо в самый Сампрканд..
Это становилось невыносимым. Я побежал в контору просить, чтобы несчастному помогли, что ли, выкинуть пианино за окно. Но никто не решался войти в номер:
– Это с Камчатки вернулись!
– Ну, и что?
– Они и убить могут. Уж подождите, пока сами кончат. С Камчатки ведь!
Скандал продолжался.
Явление это, – как я узнал, – бытовое. Когда подходит сезон, в городе только об этом и разговору. Газета ежедневно гремит статьями и фельетонами, а отдел происшествий заполнен хроникой самых разнообразных преступлений: вместе с милыми рыболовами появляются в городе свежие запасы всякой контрабанды, среди которой морфий, опиум, кокаин и оружие занимают первые места. С Камчатки ведь!..
Против этого ведется энергичная борьба. Не толька милиция, но и комсомол и профсоюзы выделяют специальные дружины для приема сезонных гостей.
Однако никто не делает из этого никаких трагедий. Все знают, что в море плавает всякая рыба, что в новые страны устремляется, всегда, в первую очередь, элемент авантюрный и бесшабашный, и никто не преувеличивает значения этих сезонных событий.
Ни разу я не слышал, чтобы кто-нибудь в разговоре неосторожно впихнул этих пьяниц в такие скобки, где сидит кто-нибудь непьющий.
Но стоит потолкаться среди колонистов-евреев, когда вдруг там обнаружится подобный удалец!..
На станции Биракан Уссурийской дороги восемь евреев организовали артель по обжигу извести. Во главе этой артели стал некий переселенец по прозванию Иошка-Миллион.
Иошка обладал феноменальной физической силой: он взваливал на плечи десятипудовые мешки и гнул подковы. Он был прекрасным организатором и работником.
Все шло хорошо. У артели не было отбоя от заказов. Предвиделось безоблачное благополучие.
Усердные и трезвые труженики, не находившие приложения для своего труда в витебских местечках, нашли прочную и настоящую жизнь в Биробиджане.
Как вдруг в селе открылась лавка Госспирта. Это имело неожиданные последствия для артели. Из всех евреев пил один только Иошка-Миллион. Выпив, он опьянел; опьянев, он еще выпил. Он нашел себе сердечных друзей среди местных пьяниц и без передышки стал пропивать артельные деньги. Одного он не успел пропить – своей феноменальной силы. Пьяный Иошка оказался буен. Он крушил все, что попадалось под руку, и никто не решался подойти к нему. Члены артели спрятались в известковых пещерах. Милиция боялась показаться ему на глаза. С непривычки геркулес положительно взбесился от водки и кидался с ножом на окружающих.
И вот я слышал, как евреи-колонисты в Тихонькой многозначительно говорили по этому поводу:
– Н-наши еврейчики…
Это говорили убогие старые евреи, обремененные грыжами и нищетой; хилые, беспомощные люди, которые никогда не гнули подков и никогда не пили водки. Почему они считают Иошку-Миллиона своим и даже обобщают и говорят «наши» еврейчики? В какой мере он им «наш»? Разве они привыкли у себя, в голодающих местечках, часто видеть евреев-атлетов? Или им примелькался тип еврея-пьяницы, который безоглядно пропивает деньги и с ножом в руках наводит панику на окружающих? Думаю, что нет. А говорили они, между тем, с видом людей, которых похождения Иошки ничуть не удивляют. Они точно ничего иного и не ждали от «своих» евреев! С «их» евреями иначе и быть не могло!
Страх перед антисемитизмом все еще напряженно живет в еврее. Это он иногда заставляет евреев забегать вперед перед антисемитизмом и вкладывает в уста слова нелепых самоуничижений.
3. Взгляды Хаим-Мордки Пинтеля
Биробиджанский колонист Хаим-Мордко Пинтель, человек в брезентовом пальто и болотных сапогах, имеет свой взгляд на еврейский вопрос. Однажды, когда мы с ним тащились вторые сутки на телеге, прицепленной к трактору, и у меня с еще одним спутником зашел разговор на эту тему, гражданин Хаим-Мордко вставил свое замечание:
– А я вам говорю, что евреев уже нет.
Он сделал паузу.
– Вы не понимаете? Что такое еврей? Еврей– это, когда нет правожительства, когда городовой, когда погром, когда черта оседлости, когда то нельзя, а это не можно, когда так не позволено, а так запрещено… Во! Вот это еврей и вот это еврейский вопрос. А теперь, когда нет городового и нет погрома, и я имею такие права, как другой, так нет еврейского вопроса, и кончено, и чтобы вы таки знали…
Лейзер Фридман, еврей с кадыком и в пенснэ на сухом хрящеватом носу, ехавший с нами, был не согласен с этим взглядом.
– Ка-ак?! – воскликнул он. – В местечках сидит, может, миллион евреев, что они дохнут с голоду за кусок хлеба, так вы говорите, что нет еврейского вопроса?! Дай бог всем моим врагам такую большую болячку, какой большой еврейский вопрос еще есть после правожительства.
Гражданин Хаим-Мордко Пинтель вовразил:
– Это не еврейский вопрос, я вам говорю! Это вопрос за миллион бедняков, которые они бедняки, потому что они бывшие евреи. А возьмите дайте им работу, и уже кончено, и уже ша, и уже они опять не евреи.
Он пояснил на своем примере:
– Ось, скажем, я! Полгода тому назад я пропадал от голода, потому что я бывший еврей и жил в, местечке, а местечко теперь не имеет чем жить. Но вот я получил наряд на Биробиджан, и приехал сюда, и увидел, что здесь будет жизнь, и остался работать. И вот я запахал и засеял, и пока оно зреет, я работаю с конем, я кошу сено, я строю дом. Так я говорю – ша, постойте, я вам уже не бывший еврей! Которые еще остались, – мои братья, отец, знакомые, – так они пока пропадают, и они таки бывшие евреи, а я нет, я не бывший, я уже будущий… Ого!.. Еще как!
Лейзер Фридман не совсем понял последние слова. Он вытянул шею вперед и вопросительно взглянул на Хаим-Мордку. Тот пояснил:
– Когда я соберу урожай и построю хату, так я буду человеком.
На этом, впрочем, не останавливалась теория Хаим-Мордки.
– Я вам так скажу, – продолжал он, – евреев нет, еврейского вопроса нет, и это чтоб вы знали. Но что есть? Есть антасамиты. Это есть люди, которые не присматриваются до нас, бо они и так видят, что хотят видеть, и всегда они нам готовы сделать поперек, и нам они не простят того, что другому простят, и они хотят сделать нас опять евреями. Только они не успеют, холера им в бок!..
Предисловие в середине текста
Читатель ждал книги об евреях, но вот он уже пробрался через столько страниц и все читает про каких-то казаков, про охотников, про туземцев, про то, когда браконьеры стреляют изюбря, и почти ничего о евреях в тайге. Почему?
В марте 1928 года ЦИК Союза отвел для сплошной еврейской колонизации район на Дальнем Востоке, заключенный между Амуром и его притоками – Бирой и Биджаной: Биробиджан. § 5 постановления ЦИК гласит:
«При благоприятных результатах сплошного заселения означенного района трудящимися евреями иметь в виду возможность образования на территории указанного района еврейской национальной административно-территориальной единицы».
Это постановление ЦИК было откликом на все растущую потребность в земледельческих районах среди обломков разоренного местечка.
Евреи, осевшие на земле в Крыму и на Украине, успели зарекомендовать себя в качестве земледельцев. Новая жизнь на земле стала все больше и больше привлекать деклассированную и обездоленную еврейскую голытьбу. Эта голытьба осталась в бывшей «черте оседлости» без экономической базы.
Одновременно нарастает и другое явление в жизни СССР: становится вое более и более очевидной невозможность дальнейшего пустования нашего Дальнего Востока под боком у перенаселенных империалистических держав.
Постановление ЦИК Союза намечало коренное разрешение сразу обеих этих важных задач.
Что представляет собой этот Биробиджан?
Он начинается у ст. Облучье Уссурийской дороги и идет почти вплотную до Хабаровска.
Общая площадь – около 4 млн. га. Из них около 2 млн. лесной площади, около 70 тысяч неудобной земли и около 2 млн. земли, пригодной для сельского хозяйства.
Около 60 % площади, именно западная, юго-западная и северная части заняты горными массивами Малого Хингана и его отрогами, а также отрогами Буреинских гор. Остальная часть представляет собой равнину – Амурскую низменность.
Климат в Биробиджане – здоровый. Весна, лето и осень – как на Украине. Зимой мороз доходит до 23 градусов. Однако, район защищен горами с севера, востока и запада. Поэтому здесь нет ветров, и мороз мягкий, не тяжелый и переносится легко. Обильные осадки выпадают лишь в июле-августе – сразу за весь год, а зимы малоснежны.
В 1928 г. населения было здесь 30 тысяч. Основное – амурские казаки. Кроме них – украинцы, корейцы, китайцы и отсталые народы – тунгусы, гольды, орочи и т. д.
Воротами Биробиджана считается ст. Тихонькая Уссурийской дороги. Это в 170 км от Хабаровска, ближе на запад. У Тихонькой проходит Бира, здесь же начинается находящаяся в очень скверном состоянии грунтовая дорога, идущая до самого Амура, протяжением в 150 км.
Проходит через район еще и печально знаменитая Амурская колесуха, построенная во времена царизма руками политических каторжан. Она идет от села Волочаевки до села Чурки. Здесь она поворачивает на северо-запад, пересекает Малый Хингал у села Радде и выходит на Амур.
Большая часть мостов, переброшенных через реки и речки, к 1928 г. или погибли от лесных пожаров, или были сорваны и унесены ливнями.
Амур судоходен на всем своем протяжении. Доступна для судоходства и Большая Бира от Тихонькой до устья—130 км – но судоходства здесь нет[1]1
В 1931 г. открылось судоходство по Бире. В. Ф.
[Закрыть]. Река Биджана доступна только для плоскодонных суден, для сплава. Река Тунгуска, охватывающая район с севера и принимающая в себя целую систему диких и порожистых таежных речушек, судоходна на 70 км от впадения в Амур у Хабаровска до гольдяцких стойбищ.
Реки изобилуют рыбой. Ход кеты настолько значителен, что осенью она заполняет не только Амур на всем его двухтысячеверстном протяжении, но и все речки и речушки амурского бассейна переполняются рыбой.
Неисчислимые богатства Биробиджана видны простым глазом: они прежде всего заключаются в бесконечных лесных массивах.
Растут здесь драгоценные породы: дуб и кедр, и все виды хвойных, и черная береза, и дерево– бархат и т. п. Отсюда можно, при правильной эксплоатации, извлекать миллионы золота.
В лесах водится пушной зверь. Кроме медведя, кабана, косули, лося, изюбря, на которых ведется неорганизованная охота, главным образом, для мяса, край богат белкой. Заготовкой пушнины занимается большинство жителей горной части района.
Но еще большее богатство лежит в нетронутых недрах края.
В горах Малого Хингана залежи железной руды исчисляются, примерно, в 500 млн. тонн. Процент железа в руде достигает 70.
На реке Сутар работают семь золотых приисков.
Залежи графита исчисляются в 3 млн. 600 тыс. тонн.
В нескольких местах, в том числе и у самой железной дороги, отмечены выходы каменного угля.
Выходы известняков тянутся на 70 км вдоль железной дороги, а также на берегах Амура и Биджаны.
Вблизи ст. Биракан – курорт с горячими сернистыми источниками – Кульдур.
У ст. Лондоко и у Кульдура отмечены выходы мрамора.
В 1930 г. был присоединен к Биробиджану туземный Кур-Урмийский район, примыкающий к нему с севера. Этот район имеет площадь около 5 млн. га, а населения всего около 600 отсталых туземцев. Район представляет собой колоссальные лесные массивы, никем не эксплоатируемые.
Ничтожная кучка населения, забившегося где-то в тайге, не нарушает его пустынности.
Да и Биробиджан, в сущности, пустыня: его 30 тыс. жителей рассыпались на 240 населенных мест; в среднем приходится, значит, каких-нибудь 125 жителей на село. К тому же села эти охватывают район цепью, главным образом, вдоль Амура и по железной дороге. Цепь получается довольно жиденькая: Амур от Благовещенска до Хабаровска тянется на 1 000 км, из них, примерно, 600 км по биробиджанскому берегу. Да и железная дорога Уссурийская тянется по Биробиджану на 330 верст. Вот эти линии больших путей и заселены кое-как, а сердцевина края пустует. При старом режиме вдоль Амура сложилось несколько сравнительно больших станиц: Михайло-Семеновская—1 300 душ, Екатерино-Никольская– 2 000 душ. Тысячи три жителей есть и в городке Ин у железной дороги. Но таких больших центров в Биробиджане раз-два и обчелся. От Ина дальше в глубь страны идет пустыня, нетронутая глушь.
В известных кругах советской общественности, особенно, конечно, на так называемой «еврейской улице» биробиджанский план произвел огромное впечатление. Этому значительно содействовала еврейская печать. Биробиджан стали всячески расхваливать во всех отношениях и смыслах.
Были и другие голоса. Тов. Ю. Ларин, например, отдал свой авторитет противникам биробиджанского плана. В журнале «На аграрном фронте» (1929 г. № 3) и в своей книге «Евреи в СССР» он подвергает самую идею Биробиджана жестокой критике. Разоблачая неправильность в подходе к делу, обнаружившуюся уже с первых шагов, т. Ю. Ларин ставит под сомнение не только возможность создания в Биробиджане «еврейского государства», но и самую нужность Биробиджана для еврейской массы и возможность быстрого освоения этой страны.
Тов. Ю. Ларин пишет[2]2
«Евреи и антисемитизм в СССР». ГИЗ, 1929, стр. 183.
[Закрыть]:
«Общая площадь биробиджанского района, закрепленная за Комзетом в 1928 г., составляет около 4 млн. га. Однако земель, пригодных в течение предстоящего десятилетия для приступа к сельскому хозяйству, даже при условии некоторой мелиорации, там во много раз меньше. При царизме старым переселенческим управлением, после некоторых обследований, Биробиджан признан был вообще почти непригодным для земледельческой колонизации».
«Биробиджан – с его вечно мерзлой подпочвой, заболоченностью, гнусом, наводнениями, длительными сорокаградусными морозами, культурной оторванностью, расстоянием свыше тысячи верст от моря, неизбежной экстенсивностью хозяйства, коротким растительным периодом при неблагоприятном распределении осадков по временам года и т. д. – вряд ли может оказаться вполне подходящим местом для такого людского материала, как впервые вообще переходящие к земледелию горожане», – говорит т. Ларин далее.
Тов. Ларин находит, что в СССР через 10 лет «вообще не хватит еврейского людского бедняцкого материала для дальнейшего поселения и в Биробиджане и где бы то ни было вообще». Указывая на «нездоровую шумиху, какая была поднята вокруг Биробиджана», тов. Ю. Ларин подчеркивает, что к заселению Биробиджана многие подошли не как к хозяйственной, а как к национальной задаче, – повторилась, в советских условиях, своего рода история с Угандой[3]3
Уганда – большая, слабо населенная, дикая страна в отдаленных частях Африки. В 1904 г. еврейская буржуазия подняла большой шум вокруг мысли о переселении туда еврейской бедноты, но кроме шумихи ничего из этого не вышло.
[Закрыть].
«В 1928 г., – говорит он, – о Биробиджане в еврейских городах и местечках СССР делалось много докладов, писались статьи в еврейских газетах, распространялись иногда даже утопии о поселении в Биробиджане миллиона евреев и т. д. Доходило иногда до неуместной шумливой рекламы некоторых газетных корреспондентов, когда на практике дела шли плохо. На местах «оставить невыполненным наряд на Биробиджан казалось многим недопустимым, так как заселение его было понято чуть не как национальная обязанность советских евреев. Священной самоцелью сделалось обязательное заселение Биробиджана кем бы то ни было. Это есть своего рода сионизм наизнанку, поставивший Биробиджан вместо Палестины».
«Несомненно, – признает т. Ларин, – Биробиджан может постепенно дать обеспеченное существование большому количеству земледельческих переселенцев. Переселение туда, подготовка территории и устройство там хозяйства будет стоить, правда, значительно дороже, чем на Украине или в Крыму. Но поскольку государству желательно заселение этого края по общеполитическим соображениям, оно придет в этом отношении на помощь любым трудовым переселенцам на Дальний Восток, в том числе и еврейским в Биробиджан. Конечно, для этого переселение туда надо ставить не в порядке инсценировки на курьерских националистического блефа, а по-деловому: до приезда каждого переселенца год поработать над подготовкой для него площади, дома, пашни (подъем целины), дорог, медицинской помощи; разворачивать заселение района с той медлительностью, какая соответствует имеющимся средствам, а не пытаться «на грош купить пятаков»; подходить к организации работ, исходя из соображений хозяйственной целесообразности, а не стремления сразу охватывать много пунктов для видимости охвата района и т. д. Все эти ошибки делались».
Выбор Биробиджана «был продиктован увлечениями еврейских работников, стремлением к «большей территории», а не серьезным изучением края, подобным, например, большой длительной экспедиции по изучению Приазовских плавней, богато обставленной научными силами и средствами. Над изучением небольшой площади плавней работали десятки научных работников более года, затрачено было более двухсот тысяч рублей. А выделению Биробиджана, площадь которого в несколько десятков раз больше, предшествовали кратковременный проезд края несколькими человеками и расход на изучение в несколько раз меньший».
В № 15 журнала «Трибуна» за 1929 г. были напечатаны ответы т. Ю. Ларину.
Заведующий бирским опытным полем агроном Л. Иозефович пишет:
«Биробиджанский район, представляющий площадь около 4 миллионов га, в значительной своей части не исследован (главным образом, таежно-горная часть и верховья речных систем). Нет сомнения, что освоение таежно-горных пространств в свое время будет связано с известными трудностями и, возможно, сложными мелиорациями. Но многочисленные площади, представляющие плоскостные междувалистые пространства, а также пологие склоны увалов вполне пригодны для земледелия или без всяких гидро-технических мелиораций, или потребуют только раскорчевки. Для освоения всех этих земель ни осушительных, ни тем более оросительных магистралей не требуется. В некоторых случаях проводят самые обыкновенные нагорные канавы для отвода стекающей с сопок воды.
Заболоченности в том виде, как она представлена в Полесье или даже на Приазовских плавнях, здесь не имеется. Как самый процесс заболачивания, так и ликвидация его здесь неизмеримо проще, чем на тросниковых Приазовских плавнях.
Далее, о «вечно мерзлой подпочве». В землях, осваиваемых в настоящее время под полеводство, не встречалось еще ни одного участка, где бы имелась отрицательная температура на какой-либо глубине почвы непрерывно в течение всего лета».
«Крестьяне Биробиджанского района, – говорит Л. Иозефович далее, – с их примитивной техникой земледелия в самые плохие годы получали урожаи, не меньшие обычных средних европейских. 1928 сельскохозяйственный год был крайне неблагоприятен как для крымских земледельцев, так и для биробиджанских; для первых благодаря засухе, для вторых благодаря сильно мочливому лету (засух здесь не бывает). Однако в то время, когда в Крыму крестьяне не собрали никакого урожая, здешние крестьяне собирали до 0,5 тонны пшеницы с гектара. Здесь понятия не имеют о сплошных неурожаях, к чему так привыкли на юге и юго-востоке.
«Неблагоприятное распределение осадков» не есть специфическое свойство Биробиджана. Еще более неблагоприятно оно на Украине, в Крыму, Нижнем Поволжье и других хлебородных районах, так как в этих районах неблагоприятность их вызывается еще и недостатком осадков, здесь же общее годовое количество осадков вполне достаточно для нормальных урожаев.
О «краткости вегетационного периода» и сумме тепла также можно не беспокоиться, если здесь вполне вызревают такие культуры, как рис, соя, клещевина и др.
Несколько слов о «неизбежной экстенсивности хозяйства». Такое заключение основано на недоразумении. В районе, где вполне возможна культура риса, сои, клещевины, сахарной свеклы и других трудоемких культур, можно с полным правом сомневаться за судьбу пшеницы, хотя она и дает здесь хорошие урожаи. Примером высоко интенсивных форм хозяйства могут служить имеющиеся здесь корейские хозяйства.
Вопрос о «гнусе» в Биробиджане, выделяемый очень часто чуть ли не как специфическое местное бедствие, мне, видавшему и испытавшему «гнус» Приазовских плавней, кажется значительно утрированным. Как там, так и здесь единственный радикальный способ бесследного уничтожения «гнуса» – это ежегодное увеличение площади распашки и освоения земель. К положительным сторонам биробиджанского «гнуса» надо отнести то, что он не сопровождается малярией, чего нельзя сказать про «гнус» Приазовских плавней».
Директор Дальне-Восточного краевого научно-исследовательского института проф. В. М. Савич также высказывается по поводу вопросов, затронутых т. Ю. Лариным. Он говорит:
«Ссылка Ю. Ларина на то, что старое Переселенческое управление признало Биробиджан вообще непригодным для земледельческой колонизации, не может теперь иметь значения, так как в довоенный период охватывались наиболее легко освояемые территории, имелись еще большие просторы, а сама колонизация в значительной степени базировалась на так называемых интендантских культурах.
Картина сельского хозяйства Д. В. в последнем десятилетии резко изменилась в сторону развития риса и манджурских культур, и, например, многие земли, считавшиеся пригодными только для сенокошения, оказались ценнейшими для рисосеяния.
Среди пригодных для земледелия частей Дальнего Востока Биробиджан занимает несомненно одно из лучших мест, и по своим природным условиям он во многих отношениях напоминает некоторые (далеко не безнадежные) части С. Америки. Между прочим, по целому ряду естественно-исторических условий у Биробиджана есть сходство с ближайшими к Нью-Йорку районами, которые дали приют более чем миллионному еврейскому (и в некоторой части земледельческому) населению.
Конечно, явления наводнений, о которых упоминает Ю. Ларин, весьма типичны для муссонного климата Д. Востока. Но разве их нет и в соседней стране – Японии – с ее культурными долинами или в других горных странах?
Дальний Восток и, в частности, Биробиджан, несмотря на зимние морозы, летний гнус и пр. ужасы, имеет и целый ряд преимуществ. Здешнее земледелие почти не знает засухи, здесь возможны ценные культуры: табака, риса и пр., которые удаются далеко не везде. Здесь кореец или китаец на небольшом клочке земли – около гектара—.кормит всю свою семью.
Итак, агрономическая ценность Биробиджана и Д. Востока вообще выявлена жизнью, и нет вопроса – гиблое ли это место или желанный простор новой земли. Весь вопрос сводится только к тому: кто будет обладателем этих несомненно ценных земель?
Решая этот вопрос, в частности, по отношению к еврейскому населению, которое ранее было чуждо земледелию, мы подойдем к нему с той осторожностью, как и Ю. Ларин.
Нельзя скрывать того, что Д. Восток при всех его прекрасных задатках и колоссальных возможностях использования производительных сил является (как когда-то являлась Америка) страной, трудной для освоения.
Разве не такую же дикую и во многих случаях заболоченную страну, покрытую лесами, встретили пионеры заселения Америки? Но туда шел исключительно предприимчивый и сильный элемент, который вел упорную борьбу с природой, и тем не менее С. Америка долго была бедной землей, несмотря на то, что туда переселялся часто опытный европейский земледелец.
Вместе с Ю. Лариным мы считаем, что без крупных вложений на мелиоративные, дорожные и пр. работы Биробиджан и вообще Д. Восток не могут дать приют массовому еврейскому населению».
Однако покуда длились разногласия, заселение Биробиджана евреями было все-таки начато. Разрешить спор предложено было беспристрастному третьему лицу, которое именуется жизнью, она же – история. Вот кто должен был ответить на бесчисленное множество вопросов, из которых два основных можно в общем формулировать так:
1) Годится ли Биробиджан вообще для заселения? Будет ли его девственная природа так же неподатлива в отношении новых колонизаторов, как она была доселе в отношении прежних?
2) Годятся ли для заселения Биробиджана городские жители и, в частности или в особенности, – евреи?
В какой же мере могут быть экспертами по этим вопросам все те люди, которых автор вывел на первых страницах книги? Что могут сказать отсталые туземцы или культурно дефективные казаки по вопросу о перспективах еврейской колонизации в Биробиджане? Зачем автор позвал сюда Богатова, Максимова, Мишку-Муху, деда Онисима и стольких других? При чем они здесь?
Но автор их и не звал. Они пришли сами – и по очень важному делу. Они знают, что автор– журналист, что он обращается не к художественным эмоциям, а к общественному мнению с непосредственными организационными задачами, и в такой момент, Когда кто-то, – им безразлично кто, – собирается заводить в их тайге новую жизнь. Они очень рады. Они уже слыхали, что на Дальнем Западе появились новые люди, которые умеют делать трудные дела. Поэтому, как местные старожилы, они и хотят сказать им несколько слов.
Автор считает, что эти несколько слов должны быть учтены во всякой работе о Биробиджане.
История нашего Дальнего Востока, в отличие от истории мидян, не знает никаких туманов. Истоки бытия крупных человеческих коллективов теряются в глубине веков. В них теперь трудно разобраться, их трудно регулировать.
Но молодой Дальний Восток не имеет вчерашнего дня. Никаких туманов. Все ясно, как стеклышко. В это стеклышко еще видно, как сложился Дальний Восток. Рядом с каждым явлением быта здесь еще видна организационная причина этого явления. Еще живы свидетели того, как строили Дальний Восток, ибо Дальний Восток непостроился стихийно, неизвестно как, когда и почему, – а его искусственно начали строить 70 лет тому назад.
Все ясно, как стеклышко. И более всего ясна тяжелая бездарность буржуазно-помещичьего государства и людей, которые строили Дальний Восток. Они строили на гладком месте. Природа честно внесла свой пай – неисчислимые богатства. Здесь давно можно было создать громадное культурное государство, но не создано ничего.
Почему? Как это случилось? Кто в этом виноват? Кто виноват в том, что этот богатый край почти пустынен и что немногие люди, которые там живут, почти ничего не значат на счетах культурного человечества?
В «Русской Старине» за 1879 г. напечатаны интересные воспоминания Венюкова о первых попытках заселить Амур в 1858 г. Автор служил при Муравьеве-Амурском, много видел и много знает. Он с горечью указывает основную причину неудачи колонизации: государство не позаботилась ни об устройстве дорог, ни об установлении регулярной, связи между поселками. «Вот почему амурская колонизация не вышла такой, как можно было бы ожидать по естественным богатствам страны», – говорит Венюков и прибавляет – «государство основывало колонии; и с первого же дня разоряло их своей неорганизованностью».