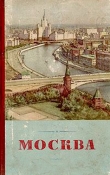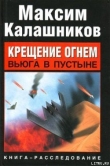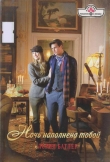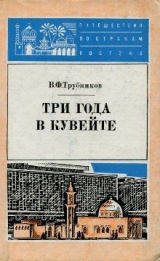
Текст книги "Три года в Кувейте"
Автор книги: Виктор Трубников
Жанры:
Путешествия и география
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 19 страниц)
Подобным образом в рамадан поступают многие кувейтцы, посещая иностранные посольства и миссии или европейцев, с которыми они хорошо знакомы и у которых всегда есть что выпить и закусить. Но кувейтцы старшего поколения себе этого не разрешают и строго соблюдают пост, а также другие религиозные мусульманские праздники.
Я долгое время лечил мать Бержеса, у которой болели ноги, и это дало мне возможность часто бывать у них дома и поближе познакомиться со всей семьей, а также со многими именитыми кувейтцами – членами парламента, министрами, в том числе с министром торговли и промышленности Халедом аль-Адсани. В то же время, интересуясь по долгу службы моими нуждами и устройством быта, особенно на первых порах моего пребывания в Кувейте, Бержес часто посещал меня на дому. Все это позволило нам лучше узнать друг друга и расширить взаимные познания о наших странах. В 1970 г. я пригласил его к себе на семейный праздник и там представил его нашему тогдашнему послу Н. К. Тупицыну и руководящему составу посольства. Возникший у них интерес друг к другу послужил причиной взаимных визитов. Н. К. Тупицын пригласил Бержеса посетить посольство, а последний пригласил посла и ближайших его помощников к себе на загородную виллу, расположенную на берегу Персидского залива, в Эль-Фанисе. В последующем эти встречи стали носить постоянный деловой характер; в частности, Н. К. Туиицын и Бержес обсуждали перспективы дальнейшего сотрудничества СССР и Кувейта в области здравоохранения.
Из всех встреч особенно запомнился наш совместный выезд с Н. К. Тупицыным в конце февраля 1972 г. в пустыню, в бедуинский тент семьи аль-Бержесов, где нас обильно угощали арабской кухней, а также посещение в дни рамадана (в конце октября того же года) большого дома Бержеса в Эш-Шувайхе – дома, где, кстати сказать, только спален насчитывалось 14. Во время последнего визита в дивании аль-Бержесов собралось более 20 человек: бизнесмены, работники министерства иностранных дел Кувейта, члены парламента, министры – всё кувейтцы, с которыми у Н. К. Тупицына состоялась более чем полуторачасовая интересная беседа по различным вопросам, касающимся внешней политики СССР и Кувейта и положения внутри нашей страны.
Словом, о Бержесе Хамуде аль-Бержесе у меня сложилось самое хорошее впечатление, и я благодарен ему за всестороннюю помощь, оказанную мне, советскому специалисту, особенно в моем становлении как работника ортопедического госпиталя.
Уже через день после приезда в Кувейт я приступил к работе в качестве консультанта в ортопедическом госпитале. Этот госпиталь начал функционировать, как таковой, с августа 1962 г. (раньше в его здании размещался военный госпиталь для английских военнослужащих в Кувейте, а затем, с 1954 г., его помещение было отведено под филиал для хирургических и терапевтических больных старейшего в стране государственного Эмири-госпиталя).
Во время моего пребывания в Кувейте госпиталем руководили: директор – сирийский врач Маамун аль-Махайни, работавший здесь с мая 1972 г., заместитель директора по административным вопросам – кувейтец Юсиф ас-Сакуби, его помощник, курирующий хозяйственные и финансовые вопросы, – кувейтец Рашид ас-Салайтин и секретарь госпиталя – также кувейтец, Абд аль-Керим аль-Авади.
Структура ортопедического госпиталя была следующая: дирекция, отделения стационара, операционные, лаборатория, клиники, физиотерапевтическое отделение, рентгенологическое отделение, мастерская протезно-ортопедических изделий, регистратура и отдел справок, архив и отделение полицейского надзора и охраны министерства внутренних дел.
В стационаре было два отделения: ортопедо-травматологическое – на 200 коек и глазное – на 80 коек. Первым отделением руководил египтянин Махмуд Камель аль-Буз, вторым – ливанец Тауфик ат-Турк. Последний работал в Кувейте 20 лет. Он координировал деятельность десяти врачей, работавших в отделении для больных с травмами и заболеваниями глаз. Это отделение было размещено в госпитале временно. В перспективе оно должно было быть выведено из ортопедического госпиталя в отдельное помещение, которое планировалось построить при госпитале, носящем название правящей династии – Ас-Сабах-госпиталь; за счет освободившейся площади ортопедический госпиталь намечалось расширить до 350–400 коек.
200 коек ортопедического отделения госпиталя размещались в пяти больших палатах. (Палатами здесь называли большие многокомнатные помещения, полностью занимавшие одно перпендикулярно расположенное к основному коридору крыло здания госпиталя протяженностью более 500 м.) По сути дела, это были самостоятельные отделения, насчитывавшие по 60–70 коек. Каждая такая палата имела свой средний и младший обслуживающий персонал, шесть – восемь комнат для больных, перевязочную, помещения для раздачи пищи, материальную кладовую, бельевую и общий кабинет для врачей и среднего медперсонала.
Дело было поставлено так, что врачи и средний медперсонал не мешали друг другу в работе. Рабочий день был спланирован у каждой группы сотрудников госпиталя максимально рационально. Когда врачи занимались в ординаторской, средний медперсонал был занят больными. Они приводили в порядок гипсовые повязки, выполняли назначения врачей, тяжело больным для профилактики пролежней протирали камфарным спиртом спины, перестилали постели, делали перевязки, приводили в порядок вытяжение, шины и т. д. Когда врачи были заняты на конференции, на разборе больных, в операционной, на обходе или в перевязочной и т. д., средний медперсонал работал в ординаторской, сортировал и подшивал анализы к историям болезни, отмечал назначения врачей и температуру в температурных листах, выписывал по назначению врача ордера на рентгеновские снимки, раскладывал по конвертам уже сделанные рентгеновские снимки и пр.
В это же время санитары производили очередную уборку помещения, где лежали больные. Создавалось хорошее впечатление плановости. Не было сутолоки, и никто не мешал друг другу в работе. Характерной чертой среднего медперсонала можно назвать высокую медицинскую грамотность, инициативность, граничившую с чрезмерной самостоятельностью. Правда, последнее обстоятельство оправдывалось хорошим знанием дела и высокими профессиональными навыками. Так, министр общественного здоровья Абд ар-Раззак Мишари аль-Адвани в беседе с корреспондентами газет и журналов, опубликованной еженедельником «Ар-Раид» в феврале 1973 г., отметил, в частности, высокую подготовку медицинских сестер и среднего медицинского технического персонала госпиталей. Почти все они имели стаж практической работы не менее десяти лет.
В ортопедическом госпитале, как и в других госпиталях Эль-Кувейта, медсестрами (в отделениях для женщин) и медбратьями (в отделениях для мужчин) работали лица, закончившие средние медицинские учреждения, получившие хорошую специальную подготовку, в основном в Англии, и приехавшие работать в Кувейт из таких стран, как Индия, Египет, Ливан, Палестина и т. д. Характерной чертой для всех госпиталей было разделение женского и мужского труда среднего медперсонала. Женщины работали на женской половине, мужчины – на мужской. Исключение составляли только врачи. Правда, почти все они – мужчины, за исключением нескольких врачей-анестезиологов. Женщины-врачи работали и в физиотерапевтическом центре Ас-Сабах-госпиталя, где в основном занимались детьми, страдающими последствиями полиомиелита. Руководила этим центром также женщина-врач египтянка Зейнаб аль-Бендери.
Женский и мужской средний медперсонал сотрудничал совместно только в операционных. Правда, с начала 70-х годов администрации ортопедического и других госпиталей Эль-Кувейта стали отходить от этого правила, и в палатах, за исключением женских, все чаще встречались смешанные группы среднего медицинского персонала.
В госпитале было два операционных блока (по числу отделений стационара). Большим из них являлся блок ортопедо-травматологического отделения. В нем работали 16 операционных сестер. Руководителем его был Вартан Саркис (но о нем речь пойдет несколько ниже).
Операционная ортопедического отделения занимала отдельное крыло здания в новом корпусе, где размещались две операционные комнаты, две стерилизационные, моечная, комната для среднего медперсонала, две раздевалки, а также комната отдыха для врачей. Здесь перед операциями и в промежутках между ними, пока готовили очередного больного, врачи выпивали чашечку крепкого черного кофе, выкуривали сигарету, делились впечатлениями о сделанной операции и обменивались мнениями о предстоящей работе. Нередко в такой непринужденной беседе рождались полезные, перспективные мысли, ценные хирургические предложения.
Что же было характерным для работы в операционной? В первую очередь высокая степень технической оснащенности, начиная от современных высокоэффективных аппаратов для дачи наркоза, газовых стерилизаторов-автоматов, новейших ортопедических операционных столов, аппаратов для репозиции фрагментов при переломах костей, различных электроприводов для обработки костей, технических новинок для фиксации фрагментов костей, портативной передвижной рентгеновской аппаратуры и кончая стерильными пластмассовыми шприцами в фабричной упаковке для одноразовой инъекции. Все оборудование и оснащение импортировалось в основном из Англии, Японии, ФРГ, в меньшей степени из Италии и США. Все операции на опорно-двигательном аппарате, за исключением позвоночника, таза, плечевого и тазобедренного суставов, проводились под автоматическим пневматическим жгутом-манжеткой. После операции, как правило, накладывали тугой эластичный бинт или гипсовую повязку, и только затем снимали жгут. Кровопотеря во время операции была минимальной. Гипсовую повязку, какой бы она ни была, большой или маленькой, накладывали тут же, на операционном столе. Различные приспособления позволяли быстро уложить больного в нужном положении и наложить гипсовую повязку. Опыта применения порошкообразного гипса в госпитале не было. Широко применялись изготовленные в ФРГ и Англии в фабричных условиях нагипсованные бинты и лонгеты в вощеной бумажной упаковке. Эта упаковка снимается, и бинт опускается в теплую воду. Он очень хорошо и быстро промокает. Гипс напоминает густую белую пасту. Он затвердевает в течение одной-полутора минут. Влажная уборка после наложения гипсовой повязки занимает считанные минуты, и можно приступать к следующей операции.

Морской клуб и башня с часами в Эш-Шувайхе
Другая характерная особенность работы в операционной ортопедического госпиталя, как, впрочем, и в операционных других госпиталей хирургического профиля, состояла в том, что операции чаще всего проводились при общем обезболивании. Проводниковая и местная анестезии почти не применялись. Смена гипсовой повязки после операции и коррекции деформации производились также в операционной и, как правило, под наркозом, особенно если дело касалось детей.
Ходовые гипсовые работы проводились на месте, в палатах, у кровати больного, или в перевязочной. Специальных гипсовых комнат в палатах не было. Зал для гипсовых работ размещался в клинике, где и накладывали все виды повязок. Врачи, за редким исключением, участия в наложении гипсовой повязки не принимали, что, на мой взгляд, было существенным упущением в лечебной работе.
Лабораторный сектор вели четыре техника-лаборанта во главе с заведующим кувейтцем Абдаллой Маджидом. Сектор непосредственно подчинялся центральной лаборатории, базировавшейся в Ас-Сабах-госпитале. Заведовала центральной лабораторией кувейтянка Наджиба аль-Мулла. Лабораторный сектор обеспечивал всеми клиническими анализами ортоледо-травматологических и глазных больных как клиники, так и стационара. Наиболее сложные анализы поступали в лабораторию Ас-Сабах-госпиталя, но это не вызывало каких-либо дополнительных трудностей для больных или врачей. Кстати, и вся биопсия (исследование под микроскопом удаленных при операции кусочков ткани) отправлялась также в Ас-Сабах-госпиталь, так как своей патоморфологической лаборатории в ортопедическом госпитале не было Кувейтский ортопедический госпиталь, в конце 1972 г. переименованный по названию района, где он расположен, в Сулейбихат-госпиталь, включал две клиники: для ортопедо-травматологических больных и для больных с травмами и заболеваниями глаз. Первая была расположена в главном корпусе госпиталя, вторая вынесена в отдельное небольшое здание, построенное на обширной территории госпиталя. Работе ортопедо-травматологической клиники, представляющей особый интерес, будет посвящен специальный раздел.
В физиотерапевтическом отделении госпиталя, расположенном в главном корпусе, лечились в основном стационарные и амбулаторные больные с повреждениями и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. В отделении работали шесть физиотерапевтов во главе с пакистанцем Атиком Ахмедом Фаруком, получившим специальное образование в Англии. Оно было оснащено несколькими хорошо оборудованными залами, всей необходимой аппаратурой для различных видов массажа и разработки движений в суставах конечностей, для тепловых, электрических и других физиотерапевтических процедур, большими металлическими ваннами-бассейнами для подводного массажа, лечебной физкультуры и горизонтально-наклонного вытяжения и пр. В административном плане это отделение находилось в непосредственном подчинении ортопедо-травматологического отделения госпиталя, в методическом – под контролем физиотерапевтического центра Ас-Сабах-госпиталя.
Работа рентгенологического кабинета протекала под контролем и руководством одного из наиболее квалифицированных рентгенологов Кувейта – египтянки Сурайи Абу Гариб. Она долгое время была шефом врачей-рентгенологов Эль-Кувейта, но потом постепенно отошла от административной работы и занялась только практической деятельностью. В рентгенологическом отделении работали восемь рентгеновских техников. Двое из них – мужчина Али Сулейман Адасани и женщина Суад Абдалла аль-Укайян – кувейтцы. Адасани, как старший техник, отвечал за бесперебойную круглосуточную работу своих коллег. Врач Сурайя к организационной деятельности рентгенологического кабинета отношения не имела. В течение рабочего дня она просматривала готовые рентгеновские снимки и диктовала свои заключения секретарю, который тут же печатал их на машинке. Заключения вместе с рентгенограммами отправлялись в архив. На следующий день после рентгена или в тот же день, если этого требовали интересы больного, лечащий врач мог познакомиться с письменным заключением специалиста-рентгенолога.
Проявление рентгеновских снимков, промывка и сушка их осуществлялись автоматически специальной закрытой установкой системы «Кодак». Кассета с отснятой пленкой помещалась в двустворчатую нишу – окно, ведущее в затемненную комнату. Лаборант извлекал пленку и закладывал ее в автоматический аппарат, который менее чем за минуту выдавал готовый сухой снимок в специальную смотровую комнату. Здесь рентгеновские техники сортировали снимки по номерам и просматривали их. Если качество снимков удовлетворяло необходимым требованиям, их немедленно отправляли либо к лечащему врачу, либо на заключение врача-рентгенолога. В общем работа рентгенологического кабинета, несмотря на большую загрузку, оставляла хорошее впечатление.
Мастерские по изготовлению протезов, различных ортопедических аппаратов и специальной обуви располагались в отдельном корпусе госпиталя. Заведовал мастерскими специалист-протезист, закончивший специальный колледж в Лондоне и периодически совершенствовавший свою квалификацию в Англии, – кувейтец Ибрагим аль-Аттар. Он хорошо знал свое дело, и врачи нередко, прежде чем приступить к ампутации конечности или сделать операцию на культе, советовались с ним. Такое сотрудничество специалиста по протезно-ортопедическим изделиям и врача-ортопеда очень благотворно и полезно для больного.
Эти мастерские оснащены современным оборудованием и аппаратурой, полуфабрикатами, различными пластмассами, кожей и кожзаменителями, поставляемыми из Англии. Хорошее техническое состояние протезно-ортопедических мастерских и наличие хорошо подготовленных протезных техников давали госпиталю возможность снабжать своими изделиями больных не только из Кувейта, но также из Саудовской Аравии, Ирака, Сирии, Иордании и эмиратов Персидского залива.
Аптекой госпиталя, расположенной в главном корпусе, заведовал кувейтец-фармаколог Мухаммед Маттар. Ему помогали четыре ассистента. Интересно, что работавшие в аптеке специалисты почти ничего не готовили сами. Все медикаменты, растворы, включая физиологический раствор и даже дистиллированную воду, они получали в готовом расфасованном виде из центрального аптечного управления, которое находилось на территории Ас-Сабах-госпиталя. В обязанность аптечных работников входила проверка правильности выписанной дозы того или иного лекарственного вещества, особенно сильнодействующего, и выдача его амбулаторному больному, а также отпуск медикаментов, перевязочного материала и прочего различным отделениям и отделам госпиталя.
Здесь уместно отметить, что министерство общественного здоровья уделяло серьезное внимание подготовке среднего медперсонала. В 1970–1971 гг. на базе Ас-Сабах-госпиталя был создан центр по подготовке рентгеновских техников, лаборантов и помощников (ассистентов) фармацевтов. Центр этот не только обеспечивал кадрами указанных специальностей лечебные учреждения Кувейта, но и, так же как мастерские протезно-ортопедических изделий, готовил специалистов для всей территории Залива. Важность разносторонней помощи эмиратам Персидского залива подчеркивала, в частности, газета «Ахбар Эль-Кувейт» 26 декабря 1970 г. Содействие Кувейта эмиратам в области здравоохранения, просвещения, а также другие виды помощи из года в год возрастали и способствовали укреплению традиционной арабской дружбы между Кувейтом и другими молодыми независимыми арабскими государствами.
В работе регистратуры и отдела оправок ортопедического госпиталя ничего примечательного нет. Планировка и оснащение их были продуманы хорошо. Возглавлял отдел кувейтец Хаджи Джасем.
Отделение полицейского надзора министерства внутренних дел обеспечивало порядок в госпитале и круглосуточную его охрану. Следственный отдел занимался оформлением соответствующих документов;в случаях, когда привозили потерпевших в результате автомобильных катастроф. В его функцию входило также разбирательство жалоб больных-кувейтцев и их родственников на врачей или обслуживающий медицинский персонал. Подобные разбирательства, как правило, заканчивались в пользу кувейтцев.
Приведу один характерный случай, правда, не разбирательства, а отношения полицейских властей к коренным жителям, который произошел в первый год моей работы в Кувейте. Однажды меня, как ответственного дежурного по двум госпиталям, ортопедическому и Ас-Сабах-госпиталю, пригласили в последний для консультации одного молодого кувейтца из очень влиятельной семьи. Осмотрев его, я установил тяжелые повреждения головы, грудной клетки и правой ноги – перелом бедра и обеих костей голени. Больной был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Периодически его рвало. Я, разумеется, записал все это в историю болезни и поставил под записью свою подпись. Больной был тяжелый, и утром я заехал посмотреть его еще раз. К моему удивлению, в истории болезни я обнаружил полицейский протокол, где было записано, что проведенная экспертиза следов алкоголя в крови у больного не обнаружила. Оказывается, именитые родственники позаботились о том, чтобы обезопасить больного от возможных осложнений, вызванных моей записью в истории болезни. А дело заключалось в следующем: управляя машиной в нетрезвом состоянии, что было зафиксировано в полицейском акте дорожного происшествия под деликатным названием «интоксикация», он на большой скорости врезался в стоявшую автомашину, убил двух ее пассажиров, а шофера тяжело ранил.
Кроме перечисленных отделов в ортопедическом госпитале находились канцелярия, бухгалтерия и много подсобных помещений, где размещались технические службы, К числу их относились, в частности, мощные установки для нагнетания воды в водораспределительную автономную систему, электроподстанция, большой бойлерный цех для подогрева воды с помощью электроэнергии, станция аварийного электрообеспечения, хорошо оборудованный автоматический прачечный комбинат и т. д.
В общем госпиталь представлял собой вполне современное специализированное лечебное учреждение с большим и сложным хозяйством, а по степени подготовленности кадров врачей и оказания квалифицированной ортопедо-травматологической помощи он – одно из лучших лечебных учреждений столицы, а также специализированных госпиталей на всем Ближнем Востоке. Однако в его работе, по моему мнению, имелись и недостатки.
Так, на мой взгляд, его работу осложняло отсутствие патологоанатомического отделения по исследованию биотического материала (последнее, как упоминалось, находится в Ас-Сабах-госпитале, куда и направлялась вся биопсия), а также невозможность из-за религиозных предрассудков вскрывать умерших, что снижало эффективность лечебной работы. Работе мешало и отсутствие преемственности среди дежурных врачей. Закончив суточное дежурство, например, врач уходил на свой участок работы, не информируя врачей и заведующих отделениями о том, что им было сделано на дежурстве, каких пациентов он стационаров ал и почему, каково состояние здоровья послеоперационных больных. Врачи, придя на работу, должны были разбираться во всем этом сами. Пятиминуток в госпитале не проводили. Не было строгого распределения больных по отделениям, хотя они номенклатурно и существовали. В одной комнате-палате больных могли курировать три-четыре ординатора из разных отделений. Отношение к больному оставляло желать лучшего. Сделать перевязку пациенту или приехать вечером посмотреть тяжелого послеоперационного больного здесь считалось зазорным для врача. Больных врачи не выхаживали, это было уделом среднего медперсонала. Последнее, видимо, объяснялось тем, что врачи, работавшие здесь по контрактам, в подавляющем большинстве были некувейтцы. В этом отношении я не следовал установившимся традициям и с первых дней работы в госпитале постепенно начал внедрять наше, советское отношение к больному, что вызвало большую тягу больных к «русскому профессору», положительную реакцию руководства ортопедического госпиталя и министерства и… некоторое удивление и настороженность местных врачей. Впрочем, вскоре чувство удивления сменилось доброжелательным отношением ко мне, и, к обоюдному удовлетворению, на вечерних обходах мы стали встречаться и с другими заведующими отделений. Опыт все-таки они переняли.
Коллектив ортопедического госпиталя, его администрация и врачи вначале встретили меня не только с большим интересом, но и с некоторой настороженностью. Это чувство преодолевалось медленно – до тех пор, пока мы не узнали друг друга поближе, не увидели, кто на что способен, каким диапазоном оперативных вмешательств и консервативных методик владеет каждый из нас, насколько сильна теоретическая подготовка и т. д. Оказалось, что я еще недостаточно хорошо знал язык, и поэтому трудность преодоления языкового барьера и скованность мешали мне широко контактировать с людьми. Все это, естественно, угнетало меня на первых порах. Контакты с врачами и больными стали развиваться успешнее лишь после форсированных занятий английским языком уже здесь, на месте.
Другое дело – моя профессиональная подготовка. Хорошая школа, которую я прошел в харьковском институте им. М. И. Ситенко, позволила мне начать хирургическую деятельность буквально с ходу. Признанию меня как специалиста способствовали также те врачебные и, главное, общечеловеческие качества, которые мне привил мой учитель член-корреспондент Академии медицинских наук СССР, заслуженный деятель науки профессор Н. П. Новаченко. Будучи широкого образованным человеком, большим общественным деятелем, хорошим организатором, администратором и отличным специалистом, он сумел передать мне главное – увлеченность своим делом, воспитал во мне профессиональные навыки, преданность и честное отношение к труду, к жизни вообще. Может быть, эта самооценка покажется не очень скромной, но мне думается, что командировка в Кувейт была в какой-то мере проверкой и моих личных качеств, воспитанных во мне моим учителем.
Помнится мой первый операционный день в кувейтском госпитале. Это произошло уже через шесть дней после начала моей работы в нем. Мне предстояло сделать четыре операции, две из них сложные. Посмотреть, как оперирует советский специалист, пришло много врачей. Но пришли они вроде бы и не специально. Каждый нашел себе дело в операционной. Одному надо было познакомиться со списком операций на следующий день, другому – с новым полуавтоматическим портативным газовым стерилизатором, третьему… я уже даже не помню, зачем он пришел, а четвертый просто зашел выпить чашечку кофе, поговорить о новостях. И так набралась шесть-семь человек.
Обыкновенно перелом шейки бедренной кости у пожилых людей у нас, в Советском Союзе, а также в других странах, в том числе и в Кувейте, оперируют при наличии двух передвижных рентгеновских аппаратов, контролирующих правильность сопоставления фрагментов поврежденной кости в двух проекциях, и специальной аппаратуры, определяющей направление проводников, вводимых в шейку бедренной кости. Только после рентгенологической проверки правильности сопоставления фрагментов и положения проводника последний используют для введения специального короткого трехлопастного гвоздя, которым и скрепляют шейку бедра. Такая операция длится в среднем час, а иногда и дольше, так как обычно приходится делать по нескольку снимков или менять положение неправильно введенных проводников внутри шейки бедренной кости.
Но я не стал оперировать по описанной методике.
Дело в том, что при определенных хирургических навыках с помощью лишь первичных рентгеновских снимков правильность сопоставления фрагментов шейки бедра можно контролировать только по клиническим признакам (без использования громоздкой рентгеновской аппаратуры), а трехлопастный гвоздь – вводить без проводника. Такая операция занимает 10–15 минут. Но это неходовая операция. Применяется она как крайняя мера у больных, отягощенных тяжелыми заболеваниями внутренних органов, когда операцию необходимо сделать быстро, по возможности сократив до минимума время дачи наркоза. Именно такой больной ждал меня тогда.

Гостиница «Карлтон» (слева), где останавливаются советские туристы, приезжающие в Кувейт
Ассистировал мне египтянин доктор Фарук. Обговорив предварительно с шефом группы врачей-анестезиологов доктором Махмудом Биззари наши совместные действия, я провел упомянутую операцию, как и планировал, за 10 минут. На контрольных рентгеновских снимках, сделанных прямо в операционной после окончания операции, врачи удостоверились в хорошем сопоставлении фрагментов бедренной кости и положении металлического трехлопастного гвоздя. Такой подход к подобной операции был для них совершенно новым.
Вскоре в операционной ортопедического госпиталя случилось нечто сверхординарное, что окончательно растопило лед профессиональной настороженности местных врачей ко мне как к специалисту. Этот случай вообще поучителен для врачей, уникален по своему исходу и заслуживает того, чтобы о нем рассказать детально. Поучительность его в том, что никогда, даже при безнадежном, казалось бы, состоянии больного, хирургу нельзя падать духом и прекращать борьбу за опасение жизни пациента, а уникальность – в трехкратной остановке сердца и наступлении клинической смерти больного и трехкратном оживлении пострадавшего на операционном столе. Итак, все по порядку.
В госпиталь поступил больной из Омана Али Абд ар-Рахмаи Абдалла, 57 лет, с сосудистой опухолью третьего грудного позвонка – гемангиомой. Эта опухоль сдавила спинной мозг, в результате чего начал развиваться паралич нижних конечностей и последовало расстройство функций тазовых органов (непроизвольное мочеиспускание, задержка кала и т. д.). Однако некоторые движения в суставах нижних конечностей еще сохранились, и больной хоть и с трудом, но еще мог кое-как передвигаться с помощью костылей. Это говорило о том, что случай не безнадежен, процесс зашел не слишком далеко и удаление опухоли с освобождением спинного мозга от сдавливания могло еще принести успех.
После детального обследования больного решено было его оперировать. Помогал мне во время операции молодой способный хирург из Каира Хасан Вайли. Были соблюдены все предосторожности: на протяжении всей операции переливалась одногруппная кровь, специальные датчики и осциллографы показывали частоту и глубину дыхания, степень наполнения кровью сосудистого русла, регистрировали работу сердца и пр.
Через 45 минут после начала операции, протекавшей нормально, когда уже был вскрыт спинномозговой канал и обнаружена опухоль, сдавливающая спинной мозг, врач-анестезиолог пакистанец Миан Мухаммед Якуб срывающимся голосом сообщил о внезапной остановке сердца больного. Рана на спине была быстро затампонирована стерильными салфетками, больному было придано положение на спине. Пульс не выявлялся даже на магистральных сосудах, кровяное давление не определялось. В таких случаях, когда больной находится в состоянии клинической смерти, от быстрых и решительных действий хирурга зависит все. С помощью шприца и длинной иглы я немедленно ввел через стенку грудной клетки в мышцу сердца раствор адреналина и начал энергично массировать его, сжимая и разжимая руками левую половину грудной клетки. Спустя минуту уже ощущались слабые сердечные толчки, появился пульс, кровяное давление вначале показывало 85 на 50, а спустя 25 минут – 110 на 65.
После стабилизации кровяного давления и разрешения врача-анестезиолога я продолжил операцию. Успешно завершив наиболее трудную и ответственную ее часть – удаление опухоли, освобождение спинномозгового канала от сдавливания и остановку кровотечения с помощью электрокоагулятора, кровоостанавливающей губки и тампонов, смоченных специальными растворами, повышающими свертываемость крови из кровоточащих сосудов, – я приступил к заключительной стадии операции. Вдруг анестезиолог вновь отметил резкое ухудшение деятельности сердечно-сосудистой системы, и я повторно вынужден был прервать операцию из-за остановки сердца.
Рана на спине была вновь затампонирована, а больной уложен на спину. Все делалось очень быстро и четко. Введение в сердечную мышцу адреналина, массаж сердца, искусственное дыхание, струйное переливание крови и вентиляция легких чистым кислородом эффекта не дали. Шумы сердца не прослушивались, кровяное давление не определялось, пульс на магистральных сосудах не прощупывался – больной находился в состоянии клинической смерти. Я принял решение вскрыть грудную клетку и применить открытый массаж сердца руками. Эта крайняя мера в безвыходном положении иногда оказывается эффективной. Терять было нечего: больной был мертв. После его смерти прошло около двух минут – время, когда клетки центральной нервной системы еще не умерли; если они получат с током крови кислород и питательные вещества, то смогут полноценно функционировать вновь.