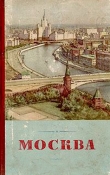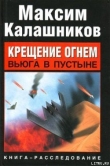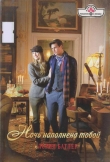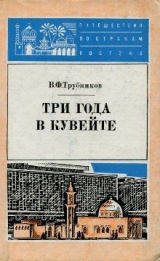
Текст книги "Три года в Кувейте"
Автор книги: Виктор Трубников
Жанры:
Путешествия и география
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц)
Правительство Кувейта, как правило, не проводит каких-либо ограничений и в торговле со странами социалистического лагеря. Объем торговли с социалистическими странами неизменно увеличивается. В первой половине 1969 г. он составил 10,3 млн. динаров.
В Кувейте утвержден пятилетний план экономического и социального развития.
Общий объем капиталовложений по плану составляет 912 млн. динаров; из них на государственный сектор приходится 55,6 %, частный – 37,8 и смешанный – 6,6 %. Около 61 % всех капиталовложений направляется на расширение объема товарного производства в стране. План предусматривает, в частности, дальнейшее развитие сельского хозяйства и морских промыслов, транспорта и промышленности.
Огромным инвестициям в экономику сопутствует рост бюджетных ассигнований на текущие расходы страны.
В 1972/73 финансовом году доходная часть бюджета достигла 536,2 млн. динаров, а расходная – 410,9 млн. По сообщению кувейтской газеты «Ахбар Эль-Кувейт» (13.11.1972), доходы от нефти в этом году составили 94 % доходной части бюджета.
Наряду с финансированием планов экономического и социального развития страны отмечается тенденция к вывозу кувейтских средств – как частными фирмами, так и государством – за границу.
В 1961 г. в соответствии с законом № 35 правительство учредило Кувейтский фонд экономического развития арабских стран с первоначальным капиталом 100 млн. динаров. Главной целью Фонда стало содействие экономическому развитию арабских стран.
По данным годового отчета Фонда за 1967/68 г., число займов различным странам достигло 16 на общую сумму 67,62 млн. динаров. Общий доход за этот же промежуток времени составил 4,37 млн. динаров, из которых 1,28 млн. составили проценты от займов, а 3,09 млн. – прибыли от капиталовложений. К концу декабря 1969 г. арабским странам было предоставлено кредитов на сумму 71,6 млн. динаров. Помимо этого правительство Кувейта из своего резерва предоставило некоторым арабским странам долгосрочные займы в размере 119,8 млн. динаров.
Кувейт старается расширить свои экономические связи с эмиратами Персидского залива. Совет министров Кувейта еще в 1962 г. образовал Комитет помощи эмиратам Персидского залива и югу Аравии. Бюджет Комитета наметил помощь на 1969/70 г. в размере 1,9 млн. динаров. В 1970/71 г. эта помощь возросла до 2 млн. динаров.
В 1964 г. правительство Кувейта совместно с Египетской народной организацией банков учредило Арабо-Африканский банк, цель которого – содействие развитию экономики арабских и африканских государств.
За последние годы наблюдается тенденция к вкладам кувейтских капиталов в банки западноевропейских и других развитых стран. Кувейт уверенно пробивает себе дорогу на международном финансовом рынке. Так, он участвует в финансировании строительства нефтеперерабатывающих комплексов в Индии. Кроме того, Кувейт финансирует строительные проекты различных государств, в том числе США, Англии, ФРГ, Японии.
Со дня объявления национальной независимости Кувейт добился не только экономического, но и определенного социального прогресса.
В последнее десятилетие было построено много новых жилых домов, хорошо оснащенных госпиталей, детских садов, школ, кинотеатров, открыт университет и т. д. Благоустроена и озеленена столица, проложены хорошие шоссейные дороги, введен в эксплуатацию ряд промышленных комплексов и объектов. Для низкооплачиваемой группы коренного населения – кувейтцев правительство построило к 1965 г. 7 тыс. жилых домов, предоставленных им на льготных условиях, а в 1970 г. – еще свыше 1200 домов. Для богатых жителей, желающих строить собственные дома, правительство предоставило льготные, долгосрочные ссуды и участки земли.
Много было сделано и в области народного образования.
До недавнего времени Кувейт был одной из самых отсталых в области образования стран мира. Здесь насчитывалось всего несколько духовных школ. Первая светская школа была открыта только в 1912 г. В конце 30-х годов в Эль-Кувейте насчитывалось всего три начальные школы (две для мальчиков и одна для девочек).

Центральная улица Эль-Кувейта Фахд-ас-Салем-стрит
Я вспоминаю разговор с одним кувейтцем, сотрудником министерства общественного здоровья, о школьных временах конца 30-х годов. В то время Кувейт жил своей самобытной и обособленной жизнью. Ощущалась острая нехватка воды и пищевых продуктов. В скудный рацион бедуина входила вяленная на солнце саранча. Сотрудник, с которым мы разговорились о его школьных годах, не отличался большим рвением к наукам и учился кое-как. Однако он не хотел портить взаимоотношений с учителем и надумал сделать ему подарок. Посоветовавшись дома, он решил преподнести учителю коробочку сушеной саранчи. Сверстники, узнав о его благих намерениях, сказали ему, что неизвестно, как египтяне (учитель был египтянин) привыкли готовить и употреблять в пищу саранчу. Было высказано предположение, что они варят ее, как креветок. В связи с этим решено было принести саранчу живую. Школьники поймали очень много саранчи, поместили ее в картонную коробку и принесли в класс. Перед началом урока коробка была торжественно водружена на стол учителя. Тот, не подозревая ничего плохого, перед началом урока открыл ее, и из коробки начало вылетать, выпрыгивать и просто вываливаться неимоверное количество голодных насекомых, которые в один момент залепили стены, столы и заполнили собой класс. Они летали в разных направлениях, желая вырваться на волю. Учитель, подавляя негодование (а он терпеть не мог этих тварей и никогда в пищу их не употреблял), спокойно спросил, кто принес саранчу. Виновник беспорядка с радостью поднял руку и сказал, что это его подарок учителю. Последний подозвал его к себе. Мгновенно последовал шлепок, и школьник был выставлен из класса. Урок был сорван. Так бесславно закончилось доброе намерение малоспособного ученика накормить своего любимого учителя изысканным лакомством.
Вся государственная система образования, созданная в последние годы, подчинена министерству образования, учрежденному в январе 1966 г. Эта система включает следующие ступени: детский сад – два года, начальная школа – четыре, средняя школа первой ступени – четыре и средняя школа второй ступени – четыре года. Кроме школ в Кувейте существуют специализированные четырехгодичные училища, куда принимаются только лица, окончившие среднюю школу второй ступени. К числу таких училищ относятся педагогическое, коммерческое, медицинское, техническое, духовное и некоторые другие.
Обучение для мальчиков и девочек кувейтского происхождения бесплатное. С 1965 г. действует закон об обязательном начальном и среднем образовании. Правительство выделяет на образование значительные средства. Так, если в 1960/61 финансовом году на нужды просвещения было ассигновано 10,8 млн. динаров, то в 1970/71 г. эта сумма составила 31,4 млн. динаров.
В правительственных школах учатся в подавляющем большинстве дети кувейтских семей. Детям-некувейтцам правительственные школы предоставляли весьма ограниченное число мест, остальные учатся за плату в частных школах.
Выполняя намеченную программу подготовки национальных кадров, правительство занялось строительством школ. К концу 1972 г. функционировало 239 школ. Росло и количество частных школ; к концу того же года их было около 60. Помимо частных школ в Кувейте создано 11 частных средних специальных учебных заведений. Существуют и вечерние школы для тех, кто по каким либо обстоятельствам вынужден прервать обучение или же пойти работать.

Девушки-кувейтянки – студентки технического училища, готовящего специалистов для министерства почты, телеграфа и телефона, – на практических занятиях
Помимо правительственных и частных школ, в которых обучаются дети местного населения, построено 16 школ с 221 классом для детей иностранцев, работающих в Кувейте: англичан, американцев, индийцев и т. д.
С увеличением числа школ соответственно росло и число детей, обучавшихся в них, а также число преподавателей. В 1969/70 учебном году в государственных школах и специальных средних заведениях страны уже насчитывалось 12,9 тыс. учащихся и 8,2 тыс. учителей, а в частных – 2,5 тыс. и 1,1 тыс. соответственно.
В школах детям бесплатно предоставляется транспорт, форма, учебные пособия, двухразовое питание и т. д. Все учащиеся одеты по-европейски. Девочки младших и старших классов носят однотипные платья, а мальчики – темные брюки и белые рубашки навыпуск. В осенне-зимний период девочки надевают теплые куртки или кофточки, а мальчики – форменные темные пиджаки. Мальчики и девочки обучаются раздельно.
Для детей, склонных к искусству, созданы специальные школы, которые они посещают во внеурочное время. Так, для детей, преуспевающих в танцах, создана балетная школа, которой руководит мадам Коди. Она представляет здесь шведскую фирму парфюмерных и косметических изделий, а также лечебной гимнастики и балета. Наряду с чисто коммерческими целями фирма пропагандирует гармоничное развитие детей и взрослых.
Своеобразно сложилась судьба мадам Коди. Это княжна Натали Трубецкая, родившаяся в Сянгане (Гонконг), куда ее отец и мать бежали из революционной России. Всю свою жизнь она провела в Западной Европе, где получила образование и вышла замуж за коммерсанта. В период экономического бума она приехала в Кувейт, где по поручению фирмы открыла несколько парфюмерных магазинов, косметических салонов, клубов здоровья и балетную школу для детей. Русского языка мадам Коди не знает, врачам не верит, очень любит русскую водку, считая ее хорошим лечебным средством, особенно при простуде. Она мечтает в качестве туристки посетить СССР.
Обучение в школах ведется на арабском языке. Обязательно также изучение английского и какого-нибудь другого иностранного языка.
15 октября 1966 г. в Эль-Кувейте был открыт национальный университет. Преподавание в нем ведут в основном специалисты, приглашенные из Египта. В 1967/68 учебном году на пяти факультетах университета обучались 886 кувейтских юношей и девушек. Число студентов университета, как и число преподавателей, растет из года в год. Открываются всё новые и новые факультеты.
В заключение следует отметить одно очень важное обстоятельство: несмотря на явные успехи, в развитии некоторых отраслей экономики Кувейта есть и недостатки. В стране отсутствует четкое планирование хозяйства. Национальные средства распределяются и расходуются неравномерно и не всегда рационально, а нередко и расточительно. Страна полностью зависит от политики нефтяных монополий. Все это ведет к неустойчивому положению экономики Кувейта и, в частности, стало причиной резкого экономического спада в конце 1969 г.
18 ноября 1969 г. состоялось заседание Торгово-промышленной палаты, на котором владельцы крупнейших кувейтских торговых, промышленных и строительных компаний обсудили причины экономической депрессии. Одной из главных причин было признано сокращение расходов правительства – основного инвестора – на выполнение экономических проектов. Наряду с этим в стране отсутствовало регулирование выдачи лицензий на открытие новых фирм и компаний. Число последних росло, вызывая ожесточенную конкуренцию и экономическую неразбериху.
Депрессия в экономике Кувейта в определенной мере была связана и со сложившейся в результате израильской агрессии напряженной обстановкой на Ближнем и Среднем Востоке. Одной из причин экономического спада стало также падение роли Кувейта как торгового дома Персидского залива. В результате этого сократились реэкспортные операции кувейтских фирм, поставлявших товары в соседние страны.
Немаловажное значение в наметившемся спаде в экономике имела и утечка национальных капиталов за границу, а также отсутствие государственного контроля над деятельностью местных частных банков («Нэшнл Бэнк оф Кувейт», «Коммершл Бэнк оф Кувейт», «Галф Бэкк», «Кувейт Сейвинг-Кредит Бэнк», «Эль-Ахли Кувейт Бэнк» и «Бэнк оф Кувейт энд Мидл Ист»), Богатые кувейтцы, вкладывая свои средства в упомянутые банки и кредитуя частные кувейтские фирмы и компании, помещали также часть своих капиталов в банки стран Западной Европы, в основном Англии, и США, где им гарантировали более высокие и стабильные проценты.
И наконец, среди причин экономической депрессии могло быть названо падение покупательной способности на местном рынке. Как и в любой другой капиталистической стране, в Кувейте существует социальная несправедливость. Положение трудящихся масс – основной части населения – оставляет желать лучшего. Об этом, в частности, свидетельствует судебный процесс, состоявшийся в Эль-Кувейте осенью 1969 г. над 16 обвиняемыми в антигосударственной деятельности коренными жителями страны – кувейтцами, которые заявили, что они живут в так называемых домах для лиц с ограниченным доходом. При наличии в семьях по шесть – восемь и более человек они получают заработную плату в размере 100–120 динаров, в то время как по доходу на душу населения – 3257 долл. в 1968/69 финансовом году – страна, как уже говорилось, занимает одно из первых мест в мире. Этот судебный процесс, как писал в сентябре 1969 г. кувейтский еженедельник «Аль-Хадаф», опроверг установившееся мнение о Кувейте как о богатой стране, где нет бедных.
Громадный приток денежных средств от эксплуатации нефтяных месторождений распределялся неравномерно, оседая преимущественно в карманах кувейтской знати – шейхов, крупных купцов, домо– и землевладельцев. Именно в руках этой части кувейтского общества к началу нефтяного бума оказались более ценные земельные участки, которые позднее правительство стало скупать по баснословным ценам. Так, в 1961–1964 гг. на покупку земли у частных лиц правительством было израсходовано 38,5 млрд. долл., а в 1967–1969 гг. – 131 млн. долл. (сокращение этой статьи расхода связано с тем, что основное количество земельных участков к тому времени было уже скуплено правительством).
Заработав на продаже земельных участков огромные суммы, некоторые богатые кувейтцы начали переводить их в иностранные банки. В стране с населением немногим более 815 тыс. человек насчитывается несколько сот миллионеров. Даже по мнению буржуазных экономистов, это много.
Немаловажную роль в обогащении финансовых воротил играет и существующая в стране коррупция. Такое положение дел в стране сложилось потому, что парламент, как писал в середине 1970 г. «Аль-Хадаф», бездействует. По свидетельству другого журнала, «Саут аль-Халидж», в парламенте господствовала рутина, что мешало ему заниматься контролем за исполнительной властью. Обюрократившиеся члены парламента – бизнесмены, купцы, представители знати, не имеющие связи с народом, – мало интересовались положением дел на местах. О необходимости борьбы с коррупцией, казнокрадством и взяточничеством, процветавших в правительственных учреждениях страны, говорил в своей речи по радио 24 июня 1970 г. наследный принц и премьер-министр Кувейта Джабер аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах.
Несмотря на то что после этого выступления прошло довольно много времени и правительством Кувейта был принят ряд мер по устранению упомянутых отрицательных сторон жизни кувейтского общества, положение дел на местах не изменилось.
В частности, «Ас-Сияса» 26 марта 1972 г. резко критиковала положение дел в правительственном аппарате. В статье «Коррупция в министерстве общественного здоровья достигла апогея» критиковалась обстановка в государственном аппарате. В статье отмечалось, что служащие упомянутого министерства принимаются или назначаются в подавляющем большинстве случаев исходя не из их подготовленности к занятию той или иной должности, а из личных отношений и связей. Аналогичным образом они и повышаются в должности. Многие помещения в государственных госпиталях, в частности в Ас-Сабах-госпитале и акушерско-гинекологическом госпитале, превращены в места развлечений с распитием спиртных напитков. Это делается с ведома недавно созданных органов контроля и инспекции.
В ноябре 1971 г. Национальное собрание утвердило закон об увеличении заработной платы кувейтцам на 30 %, для чего правительство ассигновало 20 млн. динаров. Но это вызвало значительное взвинчивание цен на местном рынке, особенно на продовольственные товары, что ударило по карману как всех работающих некувейтцев, так и низкооплачиваемой части кувейтского населения и вызвало резкое их недовольство. В связи с этим, как заявила «Кувейт Таймс» 14 апреля 1972 г., министр торговли и промышленности Халед аль-Адсани подвергся резкой критике членов парламента Ганнама Джамхура, Халеда аль-Масуда и др., заявивших, что он не заслуживает доверия парламента, так как цены на продовольственные товары резко возросли и не соответствуют ценам по прейскуранту министерства.
Результаты опроса, проведенного газетой «Ас-Сияса» в марте – апреле 1972 г., показали, что повышение заработной платы эффекта не дало, так как в конечном счете оно привело к обогащению торговцев и купцов.
Следует напомнить, что все высокооплачиваемые административные посты в стране предоставлены кувейтцам, даже в тех случаях, если они не имеют для этого специальных знаний и подготовки, – в таких случаях помощниками к ним нанимают специалистов соответствующей квалификации, но другой национальности. Ведь своих высококвалифицированных кадров в Кувейте пока еще недостаточно.
Одним из прибыльных дел, не требующих длительной специальной подготовки, является работа на такси. Все такси в Кувейте частные, водителем может быть только кувейтец. Счетчиков в машине нет, и платят за проезд по договоренности с владельцем машины. Все заработанные деньги остаются водителю. Никаких налогов и отчислений не существует. Зарабатывают таксисты неплохо – до 200–300 динаров в месяц.
Подобных примеров можно было бы привести много. Одним словом, в любом деле проскальзывает девиз: «Кувейт – для кувейтцев». Для всех тружеников некувейтского происхождения остается тяжелый труд и извечная забота о хлебе насущном.
* * *
В Эль-Кувейт мы прилетели 12 марта 1970 г. Город встретил нас 30-градусной жарой. После московских морозов это показалось невыносимым. При проверке документов в кувейтском аэропорту один из старших офицеров, узнав, что я врач из Советского Союза и приехал работать в кувейтском ортопедическом госпитале, сразу же пригласил меня в свой кабинет, где благодаря кондиционеру было прохладно. Меня напоили холодной водой, угостили горячим чаем и традиционным крепким арабским кофе с кардамоном.
В связи с организационной неувязкой меня на аэродроме никто не встречал – ни из нашего посольства, ни из министерства общественного здоровья. Кувейтский офицер немедленно сообщил в министерство о моем прибытии. Вскоре приехал представитель министерства и отвез меня в «Гест хаус» – гостиницу для иностранцев, приезжающих работать по контрактам в Кувейт. Она расположена в северо-западной части Эль-Кувейта, в районе Сулейбихат.
Несмотря на то что в гостинице были вполне удовлетворительные бытовые условия и неплохой ресторан с европейской кухней, у меня с ней связаны самые тяжкие воспоминания. Я провел там весь период акклиматизации – физической и психологической. После наших холодов необходимо было привыкнуть к изнурительной жаре, но не в этом главное. Отрыв от привычного уклада жизни, от друзей, любимой работы и постоянное общение с незнакомыми людьми действовали угнетающе. Особенно тягостны были вечера. И только в дальнейшем, когда я поближе познакомился с нашими товарищами из посольства и из Аппарата торгового советника, стал часто бывать у них и общаться со всеми членами нашей колонии, мне стало легче справляться с чувством одиночества.
Мало-помалу жизнь вошла в нормальную колею, острота переживаний была приглушена напряженными трудовыми буднями, навалившимися на меня немилосердно и почти не оставлявшими времени для отдыха. Операционные дни, ночная срочная помощь в госпитале больным с тяжелыми травмами и огромное чувство ответственности – ведь я представлял здесь нашу советскую медицину, в частности харьковскую школу медиков, – все это заставляло быть внимательным к каждому шагу. И все же, несмотря на напряженную работу, чувство одиночества не покидало меня. Особенно остро я начал ощущать его снова в самом конце моей командировки, когда желание скорейшего возвращения на Родину стало реально выполнимым делом. В этой связи вспоминается один эпизод.
В канун моего отъезда из Кувейта отмечали день моего рождения в маленьком, уютном ресторане «Максим». Собираясь уходить домой, мы спустились вниз, где находился оркестр. Было поздно, и ресторан уже закрывался, когда вдруг появилась шумная компания молодых испанцев – технических сотрудников нефтяной компании «Кувейт-Спэниш Петролеум Компани». Их тепло приветствовали соотечественники-музыканты. Пришедшие сели за отдельный столик, и тут началось нечто необычное, что задержало наш уход, – испанские танцы. Молодой, высокий, стройный юноша под одобрительные возгласы товарищей исполнял народные танцы. То темпераментные и быстрые, то грациозные и плавные, они были очень красивы. В них была и судьба тореадора, ведущего бой с быком, и триумфальная, а порой печальная и трагичная, любовь пылкого юноши к своей возлюбленной, и тоска о покинутом родном крае. Мы все сидели как зачарованные, иногда аплодировали, а испанец все танцевал и танцевал, вдохновенно и самозабвенно, не замечая ничего вокруг. Его товарищи в такт оркестру умело подыгрывали на импровизированных шумовых инструментах, а танцующий, казалось, не уставал, а отдыхал в танце – так легко и красиво у него все получалось.
Я с удовольствием смотрел своеобразные танцы испанцев и слушал их народные песни. И вдруг меня охватило радостное чувство предстоящего скорого возвращения на родную землю: в последние месяцы моего пребывания в Кувейте, как и в первые дни жизни в «Гест хаусе», я особенно остро ощущал отрыв от Родины.
Но вернемся к первым дням моего пребывания в этой своеобразной, интересной стране.
Как я уже упоминал, я был командирован по запросу министерства общественного здоровья (оно было организовано в 1961 г., после получения страной независимости, раньше вопросами здравоохранения ведал Медицинский департамент).
Расположено министерство на набережной, неподалеку от дворца эмира Кувейта, на Арабиен-галф-стрит – улице Арабского залива (так в Кувейте называют Персидский залив). В главном трехэтажном здании министерства, а также в других корпусах, разбросанных по городу, размещены отделы: лечебно-профилактический, госпиталей и клиник, санитарно-эпидемиологический, борьбы с особо опасными инфекциями (холера, оспа и т. д.), охраны материнства и детства, школьного здравоохранения, профессиональных заболеваний, организации семьи, врачебных кадров, средних медицинских работников, лабораторий, медицинского оснащения и аппаратуры, протезно-ортопедических изделий, главное аптечное управление и отдел медицинской (лекарственной) промышленности, отделы переливания крови, финансовоплановый, тендерный (для организации открытых конкурсов по поставкам оборудования и строительству госпиталей) и др. Во главе каждого отдела стоит начальник – опытный специалист, хорошо знающий свое дело.
Кроме того, в ведении министерства находятся два лечебно-профилактических учреждения, или, как принято их здесь называть, института: для умственно-недоразвитых и для глухонемых детей. Оба института располагают своим штатом медицинских работников и педагогов.
Работой министерства руководил в то время врач по образованию Абд ар-Раззак Мишари аль-Адвани. Однако из-за его крайней занятости в правительстве и особенно в связи с его частыми поездками в соседние арабские страны, а также на различные конференции и симпозиумы в Европу всей работой министерства практически руководили четыре человека. Это прежде всего три его заместителя: Саад ан-Нахед – первый заместитель министра по общим вопросам, Бержес Хамуд аль-Бержес – заместитель министра по административным и финансовым вопросам, врач Абд ар-Раззак аль-Юсеф Абд ар-Раззак – заместитель министра по техническому оснащению, а также начальник отделов лечебно-профилактического и врачебных кадров врач Абдалла-ар-Рефаи. Все они коренные кувейтцы.
Наряду с этим в аппарате министерства успешно сотрудничали начальники отделов, египтяне и палестинцы, доктора Мустафа Касеми, Абд аль-Фаттах Нузаир, Насим Сеид, Сами Маттер, Абд ар-Рахман Авади.
Я с большой благодарностью и теплотой вспоминаю одного из заместителей министра, Бержеса Хамуда аль-Бержеса, который, хорошо относясь к нашей стране и к нам – русским, сделал очень много для того, чтобы моя работа в Кувейте была наиболее продуктивной, а быт устроен максимально хорошо.
Аль-Бержес окончил полную среднюю школу и поступил на работу в министерство общественного здоровья, вначале разносчиком чая, затем посыльным и, наконец, младшим клерком. Постепенно поднимаясь по служебной лестнице, он закончил двухгодичную школу административных работников здравоохранения в Лондоне и к 40 годам занял пост заместителя министра.
Аль-Бержес рассказывав как еще школьником во время летних каникул он подрабатывал на предприятиях «Кувейт Ойл Компани Лимитед». Там же он совершенствовал свои знания английского. Домой он возвращался поздно, после десяти часов вечера, когда ворота города, обнесенного крепостной стеной, защищавшей его в недалеком прошлом от набегов бедуинов, были уже закрыты. Леденея от страха, он стучал в ворота. На сердитый окрик часовых: «Кто идет?» – под свирепый лай цепных сторожевых псов отвечал, что он – Бержес, сын Хамуда аль-Бержеса, что он идет с работы домой и просит впустить его в город. И только упоминание имени его отца, предки которого со времени основания Эль-Кувейта жили в городе и, занимаясь контрабандной торговлей оружием, а затем торговлей водой, привозимой на шхунах из Ирака, и добычей жемчуга, сколотили на этом небольшое состояние, побуждало стражников открывать ворота. Они впускали мальчика, награждая его при этом подзатыльниками и пинками. Так начинал свою трудовую деятельность один из наиболее уважаемых сейчас людей Кувейта.
Как-то аль-Бержес поведал мне интересный случай, свидетелем которого он был. В начале 50-х годов нашего столетия Эль-Кувейт был еще окружен крепостной стеной, построенной в XVIII в. Каждый въезд и выезд через крепостные ворота – а их было несколько в разных концах города – сопровождался осмотром повозки, тюков, нагруженных на верблюдов, багажников автомобилей, которые в то время только начинали появляться на улицах города и были в диковинку. Стражники интересовались, что ввозится, что вывозится и есть ли на это соответствующее разрешение. Одними из первых среди появившихся в Эль-Кувейте автомобилей были дешевые малолитражки западногерманской фирмы «Фольксваген». При осмотре одного из первых таких автомобилей стражники, неграмотные бедуины, обнаружили в том месте, где обычно в машине находится багажник, мотор. Они потребовали у хозяина машины разрешение на вывоз этого мотора за пределы города. Попытки водителя объяснить им, что мотор – источник движения данной автомашины (мотор установлен в машине сзади), не привели к успеху. Был вызван старший таможенный инспектор, и только он, разобравшись в сути дела, дал разрешение на выезд автомобиля из города.

Вид на современный Эль-Кувейт через крепостную стену (вернее, ее остатки), некогда окружавшую город
Мне довелось познакомиться с многочисленной семьей аль-Бержесов, насчитывавшей вместе с родственниками около 300 человек. Глава семейства, 62-летний Хамуд аль-Бержес, – тонкий знаток жемчуга. Он обладатель уникальной коллекции жемчужин и изделий из золота с жемчугом, оценивавшихся в десятки тысяч кувейтских динаров. Стоило показать ему жемчужину, и он без ошибки мог сказать, из вод ли Персидского залива она или нет, а если да, то в каком именно месте ее добыли. Он владел в Эль-Кувейте несколькими домами, сдаваемыми в аренду, что служило ему немалых источником доходов.
Кстати, квартиры в Кувейте стоили очень дорого. На их оплату в месяц уходила примерно треть заработанных денег. При заработной плате рабочего или служащего, например, в 110–130 динаров за двухкомнатную квартиру не в центре Эль-Кувейта он вынужден был платить около 35–40 динаров в месяц. Такая же квартира в центре (или в любом благоустроенном доме) стоила значительно дороже. Хамуд аль-Бержес владел частной конторой по обслуживанию кораблей (в том числе и советских), приходящих в порт Эль-Кувейт-Шувайх. По договорам он поставлял на корабли продукты питания, пресную воду и пр. Это приносило семье значительные доходы. Во всех делах отцу помогал сын.
Бержес, обладая природным умом, всегда живо интересовался политикой. Это было его хобби. Он много читал, выписывал все основные издания арабских стран. Побывал в Англии, Франции, Японии, Польше, Югославии, Болгарии, ФРГ, Италии и других странах. Прекрасно зная прошлое и настоящее Арабского Востока, разбираясь во внешней и внутренней политике арабских государств, он был интересным собеседником. Он хорошо и умно спорил, чем не раз повергал в уныние многих иностранных дипломатов, работавших в Эль-Кувейте.
У Бержеса Хамуда аль-Бержеса большая семья: трое сыновей и две дочери (старшая из них, как и отец, интересовалась политикой). Преданный семьянин, Бержес на вопрос, будет ли он иметь еще трех жен, положенных ему по Корану, неизменно отвечал отрицательно, так как это противоречило его собственным понятиям о браке и семье. Да и жена, по его словам, этого не потерпела бы и могла уйти к родителям – весьма состоятельным людям. В то же время Бержес, как правоверный мусульманин, свято чтил Коран, в частности соблюдал все религиозные обряды и праздники. Он исправно постился в месяц рамадан и ни разу в жизни не встречал этот праздник за пределами Кувейта, какая бы в этом ни была необходимость, будь то служебные или личные дела.
Здесь следует отметить, что далеко не все кувейтцы поступают подобным образом. Один из моих знакомых, сотрудник морского порта Эль-Кувейт-Шувайх, рассказал мне по этому поводу забавную историю.
Как-то в праздник рамадан руководящий сотрудник полиции Кувейта и его заместитель со своими женами, зная, что в города нигде нельзя вкусно поесть и выпить (и в первую очередь у себя дома, где родители строго соблюдают заведенный их предками порядок), отправились в морской порт к знакомому капитану датского парохода. Упомянутый сотрудник морского порта был также приглашен на этот корабль по служебным делам. Когда он прибыл туда, вечер был в разгаре. При его появлении капитан корабля поднялся и в соответствии с морским обычаем приветствовал его как старшего по занимаемому положению и по возрасту. Когда хозяин, принимавший гостей, представил им нового гостя как одного из руководителей кувейтского морского порта и добавил, что он живет в Эль-Кувейте уже более десяти лет, кувейтцы пришли в замешательство. Видимо, им стало неудобно, что посторонний человек стал свидетелем их вечеринки: ведь кувейтцы должны соблюдать пост в рамадан. На помощь пришли их жены, предложившие выпить за вновь пришедшего, чем и разрядили обстановку.