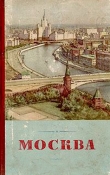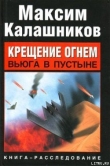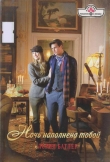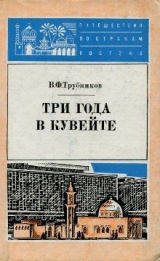
Текст книги "Три года в Кувейте"
Автор книги: Виктор Трубников
Жанры:
Путешествия и география
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 19 страниц)
В Эль-Кувейте сооружен ряд плавательных бассейнов, в том числе и закрытых, много гимнастических залов, залов для тяжелой атлетики, бокса, различных видов борьбы, а также для спортивных игр. Создано много открытых легкоатлетических комплексов; начато строительство ипподрома. Скачки по прямой на арабских скакунах по песчаному ипподрому – очень красивое зрелище. В летнее время, с наступлением жары, скачки прекращаются: берегут дорогостоящих арабских скакунов, приобретенных на лучших конных заводах Ирака, Египта и Ливана.
Как-то на ипподроме произошел случай, чуть не ставший трагичным. Осенью 1972 г. мы поехали посмотреть скачки вместе с нашими знакомыми из Чехословакии – супругами Дрекслерами.
Станислав, так звали мужа, работал по частному контракту инженером по сооружению канализационных систем в Эль-Кувейте. Он был большим гурманом и хорошо играл в покер. Станислав не только состоял членом игорного кувейтского клуба отеля «Хилтон», но и часто выезжал в Европу для участия в соревнованиях. За карточными столами в Европе он встречался, например, с известным любителем карточной игры арабским киноактером, снимавшимся и в Голливуде, Омаром Шарифом. Кроме того, Станислав Дрекслер был большим любителем скачек. Так как особых развлечений для иностранцев в Эль-Кувейте не было, мы с женой приняли приглашение и согласились поехать с четой Дрекслеров на ипподром.
Здесь была масса народу, все арабы мужчины, стоявшие толпами по обе стороны беговой дорожки. Нас пригласили на места для почетных посетителей. Здесь же присутствовал личный советник эмира по вопросам торговли и промышленности, бывший министр шейх Абдалла аль-Джабер ас-Сабах. Кстати, он очень любил различные спортивные состязания и редко пропускал их. В ожидании очередного заезда мы беседовали, курили и пили душистый кофе, которым нас как почетных гостей угощали арабы.
Во время скачек одна из лошадей, вырвавшаяся вперед, видимо, чего-то испугалась, захрапела и бросилась в сторону. Это случилось у самого финиша, примерно в 30 м от того места, где сидели мы. Лошадь с налитыми кровью глазами шла прямо на нас. Здесь же, в первом ряду, сидел и шейх Абдалла, и дети представителей местной родо-племенной знати. В это время я был занят съемкой фильма и, увлекшись, поднялся с места, ловя в кадр несущихся скакунов с наездниками. Услышав оклик, я оторвался от камеры и, бросив взгляд в сторону, оцепенел от ужаса: серый в яблоках молодой жеребец, закусив удила, несся прямо на меня и сидящих вблизи людей. Я отскочил в сторону. Опытный жокей последним усилием воли все же успел отвернуть лошадь, которая храпя пронеслась в метре от сидящих в переднем ряду людей, обдавая всех облаками песка. Переполоху было много.
Шейх Абдалла долго выговаривал устроителю скачек, высказывая ему свое неудовольствие. Как потом выяснилось, лошадь испугалась брошенных в нее кем-то из зрителей четок.
Спортивная жизнь в Кувейте с наступлением летней жары несколько затихает. Спортсмены переносят свои тренировки в закрытые помещения – залы с кондиционерами, и лишь футболисты не покидают своих полей. В летнее время футбольные матчи проводятся только вечером. Первую половину матча играют перед самым заходом солнца, а второй тайм проходит при искусственном освещении.
О любом виде спорта в Кувейте можно говорить много. Футбол, волейбол, баскетбол, гандбол, настольный теннис, бадминтон прочно вошли в спортивную жизнь страны. Молодежь Кувейта с успехом осваивает такие виды спорта, как дзюдо, французская борьба, прыжки в воду с трамплина и вышки, спортивная и художественная гимнастика, водные лыжи, о существовании которых они до недавнего времени даже не слыхали.
Основной упор на развитие спорта делается в школах, училищах, институтах и особенно в университете.
Во время моего пребывания в стране здесь функционировали 30 клубов и добровольных спортивных обществ. Подготовку спортивных команд и национальных сборных по различным видам спорта проводили опытные тренеры, специально прибывшие в Кувейт из Чехословакии, Югославии, Англии и других стран. Для поощрения развития отдельных видов спорта и демонстрации мировых достижений в каком-либо из них в Кувейт приглашались из других стран как отдельные чемпионы, так и спортивные команды, достигшие высоких показателей. Так, в апреле 1972 г. в Кувейт приехал Мухаммед Али (Кассиус Клей) – ныне чемпион мира по боксу среди профессионалов. В Кувейте он провел несколько показательных встреч с ведущими боксерами. Кстати, до Кувейта Му-хаммед Али побывал в Саудовской Аравии, на Бахрейне и Катаре. Его поездка на Ближний Восток была вызвана религиозными мотивами. Дело в том, что незадолго до этого он принял мусульманское вероисповедание, после чего решил побывать у истоков ислама – в Мекке и Медине.
11 октября 1971 г. в Кувейте играла сборная футбольных звезд Англии. Со сборной кувейтских клубов они провели один матч и победили со счетом 4:3. Очень тепло кувейтские болельщики встретили знаменитого нападающего сборной Англии С. Мэтьюза, получившего от королевы Англии Елизаветы почетный титул рыцаря и почетную аристократическую приставку к своему имени – «сэр». Этой чести он был удостоен за заслуги в развитии футбола в стране. В сборной звезд Англии играли также М. Макманус и другие известные игроки.
В конце 1972 г. в Кувейт для обмена опытом была приглашена команда чемпионов мира по настольному теннису из КНР, которая провела с местными спортсменами ряд показательных встреч.
12 февраля 1973 г. в Эль-Кувейте состоялась очень интересная футбольная встреча. Играли спортсмены кувейтского клуба «Кадисия» со знаменитым бразильским клубом «Сантос». Бразильцы привезли основной состав своей команды. Среди игроков были пять футболистов из символической сборной мира: Пеле, Эду, Жаир, Карлос Альберто (капитан «Сантоса» и национальной сборной), Алсиндо, а также Больвина и др. Руководители клуба «Сантос» запросили за одну игру 30 тыс. долларов и получили их. Из этой суммы 10 тыс. было уплачено Пеле, остальные деньги достались другим игрокам и клубу. Как правило, за каждую игру в составе клуба «Сантос» Пеле получает 8 тыс. долларов. Это его, так сказать, обычная заработная плата. За три дня до футбольного матча в Кувейте «Сантос» выиграл у сборной Саудовской Аравии 3:0.
По приезде в Кувейт Пеле был принят эмиром, а накануне игры, 11 февраля, состоялась пресс-конференция, транслировавшаяся по телевидению. Пеле ответил на многочисленные вопросы журналистов.
Попасть на предстоящий матч было невозможно. Билеты были распроданы заранее по очень высокой цене, и достать их практически не было никакой возможности.
Каждый истинный болельщик, конечно, мечтал увидеть игру знаменитого «Сантоса» и черной жемчужины футбола – Пеле. Все это накаляло обстановку среди болельщиков.
Здесь мне хочется рассказать об одной, на мой взгляд, интересной детали: я стал обладателем снимка Пеле, сделанного на стадионе Эль-Кувейта, с его автографом. Помог мне получить его один из сотрудников школы для детей, перенесших полиомиелит, – физиотерапевт Мухаммед Салех, который работал также как журналист и фотокорреспондент иллюстрированного журнала «Ар-Раид». Во время пресс-конференции, а также на одной из тренировок он встречался с Пеле и отзывался о нем как о скромном и контактном человеке. В перерыве между первым и вторым таймами нам и удалось благодаря Мухаммеду получить автограф Пеле на его же фотографии, сделанной накануне Салехом.
Кстати, Мухаммед очень увлекался фотографией и киносъемками. Собственно, он и заразил меня идеей сделать цветной фильм о Кувейте. Вначале я колебался, думал, что у меня ничего из этой затеи не получится. Но Мухаммед Салех настойчиво рекомендовал мне заняться киносъемками и как-то раз принес мне свой заряженный пленкой японский киноаппарат «Кэнон» и, проинструктировав меня, предложил поснимать. Так появились мои первые цветные фильмы: скачки на ипподроме и испанская коррида. Уверовав в свои силы, я обзавелся всем необходимым для киносъемок, и мне удалось сделать несколько, как мне кажется, неплохих цветных фильмов о Кувейте.
В день матча, за пять часов до его начала, нескончаемый поток автомашин со всех концов Кувейта устремился к футбольному стадиону в Эш-Шувайхе. Стадион был забит до отказа. Игра между «Сантосом» и «Кадисией» проходила очень интересно. Первая половина прошла в обоюдных атаках, не принесших командам успеха. Кувейтцы играли решительно, смело атаковали, создавали острые ситуации у ворот гостей. Во втором тайме натиск бразильцев постепенно нарастал, но успеха добиться они пока не могли: кувейтские футболисты защищались самоотверженно. Видя, что до конца второй половины игры остается менее 20 минут, а счет все еще не открыт, грозный соперник усилил натиск. В штрафную площадку кувейтцев все чаще врываются Пеле, Эду, Жаир, но хорошая игра вратаря спасает кувейтцев от верных, казалось бы, голов. И все же Пеле вскоре выводит свою команду вперед. Из очень трудного положения, верхом, через вышедшего вратаря он посылает мяч в дальний угол ворот кувейтцев.
Итак, счет открыт – 1:0. Однако «Кадисия» не смирилась. Игроки этой команды вновь и вновь остро атакуют, не забывая, однако, и об обороне, и буквально на последних минутах, разыграв очень эффектную и красивую комбинацию вблизи ворот «Сантоса», забивают ответный гол. Мяч был пробит сильно и точно и, несмотря на отчаянный бросок вратаря, влетел в ворота соперника. Счет стал 1:1. Стадион буквально взревел от восторга, все встали и начали петь национальный гимн, а потом долго аплодировали. Так вничью закончилась эта интересная, захватывающая встреча, на которой мне посчастливилось побывать и которую удалось снять на цветную кинопленку.
Ответный гол в ворота бразильцев забил игрок «Кадисии» Джасим Якуб, ставший буквально в один день национальным героем. Кувейтский миллионер и бизнесмен, занимавшийся продажей американских автомобилей, Юсиф аль-Ганим, страстный болельщик футбола, за забитый гол в ворота «Сантоса» подарил его автору новый автомобиль, а его семье – страховой полис стоимостью 25 тыс. динаров.
Буквально все газеты Кувейта поместили отчеты об этой игре и множество фотографий, запечатлевших захватывающие моменты игры, а также авторов голов. После игры в Кувейте «Сантос» вылетел в Катар, а затем на Бахрейн и в Египет.
Надо сказать, футбол в Кувейте – самый массовый и любимый вид спорта. Популярность его в Кувейте можно сравнить только с популярностью футбола в Бразилии. В Кувейте играют все – от мала до велика. Каждый пустырь и свободный участок земли оборудованы любителями под футбольное поле. Они сами ровняют его, ставят ворота, делают разметку поля, а нередко на свои скудные средства привлекают для этих целей скреперы и другие дорожные машины. Все движимы одним стремлением – играть в футбол. И нередко тренеры ведущих спортивных клубов страны, внимательно следя за игрой этих уличных, или, как принято их называть у нас, дворовых, команд, отбирают среди их участников талантливых спортсменов.
Ведущих спортивных футбольных клубов в Кувейте 12: «Кадисия», «Аль-Ярмук», «Эль-Кувейт», «Аль-Араби», «Аль-Фахайхиль», «Казема», «Хейтан», «Ас-Сальмия», «Ан-Насер», «Ат-Тадамун», «Аш-Шабаб» и «Аш-Шуга-да». Наиболее сильный из них – «Кадисия», но наиболее популярный – «Аль-Араби». Эти два сильных конкурирующих клуба заняли соответственно первое и второе места в розыгрыше страны в 1971 и 1972 гг.
Многих футболистов этих ведущих клубов мне приходилось лечить и оперировать по поводу спортивных травм. Среди них назову лучшего левого крайнего нападающего «Кадисии» Хамеда Абу Хамеда и сильнейшего защитника футбольной команды «Аль-Араби» и Кувейта Абд аль-Азиза аль-Асоуси.
Все футбольные клубы в Кувейте объединены в Кувейтскую футбольную ассоциацию (КФА). Она была организована в 1957 г. До нее все футболисты Кувейта состояли в футбольной спортивной организации, начавшей функционировать в 1952 г. Этот год и принято называть годом начала развития футбола в стране. КФА, как и другие спортивные организации, непосредственно подчинена министерству социальных дел и труда. Кувейт стал членом Международной федерации футбола и членом региональной футбольной федерации Азии.
Особенно активно начала действовать КФА с 1970 г. В футбольном сезоне 1970/71 г. в стране было проведено 168 официальных календарных встреч по футболу и 9 международных матчей. Кстати, первым судьей международной категории по футболу в Кувейте стал Юсиф Сувейдан. В 1972 г. по инициативе КФА отмечалось 20-летие развития футбола в стране. В связи с этим сборная Кувейта провела ряд международных встреч. Спортсмены Кувейта выезжали в Индию, Корею, Индонезию, Японию и на Таиланд, где удачно провели ряд игр, транслировавшихся через искусственный спутник земли «Интерсэтелайт III» по кувейтскому телевидению.
Класс игры футболистов растет из года в год, и они смело выходят на международную спортивную арену. КФА предполагала, что в 1974 г. Кувейт примет участие в розыгрыше очередного первенства мира по футболу.
В Кувейте по графику КФА ежегодно разыгрывается клубное первенство страны, в котором участвуют все ведущие футбольные клубы. Для этой цели все они разбиваются на две подгруппы, по шесть команд в каждой. Команды-победительницы каждой подгруппы встречаются друг с другом в финальном матче. Команда, завоевавшая первенство, становится чемпионом, а клуб получает от правительства большую денежную премию. Часть этих денег выдается игрокам, а часть предназначается на дальнейшее развитие клуба.
Большим стимулом для развития футбола в стране является ежегодный розыгрыш Кубка эмира. В розыгрыше могут принять участие не только клубные, но и любые другие любительские футбольные команды. В этом очень популярном в Кувейте первенстве команда-победительница награждается Кубком эмира и 3 тыс. динаров, выделяемых для этих целей из своих личных средств главой государства. Деньги эти считаются клубными и могут быть употреблены только на дальнейшее развитие клуба (приобретение спортивного инвентаря, строительство нового стадиона, футбольного поля и т. д.). Помимо этого все футболисты клуба в качестве личного вознаграждения получают от эмира по 200 динаров.
В 1971 г. сборная футбольная команда Кувейта заняла первое место и выиграла Кубок второй западной группы азиатских стран. В розыгрыше этого кубка кроме Кувейта приняли участие национальные сборные следующих стран: Бахрейна, Индии, Ирана, Ливана, Пакистана, Саудовской Аравии, Сирии и Цейлона. Эта победа стала выдающимся событием в спортивной жизни молодого развивающегося арабского государства. По этому поводу 3 июля 1971 г. сборная Кувейта была принята эмиром, шейхом Сабахом ас-Салемом ас-Сабахом, который вручил футболистам памятные ценные подарки и денежные премии.
В Кувейт дважды приезжали советские футболисты. Здесь играли команда «Нефтяник» («Нефтчи») и сборная молодежная РСФСР. Последняя приезжала в Кувейт в ноябре 1970 г. К сожалению, наши ребята не показали высокого класса игры. Причина заключалась в том, что сборная молодежная РСФСР приехала в Кувейт без предварительного изучения и знания местных условий ее представителями: уровня развития футбола в стране и характера покрытия футбольных полей в Кувейте. В результате, во-первых, в Кувейт привезли команду слабого состава, а во-вторых, из-за незнания характера покрытия футбольных полей в Кувейте наши ребята во время игры чувствовали себя на футбольном поле, как на раскаленной сковородке.
Дело в том, что футбольные поля в Кувейте лишены мягкого травяного покрова. Тяжелые климатические условия, жара, отсутствие дождей и достаточного количества воды для поливки полей делают невозможным высаживание на них специальных сортов трав. Поэтому все футбольные поля здесь грунтовые. Ухаживание за ними сводится лишь к укатыванию их специальными катками для устранения бугров, а также к обновлению после каждой игры разметки поля, пропадающей каждый раз вместе с пылью. Только одно футбольное поле в Кувейте имеет травяной покров. Оно принадлежит клубу «Казема», появилось в 1969 г. и считалось экспериментальным.
Нечего и говорить, что играть на таких жестких полях без привычки и специальных бутс с мягкими резиновыми шипами очень тяжело. В результате наши футболисты, выступая в своих обычных твердых бутсах с кожаными жесткими шипами, предназначенными для игры на европейских травяных футбольных полях, во время встречи с кувейтскими спортсменами набили себе на подошвах кровавые мозоли, что в значительной степени снизило их маневренность на поле. Это обстоятельство да плюс недооценка сил противника привели к тому, что наши спортсмены выиграли одну встречу с минимальным счетом 1:0, вторую свели вничью (1:1), а третью проиграли с результатом 3:1.
Таковы вкратце некоторые аспекты культуры и спорта молодого развивающегося арабского государства Кувейт.
* * *
Возвращаясь к рассказу о своих поездках в пустыню, замечу, что каждая из них была своеобразной, не похожей на предыдущую, поэтому они ярко запечатлелись в моей памяти.
Осенью 1972 г. я побывал в одном из глухих и безлюдных глубинных районов, куда меня пригласили кувейтцы на соколиную охоту.
Интересен процесс отлова и дрессировки этой осторожной, быстрой и смелой хищной птицы, которая в основном водится в малообитаемых районах пустыни. Выбрав подходящее место, охотник готовится к отлову сокола следующим образом. В песке маскируют тонкую, по прочную сеть. Одна из сторон ее неподвижно закрепляется на земле, середина противоположной прочно соединяется со свободным концом воткнутой в землю перпендикулярно к сетке метровой палке. Конец палки, несущий на себе край сети, соединяется с 20-метровой тонкой веревкой, уходившей в противоположную от сети сторону. Все это хорошо присыпается песком и прикрывается ветками кустарника. Охотник, отлавливающий сокола, работает всегда в одиночку. Он тщательно маскируется и сам: выкапывает примерно в рост яму, сооружает из песка и веток подобие крыши с отверстиями для наблюдения, после чего влезает в укрытие, прихватив с собой конец веревки. К колышку, вбитому возле перекидной палки и сети, он привязывает дикого голубя, который все время делает попытки взлететь, чем привлекает к себе внимание кружащегося на большой высоте сокола. Последний бросается на голубя, хватает свою жертву когтями, и в это время охотник, резко потянув за веревку, с помощью перекидной палки накрывает сокола и его добычу сеткой. Иногда приходится просиживать полдня, а то и весь день в ожидании момента, когда бдительная птица возьмет приманку.
С поимкой сокола кончается первая, наиболее простая и быстрая часть дела. Затем начинается сложный процесс воспитания в нем направленных, бойцовских качеств. На первое время, чтобы он не улетел и привык к человеку, ему одним стежком прошивают веки обоих глаз и завязывают нитки. Эта операция для птицы безболезненна. Созданная таким образом искусственная слепота делает сокола абсолютно беспомощным и малоподвижным. Он теряет способность летать и передвигаться. Живет он на воле, в клетку его не сажают. В течение нескольких дней сокол привыкает к своему имени, голосу и свисту своего хозяина, из рук которого он ощупью берет пищу. Укротив его свирепый нрав и приручив к себе лаской, сокола обучают сидению на предплечье, закрытом плотной кожаной рукавицей с большим и указательным пальцами. После указанной дрессировки птице расшивают глаза и тотчас же на голову надевают кожаный колпачок, прикрывающий их.
Наступает новый этап дрессировки. Сокола учат сидеть на специальном полуметровом насесте, втыкаемом прямо в песок рядом с жилищем бедуина. Противоположный конец насеста имеет вид блюдца, он полумягкий, обтянут кожей. К нему привязывают сокола. Иногда кожаный колпачок, прикрывающий его глаза, снимают и соколу дают возможность посмотреть на мир. Время от времени хозяин окликает его, зовет свистом, на который сокол уже реагирует поворотом гордо посаженной головы. После этого птицу привязывают на более длинный поводок и хозяин заманивает его к себе на предплечье небольшим кусочком мяса, зажатым кистью в кожаной рукавице между (большим и указательным пальцами. Позвав сокола, хозяин показывает ему мясо. Сокол взлетает, садится к нему на предплечье, берет мясо, и тут же хозяин водворяет его на свое место. Так повторяется несколько десятков раз. При этом необходимо соблюсти важное условие – сокол должен быть голодным: насытившись, он перестает выполнять команду.
Затем приступают к натаскиванию сокола на дичь. Подбитую птицу – это чаще всего дрофа – бросают опять-таки голодному соколу, сначала неподалеку от его насеста. Отвязанный сокол бросается на дрофу и захватывает ее когтями. Но терзать ему свою жертву не дают. Подоспевший хозяин тут же уводит сокола на место и дает ему кусочек мяса. Чтобы освободить жертву от когтей хищника, хозяин подолом дишдаши закрывает от взора сокола дрофу. Раздражитель из поля зрения хищника исчезает, и он спокойно переходит на покрытое перчаткой предплечье хозяина. Такую операцию повторяют несколько десятков раз, пока сокол не насытится мясом. После этого тренировку прекращают до следующего дня, когда сокол вновь ощутит голод. С каждым разом дичь-приманку бросают все дальше и дальше, заставляя сокола пролетать значительные расстояния. Так, путем воспитания условных рефлексов человек заставляет сокола совершать целенаправленные действия. После каждой тренировки на голову соколу надевают кожаный колпачок, прикрывающий глаза, и тем самым снимают все внешние зрительные раздражители. Это способствует отдыху и быстрейшему закреплению выработанных новых условных рефлексов и, следовательно, вновь приобретенных навыков. Затем сокола приучают к звуку выстрела.

Охотник-бедуин с соколом. Глаза сокола прикрыты кожаным колпачком
Наконец настает день тренировок в пустыне. Хозяин водружает сокола на покрытое кожаной перчаткой правое или левое предплечье, надевает ему на голову колпачок и едет туда, где много дроф. Последние любят местность, покрытую низкорослым кустарником или травой. В предполагаемом месте их нахождения с головы сокола снимают колпачок и выстрелами из ружья или окриками поднимают дичь, а затем пускают по ее следу сокола. Хищник в воздухе настигает свою жертву, сбивает ее, хватает своими мощными когтями и прижимает к земле, а подоспевший на автомашине хозяин, опять-таки прикрывая от сокола дрофу подолом дишдаши, пересаживает его к себе на предплечье, забирает дичь и дает ему кусочек мяса. После нескольких таких полевых занятий сокол к охоте считается готовым.
Обычно полный курс дрессировки взрослого сокола требует 20–30 дней, после чего сокол привязывается к своему хозяину и прилетает на его зов издалека. Другие хищные птицы, такие, как ястребы и орлы, подобной дрессировке не поддаются.
Обычно на охоту собиралась группа в несколько человек. Ехали на двух-трех джипах. Охотиться в пустыне в одиночку опасно: случись что-нибудь – пропадешь. Помощи ждать неоткуда. Худшая из неожиданностей – это укус ядовитой змеи, которых в глубинных районах пустыни особенно много. «Хам» – черная кобра. Так назвали кувейтцы наиболее опасную из них, достигающую значительных размеров. «Ханич» – обыкновенная кобра, чуть меньшая по размерам и уступающая черной кобре по коварству.
Я спросил у знакомых охотников, как же бедуины живут в пустыне в открытых тентах-палатках. Ведь у них детишки и пр. Они сообщили мне любопытную новость. Оказывается, змеи не переносят запаха баранины и овчины и к жилищу не приближаются. Одной-двух расстеленных или развешанных овечьих шкур или невымытого котла, в котором варилась баранина, оказывается достаточным, чтобы обезопасить себя от соседства со змеей.
Однако в пустыне встречаются не только змеи. Не менее опасны и укусы тарантула, скорпиона или фаланги. Поэтому во время охоты из автомашин выходят в исключительных случаях и с большой предосторожностью.
Отправляясь на охоту, мы выехали в становище бедуинов во второй половине дня, рассчитав время так, чтобы засветло добраться до места. Из Эль-Кувейта мы отправились в путь в юго-западном направлении по дороге, ведущей в нефтеносный район Минагиш, и миновали богатый подземной водой район Эс-Сулабийя. Проехав еще 25–30 км, мы повернули на запад, на дорогу, ведущую в пустынный район, расположенный между Умм-эр-Руш и Эн-Ниаим, и благополучно добрались до становища, где жили родственники одного из членов нашей группы. Плотно поужинав бараниной с рисом и фруктами – завтрак не предвидился – мы рано легли спать. Из чисто санитарно-гигиенических соображений я устроился спать в кабине машины. Подъем был назначен на три утра.
Поднявшись затемно и разместившись на двух автомашинах, мы при свете фар двинулись прямо на юго-запад, по направлению к границе сСаудовской Аравией. Когда начало светать, мы добрались до места охоты. Фары были выключены, и каждый из охотников занял в джипе удобную позицию: кто сидел на спинках сидений, кто на капоте, а кто сзади на багажнике. Наши обязанности были распределены следующим образом: каждому из стреляющих (нас было трое) был дан определенный сектор обстрела, а сокольникам (их было тоже трое) – строго определенное направление, по которому они могли пустить сокола в погоню за поднятой дичью. Короче говоря, получалось так, что один стреляющий и один сокольник били и травили дичь, поднявшуюся справа от идущей автомашины, и только в этом направлении, вторая пара – по ходу джипа, а третья – слева от него.
Такое строгое распределение обязанностей каждого из нас исключало возможность размахивания в порыве охотничьего азарта заряженными ружьями перед лицом соседа, что могло привести к весьма нежелательным последствиям: возможности ранить кого-нибудь из охотников или подбить вместо дрофы с таким трудом пойманного и выдрессированного сокола. При этом, видимо, был мудро учтен и мой опыт, а вернее, полное отсутствие такового.
Охота показала, что принятые охотниками меры безопасности оказались не напрасными. Ранить я никого не ранил, но убить сокола я все же попытался. Дело в том, что в пылу охоты я упустил момент, когда очередного сокола пустили вдогонку поднявшейся дрофе. Это случилось уже в конце охоты, когда все изрядно устали, а внимание и бдительность притупились. Стрелял я по соколу, приняв его за дрофу, из двух стволов, дуплетом, с явным намерением убить его. И то, что я не лишил его жизни, было простой случайностью. Птица оказалась проворнее меня. Услышав шелест дроби после первого выстрела, пущенного выше сокола, он, ошалев от испуга и неожиданности, камнем бросился вниз, и мой второй заряд был выпущен уже в пустое пространство, туда, где мгновенье тому назад находился сокол. Все это сбило с толку сокола, и он, обескураженный, прекратил преследовать свою добычу, а охотники принялись за меня. И они были правы. Оказывается, я нарушил основную заповедь соколиной охоты. Если на поднятую дичь пущен сокол, стрелять по ней нельзя.
Мой проступок сначала был встречен гробовым молчанием. Все насторожились. Мол, с ним нужно держать ухо востро. Гляди в оба, а то, неровен час, подстрелит и человека! Потом один из охотников повел рассказ, который мне перевели уже позже и смысл которого сводился к необходимости уметь отличать верблюда от лани, сокола от дрофы и т. д. Было время, когда, продолжал он, за подобные проступки охотника в наказание оставляли на сутки одного в пустыне. При этом он угрожающе посматривал в мою сторону. Оказывается, я стрелял по его соколу. Как мне объяснили потом, стрелять по летящим дрофам можно лишь в том случае, если они взлетают вблизи от движущейся с небольшой скоростью автомашины (это гарантирует хорошее попадание в них) или если одновременно поднялось несколько птиц, уходящих в разные стороны, а сокол пущен только по следу одной из них.
Настрелялись мы в тот день вволю, но взяли только зайца «арнаб» да двух дроф – крупных жирных самцов, которых во время последнего вечернего привала разделали, испекли на костре и съели. Везти их в город в качестве охотничьих трофеев, как это ни было для нас – и особенно для меня – заманчиво, представлялось неразумным: по дороге дичь бы протухла. Но одно крыло от птицы в качестве сувенира я все же сохранил как память об охоте в пустыне. Небольшого же зайца, по которому стреляли двое охотников, пришлось выбросить, так как мясо его протухло и оказалось несъедобным.
Более чем за десять часов непрерывной охоты мы исколесили два больших пустынных западных района Кувейта – Эд-Дибдиба, вблизи Саудовской Аравии, и Шаккат, вблизи Ирака. Граница в упомянутых зонах не была маркирована и почти не охранялась. В связи с трудностью подвоза в эти места продовольствия и воды и очень тяжелыми климатическими условиями, особенно в летнее время, стационарных военных пограничных постов здесь почти не было. Редко в этих глухих местах можно было увидеть патрульный джип с пограничниками. Не мудрено, что мы в один день побывали и в Саудовской Аравии, и в Ираке. О том, что мы нарушили границы соседних государств, нам стало известно от пастухов-бсдуинов, пасших стада верблюдов на территории упомянутых стран вблизи кувейтской границы. Оказывается, увлекшись поисками дичи, мы, сами того не зная, колесили вначале по территории Саудовской Аравии, а чуть позже – и Ирака.
Упомянутые районы Кувейта хороши для охоты тем, что населенных пунктов и кочевий здесь очень мало, зато больше, чем в других местах, различных трав и саксаула – низкорослого древовидного кустарника (последний часто называют «деревом пустынь»). Здесь обитают быстрые и грациозные газели, лисицы, шакалы, волки, гиены, дикие кошки и гепарды. Некоторых из этих животных мы видели во время охоты, но они каждый раз быстро скрывались в расположенных поблизости вади.
Возвращаясь в Эль-Кувейт, я уговорил владельца джипа, в котором было еще двое пассажиров, заехать в нефтеносный район Минагиш, принадлежавший «Кувейт Ойл Компани Лимитед», чтобы осмотреть его. Этот район лежал в юго-восточном направлении от нашей дороги, в 20–25 км от нее. Уставший водитель пробовал отговорить меня и обещал, что свезет меня туда в другой раз. Но, принимая во внимание мою занятость и огромное желание узнать как можно больше о стране, хозяин джипа, правда после моего мягкого нажима, все же сдался.
Нефтеносный район Минагиш мало чем отличался от других нефтеносных районов, принадлежавших КОК. Те же самые скважины, от которых отходили нефтепроводы первого порядка, несшие в себе нефть на нефтесборные пункты. Здесь нефть очищалась от газа. Последний отводился по трубам в сторону и здесь же сжигался. От нефтесборных пунктов, где происходила первичная обработка, нефть по нефтепроводам второго порядка поступала в нефтехранилища Эль-Буркана и частично Эль-Ахмади. Дальнейший путь нефти был таков. Нефть поступала либо на нефтеперегонный завод, где разделялась на фракции (из нее готовили бензин, керосин, газолин и другие нефтепродукты), либо на нефтеочистительный завод (где она очищалась от серы) и затем – в нефтеналивные танкеры. Вывозилось также большое количество так называемой сырой, неочищенной нефти. Район Минагиш сплошь был изрезан нефтепроводами, объезжая которые можно очень легко запутаться и сбиться с пути. Выглядели они как длинные лапы гигантских пауков, опоясавших поверхность пустыни в разных направлениях и сосущих ее недра.