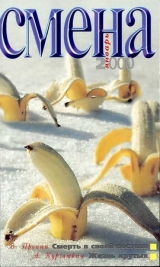
Текст книги "Смерть в своей постели"
Автор книги: Виктор Пронин
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 15 страниц)
– Да.
– И решения своего не измените?
– Нет, – сказал Пафнутьев, улыбаясь широко, неуязвимо и немного глуповато, чтобы не заподозрил Скурыгин пакости против него, чтобы за настойчивостью следователя не видел ничего, кроме заботы о нем, об узнике, – отощавшем, одичавшем и заросшем непотребной растительностью.
– Бедный Объячев! – вдруг жалостливо протянул Худолей тонким бабьим голосом, будто оплакивал хозяина, лежащего тут же в гробу. – Как же ему пришлось повозиться с вами, прежде чем удалось убедить подписать бумаги! Как же он маялся и страдал, какие же доводы приводил!
– Неделю не кормил – вот и все доводы, – с неожиданной жесткостью сказал Скурыгин и первым направился к лестнице. – Настойчивость – это хорошее качество, – обернулся он к Худолею. – Но, как и все остальные качества, должна иметь какие-то пределы.
– Жизнь без начала, без конца! Нас всех подстерегает случай, над нами сумрак неминучий, иль ясность Божьего лица! – с выражением произнес Худолей, и ни Пафнутьев, ни Скурыгин не могли понять, что он хотел этим сказать, на что намекал.
Однако, как бы там ни было, Худолей добился желаемого – разговор прекратился, и все молча поднялись на первый этаж подвала. Здесь уже было окно, сквозь немытые стекла пробивалось вечернее солнце, сверху доносились человеческие голоса, и, вообще, создавалось впечатление, что жизнь все-таки продолжается не только в темных казематах, но и в нормальных условиях при ясном свете дня.
Пафнутьев бдительно проследил, чтобы Скурыгину не только выделили комнату в доме, но и чтобы он в нее вошел, в ней остался, чтобы в ней не оказалось другого выхода, кроме того, который контролировали шаландинские оперативники. Вохмянина принесла постель, застелила широкую кушетку, следуя каким-то странным традициям, установившимся в последнее время, оставила на столе бутылку виски, три стакана, на спинку стула бросила халат.
– Отдыхайте, – сказала она. – Обед через два часа. Ванная напротив.
– Спасибо, – поклонился Скурыгин. – Вы очень добры.
– Я знаю, насколько я добра.
– Это новое место моего заключения? – спросил Скурыгин у Пафнутьева, когда они остались одни.
Вроде ничего обидного не сказано, но Пафнутьева задел этот вопрос. Было в нем какое-то превосходство, сквозило недовольство – Скурыгин, оказывается, до сих пор обижался на то, что не позволили ему на какое-то время задержаться в своей подземной камере.
– Называйте эту комнату, как вам угодно. Хоть общественным туалетом. Но выходить из нее я не советую слишком часто и слишком далеко.
– Далеко от дома?
– Нет. Далеко от комнаты. Из дома вообще выходить не следует.
– Это приказ?
– Настоятельный совет.
– И мне решать – воспользоваться ли этим советом?
– Да, решать вам. А мне решать, как с вами поступить, если этим советом пренебрежете.
– Вам не кажется, что у вас несколько жестковат тон? Освобожденный заложник мог бы надеяться на более теплое отношение.
Пафнутьев постоял, опустив голову, подошел к окну, убедился еще раз, что выбраться из комнаты этим путем невозможно, вздохнул и направился к двери.
– Вы мне не ответили, – напомнил Скурыгин.
– Отдыхайте.
– У меня остались вещи внизу… Как с ними быть?
– Вам их принесут.
– Кто?
– Сам принесу.
– Это тоже входит в ваши обязанности?
Не надо бы Скурыгину задавать такой вопрос, ох, не надо бы. Услышав эти слова, Пафнутьев вздохнул, наконец, легко, даже освобожденно – теперь он может говорить с этим человеком как угодно, ничто его уже не сдержит, и никакие правила приличия не помешают задавать те вопросы, которые покажутся уместными.
– Я, кажется, начинаю понимать Объячева, – сказал Пафнутьев и, не добавив больше ни слова, вышел.
На площадке между этажами его поджидал Худолей. Глаза его радостно сияли, розоватые ладошки порхали в воздухе легко и непринужденно.
– Паша, послушай… У меня есть очень хороший товарищ, он живет в городе Запорожье на берегу Днепра, его зовут Подгорный Владимир Иванович. Он преподает в машиностроительном институте, и каждый день ректор лично выдает ему два пакета молока за вредные условия работы. Представляешь?
– В чем же вредность его работы?
– А студентки! – вскричал Худолей. – Прекрасные студентки, которые смотрят на него потрясающими своими глазами, приоткрыв от волнения совершенно непереносимые алые свои губки… А коленки, Паша, ты видел, какие у них коленки? Ты вообще-то давно видел юные коленки, выступающие из-под коротеньких юбчонок? Отвечай, давно?
– Сколько лет твоему другу?
– Вообще-то, ему седьмой десяток, но это ни о чем не говорит!
– Это говорит о многом, – мрачно сказал Пафнутьев.
– О чем же, Паша?
– Это говорит о том, что твой Владимир Иванович Подгорный неплохо сохранился на ректорском молоке.
– Ты ничего не понял, Паша! Это не ректорское молоко! Молоко коровье! Ректоры не доятся!
– Когда увидишь своего запорожского друга, обязательно передай ему от меня привет.
– Спасибо, Паша! Я так и скажу… Владимир Иванович, скажу я, тебе большой и горячий привет от Паши Пафнутьева.
– Так и скажи. Что ты там устраивал в подвале? Нашел что-то?
– А как ты догадался?
– Скажи уже, наконец!
– Напильник.
– Которым можно выпилить дверь?
– Нет, им можно заточить велосипедную спицу. А плоскогубцами, которые валялись там же, в углу, на полу, можно эту спицу вывинтить. Ты помнишь, какие страшные заусеницы оставил убийца на крепежной гаечке? Помнишь? Так вот, эти плоскогубцы оставляют такие же заусеницы.
– А в напильнике остались металлические опилки от спицы, – не то спросил, не то сам себе сказал Пафнутьев.
– Наверняка!
– Срочно на экспертизу.
– Уже созвонился. Меня ждут.
– Молодец. Умница.
– Каждый раз, Паша, когда ты меня хвалишь, я сразу прикидываю, а что он мне подарит? Чем наградит? Как отметит усердие и выдающиеся результаты работы? Это я все, Паша, думаю про себя и, конечно, надеюсь. Что делать, надежда умирает последней. Может, думаю, приказ какой-никакой напишет и меня между строк упомянет в хорошем смысле…
Пафнутьев вслушивался в безостановочный словесный худолеевский поток и все больше проникался подозрением – что-то еще у того есть, какую-то еще зацепку он обнаружил, если позволяет себе вот так безнаказанно пожирать чужое время.
– Говори, слушаю тебя внимательно, – прервал, наконец, Пафнутьев своего эксперта..
– Хорошо, – тут же согласился Худолей, словно именно этих слов и ждал. – Помнишь какой хороший, добротный стол соорудили строители для узника? Помнишь? Ты сидел за этим столом, на нем еще стояла литровая бутылка виски за две тысячи рублей… Ты должен этот стол запомнить.
– Запомнил.
– Ты вот, Паша, прости меня, конечно, за этим столом кроме бутылки виски да одичавшего заложника ты ничего и не увидел.
– А ты увидел?
– И очень много.
– Например?
– Я увидел, Паша, следы. Когда за столом из толстых свежих досок, сосновых, мягких, пахнущих смолой и лесом… Так вот, если на такой доске нарезать хлеб – останутся следы от ножа. А если за таким столом обработать металлическую деталь, спицу, например, велосипедную или еще там что… то на столе образуются вмятины, следы напильника, оттиски самой спицы, а во впадинах, как ты не протирай этот стол, обязательно останутся металлические опилки. Пусть совсем маленькие, пусть их будет немного, пусть они незаметны невооруженным глазом, но они будут. И когда я восхищался столом и мечтал такой же иметь на даче, а ты навязывался ко мне в гости в расчете на дармовую выпивку, прости, Паша, но это было, было…
– И что?
– Так вот, я не восхищался столом и в гости тебя не звал, не звал, Паша, как это для тебя не прискорбно.
– Что же ты делал?
– Ощупывал стол чуткими своими пальчиками. И все, о чем я тебе рассказал, я там увидел грубо и зримо. Ты помнишь, как этот мохнатый узник не хотел уходить из своего подвала? Помнишь, как он до неприличия отвратительно цеплялся за этот каземат, чтобы побыть там одному, чтобы сменить свои заношенные трусики…
– Он убийца?
– Паша! Как ты можешь говорить подобные мерзости? Убийцей его может назвать только суд. А мы с тобой, слабые и хилые чернорабочие правосудия, можем только поделиться скудными своими соображениями. Я не знаю, убийца ли этот Скурыгин… Может, ему стол подсунули, может, подменили, может, напильник подбросили… Все, что происходит в доме, эта гора трупов, это многократное и безжалостное лишение человека жизни, человека, за счет которого все они жили, и неплохо жили… Вспомни только ящики с виски… Это кошмар, Паша! Это ужас какой-то и полный беспредел. Ты думал, что до сих пор сталкивался с беспределом? Нет, Паша. Только здесь, только сейчас, вместе со своим лучшим другом и бескорыстным соратником… Это я себя имею в виду… Ты столкнулся с настоящим беспределом. Сколько у нас с тобой трупов?
– Объячев, строитель, бомж… Три.
– А сколько убийств?
– Только на одного Объячева четыре приходится.
– Таким образом, шесть убийств и три трупа. Странные какие-то цифры, Паша. Не убеждают они меня. Нет, не убеждают и не кажутся гармоничными.
– В чем не убеждают? – отшатнулся от неожиданности Пафнутьев. – В чем они должны тебя убеждать?
– Видишь ли, Паша. – Худолей подпрыгнул и сел на пыльный подоконник. – Видишь ли, Паша, я готов поделиться с тобой заветными знаниями. – Он отвел в сторону свою ладошку, посмотрел на нее – хорошо ли, красиво ли она смотрится, и продолжил: – Оглянемся в темное прошлое, покрытое густой завесой веков… Хорошо сказано, да? Мне самому понравилось. Так вот, какие цифры мы там видим… Семь раз отмерь, семь пядей во лбу, у семи нянек вечно происходят какие-то неприятности… С другой стороны, двенадцать, то есть дюжина, воспетая во многих былинах, сказаниях, пословицах… Но есть и чертова дюжина – тринадцать!
– Да, я слышал об этом, – с легкой досадой от худолеевского многословия кивнул Пафнутьев. – Какой вывод ты из всего этого кладезя знаний вывел?
– Три трупа – это очень хороший знак, на этом все могло закончиться, если бы не одно досадное обстоятельство – четыре попытки убийства Объячева. И вот цифра «четыре» нашу с тобой тройку делает какой-то щербатой и требует, Паша, требует от высших сил исправления.
– Исправление – это что?
– Надо получить более устойчивое, надежное, непоколебимое число.
– Каким образом?
– Нужен труп.
– Еще один?! – ужаснулся Пафнутьев.
– Хотя бы один! И еще, Паша… Сделано всего шесть попыток убийства. Четыре попытки падают на Объячева, две попытки на остальных. Число «шесть» тоже плохое.
– Что значит плохое?
– Зыбкое, неустойчивое ни во времени, ни в пространстве, какое-то растекающееся число. «Четыре» тоже ни то ни се, два трупа – тут даже, ты понимаешь, плохо. Одно неприличие.
– Тебе обязательно надо повидаться с гадалкой. Как ее зовут, я все забываю… Эсмеральда?
– Элеонора.
Пафнутьев чувствовал, что по должности, по сложившимся отношениям с Худолеем он просто обязан отнестись к его словам насмешливо и снисходительно. Но в глубине души понимал, более того, знал – в чем-то важном эксперт прав. И дело не столько в древних законах сочетания цифр, хотя и это отметать он был не склонен. В сложившемся в доме положении Пафнутьев ощущал зыбкость, о которой сказал Худолей. Зыбкость, неопределенность, нечто если не растекающееся, то зреющее. Ни убийство Объячева, ни смерть строителя или бомжа не сняли напряжения в доме. Смерти не примирили оставшихся, не сгладили их неприятия друг друга. Поэтому Пафнутьев за всеми мистическими рассуждениями Худолея видел смысл, чувствовал, что тот произносит вещи здравые и обоснованные, несмотря на цифровую чертовщину.
В кармане Пафнутьева запищал сотовый телефон и прервал его оккультные размышления о худолеевских предчувствиях.
– Слушаю, – сказал Пафнутьев.
– Шаланда в эфире! – радостно прокричал начальник милиции.
– Рад слышать тебя, Шаланда! Хорошие новости?
– Откуда знаешь?
– По голосу слышу. Что наш строитель? Заговорил?
– Мне кажется, Вулых тронулся умом.
– В чем это выражается?
– Он может говорить только о миллионе долларов. И больше ни о чем. Любой вопрос воспринимает, как интерес к миллиону. Его замкнуло, Паша.
– Но смерть Петришко он помнит?
– Может быть, и помнит. Может, нет. Его глаза сошлись к переносице, остановились и остекленели.
– Как я его понимаю!
– Да? – насторожился Шаланда. – Это в каком же смысле?
– Если бы у меня отняли миллион долларов, у меня тоже глаза сошлись бы к переносице и остекленели. Навсегда.
– А! – облегченно вздохнул Шаланда, убедившись, что его не разыгрывают. – Я вот еще чего звоню… Общественность взбудоражена, Паша! Народ требует подробностей. В городе страшные слухи. Какие-то люди рассказывают, что сами видели подвалы объячевского дома, забитые трупами. Говорят, он был людоедом и лакомился младенцами. Представляешь? И это еще не все, Паша, это еще не самое страшное.
– Неужели что-то может быть страшнее?
– Якобы он был в сговоре и с милицией, и с прокуратурой!
– Не знаю, как насчет сговора, но могу тебя порадовать кое-чем пострашнее… В подвале объячевского дома обнаружен узник.
– Что?!
– Узник, говорю. Худолей обнаружил. Весь зарос, одичал, слова человеческие забыл, бросается на людей. Кое-кого уже искусал.
– Ты шутишь! – твердо сказал Шаланда, но просочилось все-таки в его голос сомнение – неужели и такое может быть?
– Помнишь, несколько месяцев назад пропал бизнесмен по фамилии Скурыгин? С дурацким именем Эдуард Игоревич, помнишь?
– Ну?
– Нашелся.
– Где?!
– В личной тюрьме Объячева. Это он одичал, Жора, это он забыл человеческую речь, зарос густой шерстью и бросается на людей. Я тебе о нем рассказываю. Сначала Объячев его на цепи держал, а потом, когда убедился, что тот сбежать не может, разрешил по клетке ходить. Сейчас дает показания.
– Ты же сказал, что он слова позабыл?
– Обходится теми, которые помнит.
– А смысл? Цель? Зачем это Объячеву?
– За эти несколько месяцев Скурыгин подписал кабальные договоры, расписки, доверенности… Подозреваю, что он взял на себя все объячевские долги.
Шаланда долго молчал, сопел в трубку, переваривая услышанное, видимо, что-то записал на бумажке, кому-то что-то ответил, прикрыв трубку рукой, и, наконец, понял.
– А что, – сказал он почти игриво, – очень даже может быть! Это, кстати, не первый случай. Если твой Худолей думает, что он столкнулся с чем-то невиданным, то передай ему…
– Жора, мы все с этим столкнулись.
– Где он сейчас, этот узник?
– Отдыхает, вспоминает свое подземное существование. Ему есть что рассказать общественности.
– Мне тоже будет что рассказать. Значит так, Паша… Нас с тобой пригласили сегодня на вечерний выпуск новостей. Город жаждет правды. И люди имеют право знать правду.
– Я тебе, Жора, сказал еще не все, – перебил Пафнутьев. – Суть-то в том, что последнее время Скурыгин сидел в своем подземелье при открытых дверях.
– Это как? – не понял Шаланда.
– Он мог выйти на свободу в любое время.
– Почему же не уходил?
– Боялся.
– Кого?!
– Людей, которым задолжал, не вернул деньги, товар, которые ищут его после того, как он подписал бумаги. Объячев показал везде, где только мог, документы, из которых следует, что должник не он, должник – Скурыгин. Поэтому тот не столько сидел в объячевском подвале, сколько отсиживался, спасался в этом самом подвале.
– Паша, ты пойдешь со мной на передачу?
– Знаешь, Жора… Чуть попозже. Сходи один. У тебя больше успехов, твои ребята поймали человека с миллионом долларов… Тебе есть что рассказать. А что я? Пустое место.
– Как знаешь. – Шаланда не стал спорить и доказывать, что Пафнутьев тоже кое-что мог бы рассказать, но тем и отличался Шаланда, что его можно было легко убедить в собственном превосходстве – он этому верил сразу и до конца.
– Худолей вот тоже не хочет, к тому же у него сегодня связность речи нарушена. Хромает у него связность речи.
– Пьет? – жестко спросил Шаланда.
– Так можно сказать, но знаешь, сегодня он активно закусывает. Можно сказать, обильно.
– Гнал бы ты его, Паша. Я тебе могу такого эксперта предложить… Потрясающий парень.
– Не пьет?
– В рот не берет. Прислать?
– Чуть попозже, Жора, чуть попозже.
– Ладно, пока. Не пропусти последние известия.
Пафнутьев сложил коробочку телефона, сунул ее в карман и, подпрыгнув, уселся рядом с Худолеем на подоконнике. Это место было хорошо хотя бы тем, что здесь их наверняка никто не подслушивал, а они просматривали и лестницу, которая шла вниз, и лестницу, которая шла наверх. И передвижение всех жильцов дома было перед ними как на ладони.
– Не любит меня Шаланда? – спросил Худолей.
– Замену предлагает.
– А ты?
– Ты же слышал… Сказал, что чуть попозже. Он по телевидению сегодня выступает. Будет рассказывать о своих поисках и находках. Город, говорит, взбудоражен, люди хотят знать правду, их надо успокоить, а то прошли слухи, что здесь подвалы забиты трупами, а сам Объячев питался младенцами.
– Бедные младенцы, – вздохнул Худолей. – Только вот что я тебе, Паша, скажу… Не надо бы нам так усиленно работать, так стремиться к истине и поставлять Шаланде материалы для выступлений перед жителями города. Спешка, она, ведь, никогда до добра не доводит. Не зря народ сказал… Поспешишь – людей насмешишь. И мы с тобой можем так насмешить всех наших знакомых, что они будут по земле кататься каждый раз, как только увидят тебя или меня. Обещай, мне, Паша, что ты не будешь очень уж спешить раскрывать это дело. Я, ведь, тебе уже говорил об этом, предупреждал о грозящей опасности.
– Но поясни хотя бы свою глубокую мысль, а то я здесь, честно говоря, стал хуже соображать.
– Это заметно, Паша.
– Внимательно тебя слушаю.
– Паша, в этом доме столько виски, в этом доме столько виски, что если все останется здесь… Мы себе этого никогда не простим. А люди будут над нами смеяться. Одни будут зло смеяться, другие ехидно, но самым обидным будет просто веселый, безудержный смех. Ты обещал, Паша, не торопиться.
– Да, обещал.
– И у меня в связи с этим разговором возникла совершенно невероятная мысль, просто как счастливое озарение. И все существо мое воспрянуло и затрепетало.
– Ну?
– А не выпить ли нам по глоточку? Нас здесь никто не осудит, Паша.
Ответить Пафнутьев не успел – снизу раздалось пыхтение, тяжелые шаги, и перед ними возникла плотная фигура Вохмянина. Преодолев последние ступеньки, он остановился на площадке, смахнул пот со лба, перевел дыхание. На Пафнутьева и Худо-лея он смотрел затравленно и выглядел откровенно несчастным.
– Маргарита мертва, – сказал Вохмянин негромко, одними губами, и сел на грязную, засыпанную песком и цементом площадку, опустив ноги на ступеньки.
– Соскользнула все-таки, – пробормотал Пафнутьев.
– Что? – поднял голову Вохмянин.
– Кто-то мне говорил совсем недавно, что Маргарита уже соскальзывает в небытие, уже нет у нее в жизни опоры. Не на что ей опереться. Или, точнее будет сказать, не на кого. Где она?
– У себя в комнате. Как и муж, умерла в своей постели.
– Кажется, я начинаю к этому привыкать, – вздохнул Пафнутьев.
– Я тоже, – сказал Вохмянин, не оборачиваясь, и впервые за последние дни в голосе его прозвучала неподдельная усталость.
– Хотя, казалось, это те вещи, к которым привыкнуть невозможно.
– Не знаю даже, что мне с вами делать, – пробормотал Пафнутьев. – Всех но комнатам запереть, что ли?
– А все и так по комнатам заперлись. – Вохмянин сидел лицом к ступенькам, уходящим из-под его ног вниз, в темноту. – Да и осталось-то нас не так уж и много… Мы с женой, Света, Вьюев… Кто еще? Да, наш родной зек… Скурыгин. Решил все-таки побриться, всю ванную шерстью загадил. Войти невозможно. Не он ли Маргариту порешил?
– Разберемся. – Пафнутьев спрыгнул с подоконника, отряхнул с себя пыль, оглянулся на Худолея. – Пошли, дорогой. У нас опять пополнение. Или убыль… Не знаю даже как и сказать. Остальные знают, что Маргарита мертва?
– А я и не скрывал, – пожал плечами Вохмянин.
– Для пользы дела мог бы и скрыть, – проворчал Пафнутьев.
Проходя по сумрачным переходам, Пафнутьев только сейчас в полной мере осознал, что, видимо, Объячеву нравилась в доме незаконченность, недостроенность, он явно не торопился побыстрее довести дом до жилого состояния. Прими он решение о скорейшем завершении строительства, дом можно было привести в порядок за месяц. Но он этого не делал, а в результате с потолка свисали электрические шнуры с тусклыми лампочками, пол устилала строительная пыль, немытые окна создавали ощущение непрекращающихся работ. Да, конечно, отдельные спальни, собственный кабинет, каминный зал были в порядке и давали ясное представление о том, каким в конце концов должен стать дом.
И спальня Маргариты тоже оказалась в порядке – паркетный пол был устлан мохнатым розово-лиловым ковром, тут же стоял большой комод, над ним – зеркало со встроенными светильниками. На окне висела тяжелая штора, помимо нее некое подобие уюта создавали полупрозрачные гардины. В углу на черной тумбе стоял телевизор, слишком большой телевизор для спальни – Маргарита, как уже знал Пафнутьев, любила, уединившись здесь, смотреть самую низкопробную порнуху с какими-то жеребячьими подробностями.
Войдя в спальню, Пафнутьев замялся на минутку, прикидывая, не следовало ли ему снять туфли, но, поколебавшись, снимать не стал. Перебьется, – подумал он о мертвой хозяйке. Ей это уже безразлично. И потом, здесь будет столько суеты, столько побывает людей на этом лиловом ковре, что отпечатки его одиноких следов будут наверняка затоптаны. Пройдя в спальню вслед за Пафнутьевым, Худолей тоже не стал снимать туфли, хотя как бы споткнулся о порог, как бы приостановился – слишком велика была разница между этой спальней и остальным домом.
Маргарита лежала на кровати, вытянувшись во весь рост, накрытая одеялом. Руки ее тоже были вытянуты вдоль тела, и только сейчас, всматриваясь в ее тельце, выступающее продолговатым бугорком, Пафнутьев осознал, насколько Маргарита была худа.
– Сколько она весила? – спросил он, обернувшись к Вохмянину.
– Понятия не имею, – ответил тот, выражая неподвижным своим лицом удивление таким вопросом. – Килограммов пятьдесят, наверное, вряд ли больше.
Пафнутьев осмотрел комнату. У самой кровати стояла все та же початая бутылка виски, тут же валялся длинный мундштук с недокуренной сигаретой. Сама Маргарита лежала в позе совершенно естественной. Никаких следов насилия Пафнутьев не увидел. Но зато заметил, что мертвое лицо Маргариты как бы улыбалось – легкая, почти неуловимая улыбка застыла на серых губах женщины. Она словно продолжала общаться с живыми, что-то выражала этой своей улыбкой.
Пафнутьев подошел ближе, отдернул одеяло – на теле не было следов ни от удушения, ни от ножа, ни от пули. Ничего.
– Что будем делать? – спросил Худолей.
– Шаланде надо звонить. Пусть присылает машину. Я что-то уже сбился со счета…
– Маргарита – четвертая, – подсказал Вохмянин.
– Что скажешь? – спросил Пафнутьев у Худолея. – Как относятся к этой цифре мистические силы.
Четыре – плохое число, Павел Николаевич. – Когда вокруг были люди, Худолей старался называть Пафнутьева по имени-отчеству. Но хватало его ненадолго – через несколько минут он опять переходил на «Пашу».
– В каком смысле плохое? – Пафнутьев хмуро посмотрел на Худолея. – На что намекаешь?
– Никаких намеков. Я сказал, что число плохое, оно действительно неважное… Зыбкое, струящееся, не имеющее четких границ ни в пространстве, ни во времени. Плывущее число.
– Если перевести твои слова на нормальный человеческий язык… – медленно проговорил Пафнутьев, но так и не закончил вопроса.
– Число может измениться, – ответил Худолей.
– Но меньше уже не станет?
– Никогда.
– Может только увеличиться? – продолжал Пафнутьев.
– Да, Паша, да. Пределов нет. Так говорят мистики, колдуны, провидцы и другие представители потусторонних сил.
– По науке, значит, все делается, не просто так, да?
Худолей лишь развел руками.
В спальне Маргариты к этому времени собрались едва ли не все обитатели дома – супруги Вохмянины, Света, настороженный Вьюев, выбритый и совершенно неузнаваемый Скурыгин. Посмотрев каждому в глаза, словно заглянув в душу, Пафнутьев прекрасно понял состояние каждого. Если Света была просто перепугана и, кажется, думала только над тем, как побыстрее убежать, удрать, уехать из этого дома, который постепенно превращался в какой-то морг, то Вьюев был откровенно печален. Его можно было понять – он потерял близкого человека. Когда-то у них с Маргаритой что-то было – любовь, молодость, болезненный разрыв, который и поныне, возможно, саднил и напоминал о себе. Вохмянины друг с другом не общались, и это тоже было объяснимо – он был объячевским телохранителем, а жена – объячевской любовницей. Сейчас в глазах полнотелой красавицы можно прочесть все что угодно, но уж никак не боль. Задумчивость была, даже раздумчивость – она как бы прикидывала будущие последствия этой смерти, свои собственные возможности. Взглянув еще раз на Вохмянину, Пафнутьев изумился – ему показалось, что он увидел удовлетворение.
– Кто последний видел Маргариту живой? – спросил Пафнутьев у Вохмяниной.
– Живой я не видела ее… Никогда. – Она твердо посмотрела Пафнутьеву в глаза.
– Не понял? – сказал он, хотя прекрасно уловил, что имела в виду женщина.
– Я хочу сказать, что она всегда была полумертвой, вымороченной. Если у нее и появлялся какой-то блеск в глазах, то разве что после стакана виски или после двух часов порнухи.
– Она всегда была такой?
– Такой она не была никогда, – прозвучал в наступившей тишине голос Вьюева. – Если ее забили, замордовали унижениями, пренебрежением, откровенным хамством… Это убийство, – Вьюев показал на узкое тело Маргариты, – тоже имеет свое объяснение, для него была причина.
– Какая? – спросил Пафнутьев.
– Ей принадлежал этот дом.
– Но вряд ли его получит убийца…
– Как знать, – произнес загадочные слова Вохмянин. Вроде, как самому себе сказал, про себя. И повторил: – Как знать… По-разному может случиться, – он посмотрел на жену. И та ответила ему взглядом долгим и каким-то непоколебимым.
– А что вы скажете, Эдуард Игоревич? – спросил Пафнутьев у Скурыгина, который, как остановился у дверей, так и стоял там в полном одиночестве. После того, как он срезал свою щетину ножницами, а потом еще и побрился, лицо его предстало худым, бледным, но не изможденным, нет. В глазах оставалась твердость, если не сказать, остервенелость. Была в нем какая-то своя правда. И это чувствовалось. – Как вам нравится жизнь на воле? Не потянуло снова в тишину подвала?
– Не потянуло. – Скурыгин покачал головой. – И жизнь на воле ничуть меня не удивила. Именно такой я ее и представлял, сидя в подвале, как вы изволили выразиться.
– Ого! – подумал Пафнутьев, у этого господина прорезается чувство превосходства. Скорее всего, они с Объячевым стоили друг друга, иначе не могли бы работать на равных, а они работали на равных. Правда, в конце Объячев нарушил правила игры, пренебрег своими обязательствами и посадил друга любезного в собственную кутузку.
– Ее убил Объячев, – опять в тишине прозвучал голос Вьюева. – Ее убила эта скотина.
– Покойники обычно этим не занимаются, – заметил Пафнутьев.
– Он убил ее, еще когда был жив.
– А, – протянул Пафнутьев. – Вы имеете в виду, что убил морально, нравственно, духовно… Я правильно понимаю?
– Да, она еще самостоятельно передвигалась по этому кошмарному сооружению, находила в себе силы выпить стакан виски или посмотреть нечто такое же кошмарное, как и этот дом… Но была уже почти мертва.
Вьюев замолчал, потом неожиданно шагнул к кровати, упал на колени и опустил лицо в одеяло. Похоже, он единственный переживал смерть Маргариты искренне и тяжело.
– Прости, прости, дорогая, – пробормотал он и, неловко поднявшись, вышел из комнаты в коридор.
Пафнутьев проводил его сочувственным взглядом, повернулся к Худолею – а ты, мол, что скажешь? Но тот лишь беспомощно развел руками – все было настолько очевидно, что даже его утонченная натура не почувствовала ничего двусмысленного, ложного, фальшивого.
– А ведь он прав, – сказал Скурыгин. – Вот вы, – он повернулся к Пафнутьеву, – все убийц ищете, а убийца-то, оказывается, первым отошел в лучший мир.
– Разберемся, – неуязвимо ответил Пафнутьев – не трогали его подобные уколы, укоры. То ли привык к ним, то ли действительно не видел в них ничего, что задевало бы самолюбие.
– Разберетесь? – Скурыгин удивился, но с насмешкой. – Должен вам сказать откровенно – очень в этом сомневаюсь.
– В чем сомневаетесь? – спросил Пафнутьев.
– В том, что вам удастся распутать этот клубок с четырьмя трупами.
– А почему? – простодушно удивился Пафнутьев. – Вас смущают мои умственные способности? Или мои помощники кажутся беспомощными?
– Может быть, они и не совсем беспомощны… Но и трезвыми я их не видел.
Это уже был удар. Причем, достаточно болезненный. Несколькими словами Скурыгину удалось задеть и Худолея, и Пафнутьева. Но Худолей молчал, он всегда молчал, когда с кем-то разговаривал Пафнутьев.
– Так ваше же освобождение обмывали, Эдуард Игоревич! – рассмеялся Пафнутьев. – Вы на свободе всего с утра, а уже много выводов сделали, правильных выводов, чувствуется, что человек вы образованный и смелый. Опять же, в делах преуспеваете. Правда, время от времени почему-то в подвалах оказываетесь, но тут уж, как говорится, судьба.
– Если я вас обидел, простите. Право же, мне не хотелось этого.
– Вы? Меня? Его? – Пафнутьев куражливо указал на Худолея. – Скурыгин, вы должны портрет этого человека заказать знаменитому художнику Шилову, а потом заплатить все оставшиеся у вас деньги, но выкупить у Шилова портрет, на котором этот человек должен быть изображен на лошади, со знаменем в руках, с горящим взглядом, на фоне сражающихся армий! Выкупить, заказать золотую раму и повесить у себя в конторе.
– У меня не контора. У меня офис.
– А для офиса закажите Шилову еще один портрет, где ваш спаситель должен быть изображен в окружении соратников и красивых юных женщин.
– И по какой причине я все это должен проделать?
– Если бы не этот человек, от которого так приятно попахивает хорошим виски, если бы не этот человек, то сидеть вам в объячевском подвале и поныне. А поскольку жить в этом покойницком доме невозможно, поскольку не завтра-послезавтра все отсюда съедут с чувством величайшего душевного удовлетворения, то остались бы вы в своем подвале надолго, другими словами, навсегда. А вы говорите – пьян.
– Виноват. – Скурыгин склонил голову перед Худолеем и вытянул руки вдоль туловища. – Виноват. Заверяю вас – больше этого не повторится.
– Как не повторится? – удивился Худолей. – Я надеюсь сегодня еще повторить разок-другой. Если, конечно, хозяйка не будет возражать. – Он уважительно посмотрел на Вохмянину.








