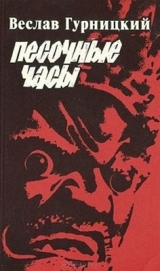
Текст книги "Песочные часы"
Автор книги: Веслав Гурницкий
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 21 страниц)
CXXXI–CXL
CXXXI. Эти соотнесения с Западом не просто отступление. Они являются неотъемлемой частью того логического ряда, без которого нельзя понять события в Кампучии.
Если внимательно приглядеться к существу действий Пол Пота, можно прийти к ошеломляющему выводу, что идеология «Ангки» была в гораздо большей степени плодом западноевропейского варианта маоизма, чем чисто азиатским продуктом. Приблизительно так же могло бы выглядеть государство «красных бригад» в Италии, группы Баадер-Майнгоф в ФРГ или самых крайних разновидностей партизанского движения в городах Латинской Америки. Вернее сказать, не государство, ибо данное слово почитателями «урочного часа» предано анафеме, а какая-то трудно определяемая форма социальной жизни. Эти люди так и не представили позитивной программы, не считая набора общих фраз, но трудно ведь видеть в них, во всех без исключения, патологических убийц или одержимых клинической антропофобией, как Мэнсон. Конечно, выводы в их рассуждениях иррациональны, но в рациональном характере исходных посылок действительно трудно сомневаться, если ты видел на Западе что-то кроме витрин, на виа Национале и читал что-нибудь кроме бульварных вечерних газет.
То же самое можно сказать о группе Пол Пота. Исходные посылки почти все поддаются рациональному объяснению, а выводы ввергают в изумление. Вопрос в целом гораздо сложнее, чем в том случае, если бы речь шла просто о каком-то «азиатском безумии».
Если есть различия между «европейской» и «азиатской» психикой (хотя пользование такими понятиями всегда граничит с шарлатанством), то всего явственнее они проявляются в момент, отделяющий принятие решения от свершения первых конкретных действий.
Европейцы (и американцы) стараются максимально сократить промежуток времени между выработкой решения и началом действия. В Азии этот промежуток подчас бесконечно долог. Европа и Америка – community of doers, общество деятельных людей, представляющееся им достаточно исправным или хотя бы сознающим имеющиеся недостатки. Сегодняшняя Азия – это время, плывущее сквозь пальцы, неповоротливость всего материального, отсрочки и оттяжки. Не поддается пересчету количество верных решений, оздоровительных реформ и далеко идущих планов, которые никогда не были проведены в жизнь, и не по причинам принципиального характера, а потому, что каким-то образом и неизвестно где расплылись или завязли в повсеместной немощи. Все замедляется и тормозится азиатским давлением: меркнут цвета слов, размывается смелость мысли. Убийственный климат играет, вероятно, существенную роль, традиция тоже. Но есть в этом и нечто большее, хоть и трудноопределимое, но ощутимое в каждой отдельно взятой стране. Влияние великих азиатских верований и философских учений, которые гораздо раньше приняли во внимание существование вечности, чем это сделали народы позднейшей средиземноморской культуры? Естественный закон минимализации усилий ввиду их очевидной бесцельности? Накопленная мудрость поколений, согласно которой человеческие надежды очень редко осуществляются в форме, приближенной к идеалу?
В какой-то степени это сказалось и на азиатских революциях. Моменты подъема быстро сменялись здесь периодами застоя и медленных изменений. Нетерпеливость, столь характерная для постоянного состояния умов в Европе и Северной Америке, выплескивалась в короткой вспышке, а потом преображалась в неторопливую суетню. Это и была та инерция, то доводящее до отчаяния сопротивление истории, против которого выступила группа Пол Пота в публицистике пятидесятых годов. Пол Пот был, пожалуй, единственным из сторонников радикальных преобразований в Азии, кто воевал против азиатской инерции с самого начала своей деятельности, ибо ни в произведениях Мао, ни в индонезийской или вьетнамской партийной публицистике, ни в речах Ким Ир Сена, ни в сохранившихся высказываниях Сухэ-Батора мы не найдем призыва к спешке или указаний на то, что время не терпит.
Идеи крайнего радикализма соблазнительны для тех, у кого есть повод их разделять, но они не могут долго оставаться в сфере абстракции. Спустя какое-то время их горячность уменьшается и они переходят в мелочную и кислую брюзгливость или в граничащее с паранойей желчное отрицание. Попросту говоря, наступает такой момент, когда надобно или приступить к изготовлению бомб и расстановке участников покушения, или расстаться с неосуществленными мечтаниями и найти себе какое-нибудь занятие с восьми утра до шести вечера с перерывом на ленч. Скука не уживается с революционной психологией; действие – это единственный критерий радикализма. Но выводы эти справедливы лишь для Европы и ее заморских ответвлений. У жителей Азии понятие скуки в принципе отсутствует. В большинстве азиатских языков нет даже слова, которым можно было бы выразить это понятие.
Люди «Ангки» были с этой точки зрения типичным продуктом европейских тревог, нетерпения и воли к быстрому и эффективному действию. Слишком много лет они прожили во Франции и слишком глубоко прониклись картезианско-прагматическим способом мышления.
В этой широкой перспективе стираются различия между студенческими выступлениями в Западном Берлине и захватом Шанхая хунвэйбинами, между убийством Альдо Моро и уничтожением «кру сангкриэч» в Кампучии, между похищением Карла фон Шпретти и поджогом британского посольства в Пекине или взрывом католического собора в Пномпене. Все эти непонятные и неправдоподобные события конца шестидесятых годов и их запоздалые модификации в следующем десятилетии можно расценить как вызов существующей действительности, неторопливой истории и окаменевшему социальному устройству. Если даже признать это временной аберрацией, непреложным останется факт, что таковая имела место. Если даже мы обнаружим тонкие идеологические различия между Руди Дучке и, например, Кхиеу Самфаном, это не будет опровержением принципиального интеллектуального сходства в рассуждениях этих людей, а также общности происхождения их взглядов, которая восходит к принципам китайской «культурной революции».
Нынешний спад волны экстремизма в Европе и отказ китайского руководства от главных лозунгов «культурной революции» ничего не доказывают. В истории случалось, что циклические приливы и отливы в настроениях общества чередовались так же, как приливы и отливы на море. Сдвиги вправо, триумфы консерватизма, периоды пассивности и отчаяния бывали в прошлом неоднократно и каждый раз оказывались явлением временного порядка, кратким или длительным, но в любом случае эпизодическим.
Какие размеры приобретет и в какой форме проявится через несколько или более лет новая волна радикализма? Кто и где пустит в Ход взрыватель?
Это не пророчества Нострадамуса[57]57
Нострадамус (Мишель де Нотр-Дам; 1503–1566) – врач и астролог при дворе французского короля Карла IX.
[Закрыть], а скорее логическое осмысление проблем, которых «культурная революция» в конечном счете не решила. Подобные выводы были недавно сделаны двумя довольно видными учеными. Первый из них, Тони Негри, профессор политических наук в Туринском университете, был арестован по обвинению в причастности к похищению Альдо Моро. Второй, по имени Малколм Колдуэлл, профессор политических наук Манчестерского университета, последовательный сторонник крайнего радикализма в Азии, был 23 декабря 1978 года застрелен неизвестным в гостинице «Руайяль» в Пномпене. Эти двое могли, конечно, заблуждаться. А может быть, в чем-то и были правы?
СХХХII. Через несколько недель после возвращения из Индокитая я публично рассказывал в двух швейцарских городах, в Базеле и в Цюрихе, о том, что я видел в Кампучии. Мои выступления вызвали не только изумленное молчание аудитории, состоявшей главным образом из студентов и рабочих, но затем и лавину вопросов, самыми важными из которых были: как это могло случиться и почему мы до сих пор об этом ничего не знали? Сказанное мною встретило также небывало яростные и шумные возражения со стороны группы молодых, интеллигентных и хорошо одетых людей, которых мне снисходительно охарактеризовали поначалу как местных маоистов. В обоих городах были срочно напечатаны листовки с протестом против «приглашения польского агента социал-империализма». У входа была устроена небольшая демонстрация. Из зала летели острые, провокационные вопросы, заученные наизусть и не оставлявшие сомнений относительно их китайского источника. Дело дошло до бурной дискуссии, если здесь вообще применимо такое определение.
Два факта придали этим инцидентам дополнительный, может, даже более глубокий смысл.
В обоих городах я выступал в старых зданиях, которые вот уже несколько поколений принадлежат различным рабочим партиям и организациям. В Базеле это был некогда известный отель «Мериан». Собрание происходило в «Кафе Шпитц», в зале на втором этаже, где в 1869 году заседал Конгресс I Интернационала. В Цюрихе я выступал в том самом Голубом зале местного Народного дома, где 9 января 1917 года Ленин говорил о войне и мире. В память об этом была установлена бронзовая доска, висевшая прямо над трибуной. В старинных, не тронутых войной швейцарских городах есть стены, которые были свидетелями всей истории левого движения в Европе, с первых его шагов. «Базельские колокола» слышали и чахоточный кашель юношей, пытавшихся исправить мир, и холодные, трезвые споры о том, что необходимо и что осуществимо.
Вопросы, заданные мне молодыми маоистами, буквально совпадали с вопросами, которые мне несколькими днями раньше задала группа молодых людей на встрече в одном из больших польских городов. Эти молодые поляки, мучимые потребностью какого-то четкого самоопределения, не умели при всей начитанности, интеллигентности и своеобразной искренности отличить плоский конформизм от побрякушек антиконформизма на словах. Маоистами они, однако, не были. Совсем наоборот. Они повторяли аргументы и формулировки, услышанные в передачах западных радиостанций. И бессознательно становились объектом очередной манипуляции, интеллектуальная примитивность которой в этом случае внушала особую тревогу.
Не думаю, что это было всего лишь весьма забавное стечение обстоятельств. Les extremes se touchent[58]58
Противоположности сходятся (франц.).
[Закрыть], это факт, но почему?
СХХХIII. Боязнь конформизма, идейного приспособленчества, эмоционального оскудения бывает страшной и действенной силой в современном индустриальном обществе. Ее нельзя рассматривать только лишь в социологических категориях, ибо источник ее в глубочайших пластах человеческой психики, ибо она рождается как крик протеста против мучительной анонимности «одинокой толпы». Эта сила может парализовать здравый рассудок, зачеркнуть свидетельства собственных органов чувств. Самоопределение через анархическую «непохожесть», с помощью эпатирующего наряда, поведения или экстравагантных взглядов – это самый распространенный, ибо самый легкий для молодых людей, метод компенсации тех экзистенциальных тревог, которые лишь в зрелом возрасте получают меланхолическую интерпретацию.
Иногда наоборот: полное растворение в единодушной толпе дает еще большую компенсацию. Но в круге европейской культуры так бывает гораздо реже.
CXXXIV. «Неизвестно, чем нам быть. Неизвестно, как согласовать равенство с неограниченным правом приобретать вещи, труд – со свободой, скандинавский порядок – с итальянским хаосом, нищету Гаити – с мирным и мудрым благосостоянием долины Неккара, личную индивидуальность – с неизбежной стандартизацией каждой отдельно взятой промышленной цивилизации, призыв к полноте человеческих свобод – с призывом к суровой средневековой дисциплине, бездумность – с идейностью, пессимизм – с сопротивлением, которое само по себе означает несогласие с пессимистическим толкованием истории. Неизвестно, чего мы по-настоящему хотим и как, в сущности, должен выглядеть мир на пороге будущего столетия…»
Так рассуждает по крайней мере известная часть современной молодежи, разочарованная чуть ли не во всем существующем, но не верящая и в будущую гармонию. Сам факт, что хотя бы часть самых горячих и способных к размышлению умов пребывает в состоянии неопределенности, в колоссальной степени облегчает возможность манипулировать ими. Мир до краев наполнен предложениями и рецептами; все меньше людей в состоянии поступать так, чтобы действия не противоречили их подлинным стремлениям. Манипуляция, если она проводится умно и не слишком бросается в глаза, имеет свои достоинства. Она избавляет людей от необходимости думать на свой риск и страх, освобождает от мук, связанных с поиском истин, которым стоит хранить верность. И вот один конформизм заменяется другим, каждый требует лояльности, предельной активности и полной идентификации. Отступничество чревато бойкотом; попытка время от времени подойти к лозунгам реалистически встречается презрением и вызывает обвинения в примитивном оппортунизме. «Красные бригады» в таких случаях приводят в исполнение приговоры «предателям», а для других бывает достаточно иронической усмешки или презрительного жеста.
Далеко не все способны отличить конформизм от продуманной системы взглядов. Многие считают отрицание – любое отрицание – единственным достойным человека состоянием. Точно так же рассуждал когда-то Пол Пот.
CXXXV. Петр Владимиров рассказывает в книге «Особый район Китая», как последние три года пребывания в яньаньских пещерах Мао Цзэдун занимался, в сущности, лишь интригами и устранением одного за другим возможных претендентов на трон.
У меня нет поводов приписывать книге Владимирова евангельскую непогрешимость. В ней много, на мой взгляд, недомолвок и сокращений, много и категорических утверждений, которые сегодня кое в чем кажутся сомнительными. Но основных приводимых Владимировым фактов отрицать невозможно. Жаль, что они стали известны лишь сегодня. Ни Эдгар Сноу, ни Агнес Смедли, никто вообще из западных журналистов, побывавших тогда в Особом районе, не оставили достоверных свидетельств о происходившем в Яньани. Напротив, независимо от политических взглядов они содействовали рождению мифа, хотя их трудно в этом винить, ибо в океане человеческого бесправия, подлости и бедствий новая Четвертая армия действительно представлялась последней и единственной надеждой.
Свидетельства, исходящие от чанкайшистов, не стоят даже упоминания. Они предназначались для конкретного американского адресата из разряда таких, дискуссия с которыми бесцельна.
А ведь именно тогда формировались основные предпосылки явления, которое позже получило наименование маоизма. Тогда родился «великий, бессмертный и нерушимый» принцип, согласно которому надо бить по своим и со своими бороться, ибо среди них чаще всего зарождается зловредная оппозиция и губительное для дела сомнение в его целях или методах. Принцип был назван «чжэнфын» – беспрерывная борьба за упорядочение стиля работы. На практике речь шла о том, чтобы привести в движение центробежный механизм, отбрасывающий в небытие тех людей, которые в какой-то момент ошиблись, обронили неосторожное слово или попросту недостаточно верили в гениальность и непогрешимость председателя. «Чжэнфын» или вечная чистка на всех уровнях, мотивированная несущественными или прямо-таки абсурдными поводами, стала отличительной чертой китайской партии задолго до того, как это было замечено за границей. Особенность «чжэнфына» в том, что он не может быть одноразовым действием, ибо каждый день заново родятся неправильные взгляды, вирус сомнения или неповиновения проникает в умы даже испытанных бойцов. Ныне известно, что «чжэнфын» был использован председателем Мао для ликвидации оппозиции внутри партии. Вместе с тем независимо от субъективных намерений конкретного руководителя существует и объективный механизм, политическая сущность которого достойна более внимательного изучения.
Итак, всевластие «осеннего министра» Кан Шэна, одного из самых страшных людей, какие появились в нашем столетии на китайской политической сцене. Его тень проходит сквозь всю историю «Великого похода» и первое двадцатилетие после победы революции. Созданная им тайная полиция и надзирающая за ней сверхполиция не имеют, по-видимому, аналогий, если даже обратиться к широко известным примерам из истории других стран. В марте 1927 года Кан Шэн руководил уличной борьбой шанхайских рабочих и, как многие думают, явился прототипом одного из героев «Удела человеческого». А потом он прекратил борьбу против буржуазии и занялся борьбой против коммунистов – внутри партии. Это он, знавший на память десять тысяч биографий и миллион донесений разведки, был единственным испытанным другом Мао во время его пребывания в Яньани, подобрал председателю привлекательную жену, годами собирал «материалы» на главных деятелей партии и руководил ликвидацией целого ряда внутрипартийных «заговоров». Ибо, согласно его терминологии, никогда не существовало оппозиции против линии Мао, были лишь заговор, мятеж, диверсия. Трудно удивляться, что решения XX съезда КПСС этот человек воспринял как угрозу ему лично.
В 1966 году Кан Шэн стал советником Группы по делам культурной революции при Центральном Комитете Компартии Китая. Пришел его звездный час: теперь он мог безнаказанно уничтожить любого, кто хоть раз проявил недовольство всевластием «осеннего министра» или не рукоплескал, когда должен был это делать.
В послесловии к польскому изданию книги Владимирова Анджей Халимарский кратко подытоживает кадровую политику Мао в отношении партийных работников центрального уровня.
Гао Ган, член Политбюро, заместитель премьера, один из самых отважных бойцов революции, был обвинен в создании «антипартийного блока», долгие годы был в заключении и подвергался издевательствам, умер в тюрьме, покончив якобы жизнь самоубийством.
Кай Фын, руководитель коммунистического молодежного движения. Исчез одновременно с Гао Ганом, умер при невыясненных обстоятельствах в 1955 году.
Маршал Пын Дэхуай, член Политбюро, легендарный полководец революции, принципиальный и смелый противник экономических безумств Мао Цзэдуна. Арестован в декабре 1966 года, публично допрашивался на «митингах борьбы», с черной доской на груди, со связанными за спиной руками, оплеванный, избитый, замученный. По всей вероятности, убит, причем без применения огнестрельного оружия.
Чжан Вэньтянь, кандидат в члены Политбюро, переводчик Толстого и Оскара Уайльда, виднейший идеологический работник партии. Во время «культурной революции» его водили на веревке по улицам Пекина в белой шапке позора и с черной доской на груди. Об обстоятельствах его смерти ничего не известно.
Ван Цзясян, член Политбюро, в «яньаньский период» входивший в узкое руководство партии. Его беспрерывно доставляли на «митинги борьбы» со связанными назад руками, подвергали оскорблениям, оплевывали. Вскоре он умер.
Ли Лисань, бывший генеральный секретарь ЦК КПК. Не выдержал пыток, покончил жизнь самоубийством.
Профессор Ли Да, семидесятилетний старик, член ЦК, участник учредительного съезда КПК. Избитого, его волокли на веревке в Ухани.
Маршал Чжу Дэ, создатель китайской Красной армии, герой всех великих битв революции, человек, который до самого конца имел смелость выступать в защиту старых товарищей, которых унижали и уничтожали Мао и Кан Шэн. Стал объектом самых яростных нападок со стороны хунвэйбинов, которые осквернили даже могилу матери маршала. Не было таких обвинений и оскорблений, которым бы не подвергся крупнейший полководец китайской революции.
Список, составленный Халимарским, длинен. В него входят бывший президент и бывший премьер КНР, министр иностранных дел и еще два заместителя, секретарь Мао (он же главный соавтор известных статей председателя) и даже зять маршала Е Цзянина, пианист, которому поломали суставы рук, чтобы он не мог больше исполнять «ревизионистскую музыку». У каждого из этих людей были за плечами долгие годы борьбы, бедности и солдатской службы. Каждый из них до последней минуты оставался верен идеалам китайской революции. Это они вернули в свое время Китаю чувство достоинства и веру в собственные силы. Они умели побеждать и извлекать уроки из поражений. Они создали великое государство и партию, которая по крайней мере в первые пятнадцать лет дала массам, ранее пребывавшим в апатии, еду два раза в день и при жизни одного поколения устранила самые застарелые из несправедливостей. Именно они, те, кого волокли на веревках, кого оплевывала воющая толпа, кто в один день был лишен всех постов и права на уважение, явились первой и главной жертвой «культурной революции».
Что же, признать все это «издержками» революции? Неужели «Великий поход», начало которому было положено в туберкулезных лачугах Кантона и Шанхая, который обошелся в сотни тысяч жертв, был предпринят на самом деле лишь для того, чтобы «осенний министр» Кан Шэн мог составлять секретные списки и рассылать осведомителей на «митинги борьбы»?
Это не просто исключительный случай местного, азиатского значения. Увлечение мифом «культурной революции» или, шире, своеобразием китайского пути должно быть объяснено без всякого оппортунизма или детской разочарованности. Тем более что в Китае «культурную революцию» затормозили, прежде чем она достигла конечной цели, но в Кампучии та же самая концепция была реализована до конца. Дальше Пол. Поту идти было уже некуда. Для новых экспериментов попросту не хватило бы людей.
Поэтому об истинном значении «культурной революции» следует спорить и тут, на берегах Меконга.
CXXXVI. Написать, что «культурная революция» была бесчестным обманом, жалкой и кровавой комедией, призванной скрыть от мира имперские замыслы обезумевшего под старость тирана и интригана? Так может написать всякий. Почти всякий. Значение таких оценок невелико, ибо они не дают ответа на важнейший вопрос: почему бессчетное множество людей позволило обмануть себя этой комедией? Или отстаивать справедливость этой «революции», стоя у колодца в Прейвенге, где содержится человек в жидком состоянии? Объяснять, что намерения были благими, а исполнение никудышным? Признать правоту ликующих мещан, которые давно ведают, что всякие там революции не имеют смысла и обязательно кончаются, так сказать, спорами между лидерами? Перечеркнуть двадцать лет собственных исканий, иллюзий, восхищения китайским примером и китайскими мифами?
Можно попросту пожать плечами, сказав, что со времен капрала Бонапарта процесс коронования выскочек время от времени повторяется и не впервые под холщовой рубахой можно обнаружить длинную косу мандарина. Нет повода отчаиваться. Ведь при каждом очередном повороте истории намечаются новые точки отсчета. Может быть, государственные интересы, законы безудержной гонки, стратегические расчеты и вправду сильнее какой бы то ни было утопии?
Да. Но это все произошло также и в Китае.
CXXXVII. Я начал журналистскую работу 1 октября 1949 года, в тот самый день, когда в Пекине на площади Тяньаньмынь председатель Мао провозгласил образование Китайской Народной Республики.
Помню, с каким волнением после первых трех часов моей профессиональной деятельности я слушал по радио последние известия. Это было первое большое политическое событие, которое я комментировал в печати неуклюжим, топорным языком восемнадцатилетнего «зэтэмповца»[59]59
От ЗМП (Звёнзек млодзежи польской) – «Союз польской молодежи», массовая молодежная организация, существовавшая в Польше с 1948 по 1956 г.
[Закрыть], употребляя такие слова и аргументы, от которых и сегодня у меня высыпает крапивная лихорадка. По чисто субъективным причинам я как бы отождествил эволюцию собственных взглядов с позднейшей историей Китая. Никакая другая страна в мире меня до такой степени не интересовала, хотя, по иронии судьбы, я там никогда не был. Я прочитал множество книг о Китае, собирал вырезки, быстро научился различать трехсложные фамилии. Я знал наизусть историю «Великого похода», на чудом раздобытом плане Шанхая мог показать места боев во время мартовского восстания[60]60
Имеется в виду восстание шанхайских рабочих под руководством КПК в марте 1927 года.
[Закрыть]. А потом начались мои странствия по дальним уголкам Азии, и субъективное пристрастие дополнилось сознательной убежденностью. В какой-то из ранних книг я написал, что индийский путь скомпрометирован терпимостью к буржуазии; помню долгую беседу с индийским врачом: он говорил, что ненавидит китайцев, революцию и всякое насилие, но должен признать, что китайские коммунисты обещали крестьянам еду два раза в день и в общем сдержали слово, чего, в Азии никогда раньше не случалось; этим автоматически отметаются все аргументы против них. Я записывал многочасовые монологи индонезийских деятелей, мысли которых были все время обращены к китайскому примеру. Злосчастный индонезийский мятеж 1965 года я не колеблясь объяснил происками ЦРУ, чьи действия в Азии мне были хорошо известны. Мне и в голову не могло прийти, чтобы Пекин мог хладнокровно обречь на уничтожение целую братскую партию Азии. Во время первого этапа «культурной революции» я работал в Нью-Йорке и не написал по этому поводу ни слова критики. После инцидентов на реке Уссури я опубликовал статью, сводившуюся примерно к следующему: это прискорбный конфликт, но он носит временный характер, и не следует делать далеко идущих идеологических выводов.
Только благодаря случаю я стал свидетелем такого политического акта Китая, который для себя определил как ренегатство. В сентябре 1972 года я слушал первую речь заместителя министра иностранных дел Китая в общей дискуссии на Генеральной Ассамблее ООН. Не я один был в тот момент буквально ошеломлен. В этом тексте не было уже «бумажных тигров», «восточного ветра», глубоких мыслей председателя. Осталась лишь грубая и хладнокровная Realpolitik[61]61
Реальная политика (нем.).
[Закрыть]. He было и намека на идеологическое обоснование, во всей речи ни разу даже не было помянуто официальное название страны. «Китай» – и все. Потом неожиданности пошли одна за другой: демонстративные визиты Штрауса, почести, оказанные Шлезингеру, приглашение Камерона, а затем торговля между Китаем и ЮАР и непонятное, невообразимое сердечное согласие с чилийской хунтой. Объятия и поцелуи, которыми встречали в Пекине посланцев Пиночета, одним махом навсегда перечеркнули пятнадцать лет иллюзий, которые питали левые силы в Латинской Америке.
Я снова принялся за чтение, и обнаружилось, что в молодости некоторые тексты прочел наспех и невнимательно. Мао нельзя отнести к числу выдающихся умов.
Кроме действительно новой теории народной войны и актуального, по-видимому, и сегодня анализа крестьянского вопроса в Азии, его произведения (во всяком случае, те, которые переведены на иностранные языки) не содержат столь глубоких и оригинальных суждений, чтобы их автора считать мыслителем. Он, бесспорно, был опытным политиком, хладнокровным и расчетливым государственным деятелем. Но таких после войны было несколько, и ни один из них не объявлялся пророком новой эры. Знаменитая работа Мао «Относительно противоречия», которая когда-то произвела такой фурор, не содержит ни одной мысли, неизвестной Энгельсу. Успех этой брошюры объясняется тем, что ощущалась потребность в аргументации подобного типа. Книга Алю Шаоци «Как стать хорошим коммунистом» – это произведение, которое могло бы оказаться интересным для молодежи двадцатых годов, а ныне напоминает скорее доминиканские молитвенники, набитые перифразами, пышными изречениями и простодушными признаниями.
Нет нужды сегодня отпираться от тогдашнего восторга. От юношеских увлечений лекарства нет. Так и рождаются всякого рода мифы. Общественный спрос на мифы всегда превышал возможности их удовлетворения. Поэтому подробности имеют второстепенное значение, а иногда и никакого не имеют. Люди, нуждающиеся в мифе и разумеющие под ним чистые и ясные понятия, за которые стоит умереть, если возникнет такая необходимость, доскажут мысли, которых нет в оригинале, и сложат мелодию, чтобы сухое рассуждение превратилось в песню и боевой клич. Так было всегда, и будем надеяться, что председатель Мао не похоронил последнего мифа в истории человечества. Но ведь когда-то будет необходимо отвергнуть очередной миф и заново выяснить факты. Это горькое и болезненное занятие, но оно необходимо, как хирургическая операция. Китай, который держится вместе с Пиночетом и стал партнером фашистов из Претории, никак нельзя оценивать той мерой, какой я пользовался в прошлом. Наверное, следовало бы проанализировать внешнюю политику этой страны. Но это тема другой работы, за которую я возьмусь не скоро.
CXXXVIII. Вероятно, нигде обстановка, в которой умирает миф, не производит такого впечатления, как в Кампучии. Многие до меня пережили аналогичный момент, может быть, в более драматических обстоятельствах. Но со мной это произошло впервые.
CXXXIX. Я написал, что у меня нет повода сожалеть о судьбе буддийского духовенства в Кампучии. Но чем это, в сущности, отличается от согласия на убийство евреев, которые «живут ростовщичеством», славян, которые «грязны и не умеют ничего толком организовать», цыган, которые «крадут», да наконец, и французов, которые делают «l'amour» вместо того, чтобы делать «Ordnung»? Есть ли какое-либо средство, чтобы безошибочно отличать одобрение социально оправданного насилия от морального соучастия в убийстве? Может быть, первое одобрение одного акта насилия и есть та самая ошибка, от которой идет новая цепь зла?
Уйти от этого вопроса еще хуже. Отказ от всякого насилия из страха перед моральной ответственностью – это не что иное, как молчаливое одобрение всей азиатской или латиноамериканской нищеты и горя, которых не устранили и, вероятно, никогда не устранят никакие постепенные реформы. Отказ от насилия и мысль о том, что его можно заменить молитвой, мирной работой или чем-нибудь еще, могут в конечном счете привести к выводу, что колониализм, например, имел свои пороки, но в сущности был не так уж плох. Или завести в бездонные глубины ходячего гуманизма: ах, мадам, как люди злы, известное дело, своя рубашка ближе к телу, так всегда было и будет. Или к скоротечному отмиранию совести: они бедны, потому что ленивы. Или к философии Мильтона Фридмана: чем хуже, тем лучше; больше страха – больше счастья; чем острее конкуренция, тем лучше результаты.
В лучшем случае отказ от насилия приводит к беспомощному и покорному смирению перед лицом хронических нелепостей этого мира. Его проповедует в Азии – с величайшей охотой, из глубоких гуманистических побуждений – самый подлый эксплуататор, задушевная мечта которого сводится на деле к желанию, чтобы все осталось, как есть.
CXL. Во время тяжелых, кровавых боев за здание шанхайской полиции Чен из «Удела человеческого» огорчен тем, что не до конца слился с товарищами по штурму. Он обвиняет себя в колебаниях и анархическом индивидуализме, но в то же время понимает, что свойственные ему представления не вмещаются в рамки намеченной руководителями восстания тактической линии. Смерть Чена не случайна, это результат сознательного выбора. Он решил, что для людей, в такой степени раздираемых сомнениями, нет места в рядах борцов, а вне этих рядов он не мог жить.








