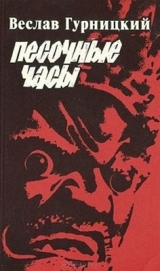
Текст книги "Песочные часы"
Автор книги: Веслав Гурницкий
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 21 страниц)
А все-таки надо в конце концов что-то выбрать: или морализирование, польза от которого более чем сомнительна, или журналистику, которая заставляет со всеми встречаться и везде бывать. Позиция Тиртея превосходна, но она не помогает понять мир, так как присутствие – это первое условие познания. Разумеется, я должен внимательнее относиться к сообщениям зарубежной печати, если они противоречат моим собственным знаниям и опыту. Только разве это гарантия на будущее?
CLVI. Утром обнаружилось, что вода в ванной кончилась. Видимо, бак на верхнем этаже был наполнен с помощью электроагрегата лишь на время пребывания в отеле зарубежных гостей. В солидного вида ванну и умывальник (это был лучший в мире фаянс Туайфорда, примета самых элегантных отелей начала нашего века) немедленно заползли бесцветные сороконожки, плоские, как лента, и быстрые, как искра. Из латунной арматуры пошел густой тошнотворный запах. Вода кончилась так неожиданно, что остатки мыльной пены на щеках мне пришлось смывать привезенным из Вьетнама пивом.
CLVII. В девять часов премьер-министр Фам Ван Донг возложил венок к монументу на площади Независимости.
Монумент построен в виде шестиэтажной пагоды с девятью ажурными арками. Он стоит на холме, в геометрическом центре одной из самых больших площадей, которая удивительно похожа по своей планировке на парижскую площадь Звезды. Арки сооружены из какой-то местной разновидности травертина или песчаника и как-то болезненно обнажены, ибо с них сорваны барельефы и надписи, которые были здесь когда-то. Под куполом горит огонь – керамический сосуд с бензином.
На площадь выходят девять широких улиц с двусторонним разделенным движением. В начале каждой из них стояли солдаты в полной боевой готовности. Они лежали и на крышах нарядных вилл или прятались в цветущих кустах форсиции и тамариска. Проспекты, тянущиеся до самого горизонта, были совершенно пусты, заставлены стульями, усеяны крапинками брошеной обуви. Кроме нас, на площади не было ни одного гражданского лица.
Премьер-министр в сопровождении Хенг Самрина вышел из черного лимузина без регистрационного номера в полутора метрах от пагоды. Охрана недолго и безуспешно боролась с нашим длинноволосым фоторепортером, который в состоянии предельного экстаза фотографировал лицо премьера с расстояния тридцати сантиметров, а потом, как обезьяна, вскарабкался на решетку около вечного огня.
Военный оркестр снова заиграл ту страшную мелодию, которую я слышал на аэродроме. Она показалась мне еще более скорбной и внушающей ужас. Звуки ее летели в опустошенные улицы, проникали в распахнутые окна заброшенных домов, тонули в садах, за которыми давно никто не ухаживал, и, наконец, мертвым эхом возвращались к памятнику.
Потом наступила минута молчания, как этого требует веками установленный обычай: в честь тех, которые собственной жизнью…
Минута молчания. Никогда раньше я не слышал такой тишины прекрасного солнечного утра. Она была абсолютной, не поддающейся описанию, граничащей, в полном смысле этого слова, с вечной тишиной космоса. Замолкли даже птицы и сверчки, спугнутые звуками оркестра. Через секунду далекое-далекое эхо принесло сдавленный отголосок надгробного плача. Город по-прежнему был пустыней, кладбищем, призраком.
CLVIII. Я впервые отправился на длительную прогулку пешком по городу, совершенно один, с фотоаппаратом через плечо. У меня было два часа времени. Я начал с ближайших к «Руайялю» кварталов.
Напротив отеля стояло длинное четырехэтажное здание прославленного французского лицея. Когда-то это была лучшая средняя школа в данной части мира, очень дорогая, но с исключительно высоким уровнем преподавания, с современными методами обучения, особенно в области точных наук.
Снова полчаса полного ошеломления. Коридоры завалены мусором и грудами обгоревших книг. Географические карты порваны на мелкие кусочки. Разбитые молотком микроскопы, аналитические весы, модели машин. Школьный архив частично сожжен, частично уничтожен серной кислотой из аккумуляторов. Поломанные или изрубленные гимнастические снаряды, распоротый «козел», демонтированное «бревно». Провода и выключатели вырваны из стен. Разбитые кинопроекторы и магнитофоны в кабинете иностранных языков. Лестница завалена клубками кинопленки и магнитофонных лент.
В одной из пустых и разбитых классных комнат на доске хорошо сохранившаяся надпись мелом: «Les vacances!»[68]68
Каникулы (франц.).
[Закрыть] Из точки восклицательного знака кто-то несколькими черточками сделал улыбающееся веселое личико.
CLIX. Я побывал в шести пустых домах, где тоже стояли накрытые столы, в шкафах висела одежда, на полу валялись фотоснимки, документы и деньги. Входил в антикварные лавки и граверные мастерские. Был в каком-то банке без вывески, где в сейфах по-прежнему лежали пачки риелей, связки векселей, порванные облигации. Я нашел продуктовую лавку, из которой были вытащены буквально все товары, за одним исключением: на полках выстроились в ряд баночки с заплесневелой горчицей «Дижон». Я зашел в ресторан, когда-то элегантный. В кухне, на плите, не топленной вот уже четыре года, стоял горшок, до краев наполненный матовыми скорлупками креветок и лангустов. В горшке копошились муравьи. Под плитой пищали маленькие слепые крысята.
CLX. В полдень, когда мы опять завтракали в ресторане отеля «Руайяль», произошел неприятный инцидент. Карлос, давясь от смеха, показывал всем литургический сосуд, найденный в какой-то куче лома. Потом начал лить в него свой любимый коньяк. Среди нас не было католиков, но мы все, не сговариваясь, резко осадили его. Это был один из собранных им за сегодняшнее утро многочисленных трофеев. Мы с Андреем посмотрели друг на друга. Я видел, как Андрей переставил с тротуара внутрь магазина статуэтку Будды. Он видел, как я забрал у Карлоса альбом редких почтовых марок и отдал его кхмерскому офицеру.
CLXI–CLXX
CLXI. Мы посетили госпиталь на далекой окраине, один из самых лучших по красоте и планировке, какие мне приходилось видеть. Это госпиталь имени Кхмеро-советской дружбы. Он воздвигнут в начале шестидесятых годов как дар советского правительства и народа и обошелся в восемьдесят миллионов рублей. Оборудование бесплатно поставили правительства и общества Красного Креста пяти европейских стран: Швеции, Франции, Швейцарии, ФРГ и Финляндии.
Госпиталь выглядел так же, как те больницы, которые мы видели раньше: груды раздавленных ампул, распоротые матрацы, уничтоженное оборудование операционных. В госпитале не было ни пациентов, ни врачей. Не нашлось даже фельдшеров, чтобы организовать в этом суперсовременном здании хотя бы амбулаторию для оказания первой помощи. В западном крыле госпиталя временно разместились казармы. Молодые парни, смущенные неожиданным нашествием гостей, поспешно натягивали шевиотовые брюки и надевали шапки китайского покроя.
Я подождал, пока наша группа спустится на этаж ниже, и направился в конец коридора, заглядывая в одну палату за другой. Последняя из них была совершенно пуста. Каменный пол был покрыт толстым слоем засохшей крови. Кое-где виднелись клочки черных волос, топорщившиеся на остатках скальпов. В этом климате человеческая кожа очень быстро отдает влагу и, если ее не разлагает гниющая жировая ткань, мумифицируется – она напоминала шелестящий пергамент.
Посреди палаты лежал крестьянский нож для рубки сахарного тростника с отполированной самшитовой ручкой и чуть выщербленным лезвием. Посередине виднелись пятна человеческой крови.
Не удалось установить, кого и почему добивали или убивали этим ножом. В Кампучии очень мало таких вещей, которые можно выяснить до конца.
CLXII. Никак нельзя привыкнуть к пустоте и тишине этого города. Безлюдные улицы, на которые надвигались вечерние тени, были похожи на театральные кулисы, стулья на тротуарах приобретали устрашающий вид затопленных морем замковых развалин, мертвые окна и двери лавок напоминали врата ада. За пробегавшими крысами тянулись тонкие острые полоски, как в яванском театре теней. Начинали летать черные нетопыри, огромные и ленивые ночные бабочки с зеленоватым брюшком. Высоко, над верхними этажами домов, неподвижно висели какие-то большие птицы, похожие на коршунов. В этом мертвом пейзаже было что-то от средневековых представлений о конце света, атмосфера ирреальности, сна, бреда, смутно памятная по каким-то старым гравюрам и рисункам. Поднялся предвечерний ветер и разнес по ущельям улиц листья, деньги, мотки пленки, недогоревшую бумагу.
CLXIII. Потом вдруг воцарилась тишина. Наши группы были по горло сыты трупным запахом, зноем, армейским супом, капризами нашего «Изусу». Неофициально нам сообщили, что через два или три дня, в зависимости от того, насколько безопасной будет обстановка, состоится поездка в Сиемреап. Это был достаточный повод для того, чтобы вернуться во Вьетнам, принять ванну, посетить «Рекс» и ждать, что бог пошлет.
Я подошел к начальнику охраны и беззаботным, но решительным тоном заявил, что остаюсь в Пномпене. Мне были достаточно известны местные обычаи, чтобы выдержать первую четверть часа категорических отказов и абсолютно неопровержимых аргументов. Надо попросту все это выслушать, а потом начать сначала.
Нас осталось только четверо: Андрей с оператором, Герхард и я. Они втроем жили в другом, западном крыле. Мне достался тот же самый четырнадцатый номер, где был убит Колдуэлл. И все восточное крыло: 38 комнат.
Я не собирался выезжать надолго. На мне была только одна рубашка, успевшая затвердеть от грязи и пота. Кончались запас сигарет и газ в зажигалке. Я не захватил кофе, без которого не умею просыпаться.
Внезапно наступили сумерки. После ужина в ресторане – суп из овощей с кусочками сушеного мяса, соевыми макаронами и ломтиками сырого лука – мы собрались в запыленной гостиной на первом этаже, среди аляповатых резных оленей, выщербленных нимф и амфор с трещинами.
Я разлил «луа мой» по чашкам с надписью «made in Japan». Герхард извлек остатки своего запаса салями. Андрей ни с того ни с сего обратился ко мне по-польски: «Nie bądź pan takim cholernym angielskim snobem»[69]69
Не будьте таким чертовым английским снобом (польск.)
[Закрыть]. Почему английским? Я безуспешно пытался узнать у Андрея, где он выучил эту фразу. В ответ он рассказал по-вьетнамски какой-то анекдот.
Поступило предложение сыграть в белотку.
Герхард и я не играли в белотку.
Андрей перетасовал карты и предложил покер. Герхард не играл в покер. Как и во все прочие карточные игры.
В гостиной воцарилось молчание. Сквозь открытые окна шел горячий трепещущий воздух. Мне все время казалось, что ночью здесь еще жарче, чем днем. Издалека доносились отзвуки одиночных выстрелов и надрывный крик цикад.
Выпили еще по чашке водки. Было около девяти. В такую жару нечего и думать о том, чтобы уснуть в девять. Вышли во двор отеля, но молодой солдат охраны начал размахивать пистолетом: «Нельзя. Вредные элементы пиф-паф». Действительно, бархатно-черная стена за оградой вокруг отеля выглядела мрачно и коварно.
Я взялся изложить правила игры в канасту. Но Герхард не отличал короля от валета. А втроем в канасту играть трудно.
Я спросил, слушал ли кто-нибудь радио и известно ли, что произошло в мире. Что в Иране? Когда подпишут ОСВ-2?
Никто ничего не знал, и никто не рвался дискутировать на международные темы, а также насчет Хомейни. Кроме Герхарда, который готов был дискутировать обо всем.
Потом трое славян спели одну одесскую балладу и грустную песню про атамана Махно. Герхард потребовал, чтобы ему перевели слова, так как песня ему очень понравилась, и добросовестно записал их в блокнот. «Пуля» – ein Geschoss. «С нашим атаманом» – mit unserer Ataman. Was heisst ein Ataman? Ein kozakischer Kriegsherr, сказал я, не будучи, как всегда, уверен, правильно ли выбраны немецкие падежи и окончания.
So was, удивился Герхард.
Le kommandant des Cosaques, дополнил Андрей и разлил по чашкам «луа мой».
Герхард спросил: атаман – это высший чин в казачьих войсках?
О нет, ответил я. Есть еще Oberataman.
So was. Любопытно.
Мы сидели в горячей черной пустыне, окутанные безбрежной ночью, охраняемые одним лишь молодым парнем, безоружные и так далеко от своих стран, как если бы судьба занесла нас на Луну или бросила посреди океана. Невообразимая скука, мучительная, неодолимая, хуже, чем болезнь, обессилила нас, будто наркотик.
Сквозь открытую дверь в холл проник большой зеленый геккон, сантиметров сорока длиною. Розовый беспокойный язык сверкал у него в горле, как неоновая реклама. Маленькие черные глазки утомленно глядели на нас.
Ишь, какая дрянь, сонно произнес оператор, но не двинулся, чтобы прогнать ящерицу.
В тридцать пять минут десятого в отеле погас свет.
CLXIV. Впотьмах я вскарабкался на второй этаж по той самой скрипучей деревянной лестнице, по которой шесть недель назад поднялся неизвестный убийца Колдуэлла. У меня возникло вдруг бессмысленное теперь сожаление, что я никогда не был знаком с этим англичанином. Не знаю даже, как он выглядел. Вот, подумал я, был бы хороший собеседник в дискуссии, перед тем как лечь спать.
Прижимаясь к стене коридора, я отсчитал на ощупь три двери. Слабое пламя зажигалки осветило кровавое пятно, цифру «14» на рассохшейся двери и разболтанную дверную ручку, которая не запирала.
Климатическое устройство уже не работало. Мне пришлось открыть окна настежь, но я тут же задернул толстые запыленные шторы: за окном было полно обалделых летучих мышей. Дверь изнутри не закрывалась, я придвинул кресло и, немного подумав, поставил на него небольшую табуретку. Из ванной доносился сладковатый запах, подобный тому, который исходит от разлагающегося трупа. Я приоткрыл дверь. Язычок пламени осветил плотное, колышущееся скопище тараканов, ящериц и пауков, которые толкались вокруг заткнутого умывальника. Мне приходилось экономить остатки газа в зажигалке: попытка раздобыть коробку спичек была заранее обречена на неудачу.
Я не взял с собой ни книжки, ни журнала. Впрочем, читать в темноте все равно было невозможно. Я не мог ничего записать в путевой дневник. Сон представлялся далеким, как мечта.
Я отряхнул москитную сетку, прогнал с простыни ящериц, посветив себе слабнущим огоньком зажигалки. Потом забрался под сетку и начал мысленно сочинять корреспонденцию для своего агентства, заучивая наизусть одну фразу за другой. Это проверенное средство от бессонницы. Замысел книги о Кампучии показался мне до такой степени нереальным, что стало стыдно за написанные уже странички.
Вдруг рядом раздался ужасный, оглушительный грохот. Он длился лишь долю секунды, обломки не посыпались, вообще ничего не изменилось, но барабанные перепонки завибрировали до боли в ушах, сердце на миг замерло, и кровь от него отхлынула.
Выждав минуты две, я схватил зажигалку. В комнате было так же тихо и темно, как и раньше. Я вылез из-под сбившейся сетки и двинулся к двери, инстинктивно пригибаясь и держась за стенку. Прошло какое-то время, прежде чем обнаружилась причина грохота. На столе стоял китайский термос с кипятком, который как видно, поставили вечером солдаты охраны, пробка из него вылетела, а царившая вокруг безграничная тишина многократно увеличила шумовой эффект.
Смеяться над собой я был уже не в силах. Снова забираясь под сетку, со злостью думал, что такие приключения хороши для начинающих репортеров. Пожалуй, многовато этих комичных и одновременно ужасных историй. Опять начал сочинять корреспонденцию. Потом перед глазами возникла Варшава в снегу. Горсть снега, кажущаяся в этом зное чем-то нереальным, бредовым. Лица людей, с которыми связаны какие-то важные в этой жизни дела. Из тумана воспоминаний выплыли первые поездки на Молуккские острова, какая-то роща около Денпасара на острове Бали. А потом заросли бамбука превратились в величавые мазурские липы и клены.
Я посмотрел на светящийся циферблат: еще нет двенадцати. По москитной сетке сновали ящерицы. В темноте их не было видно, но я чувствовал нежный шорох их растопыренных лап и почти неслышное причмокивание вибрирующих язычков. За окном раздался короткий неожиданный звук. Я не знал, что это: крик перепуганного человека или зов какой-то ночной птицы. Память начала рваться, как плохо смонтированный фильм. Я увидел себя самого, идущего зимним воскресным утром по улицам варшавской Воли. Что еще может, принести эта сумасшедшая, непредсказуемая жизнь? Этот мальчик в поношенной одежде, бредящий книгами о путешествиях, обуреваемый жаждой приключений, – неужели это я? Какой-то пикник на берегу океана. Какое-то студенческое собрание в университете, где я долго говорил глупости. И недавний митинг в Индии, когда у меня перехватило горло и я еще раз поклялся, что не отойду, не отступлю, не изменюсь. А потом заросшая пашня в Прейвенге, черепа, скелеты, тазобедренные кости, колодец, наполненный людьми, которые превратились в жидкость.
Я заснул.
CLXV. Проснулся в двадцать минут третьего, с твердой убежденностью, что в комнате кто-то есть. Было совсем тихо, из-за окна не долетал ни малейший звук. Замлевшими во сне пальцами попытался чиркнуть зажигалкой. Несколько искр вызвали переполох на сетке. Когда я надел очки и слабое пламя осветило
темноту, заметил удирающего лохматого паука сантиметров восьми в обхвате. Потом сообразил, что верхняя часть сетки прогнулась под какой-то тяжестью, Там сидел порядочных размеров геккон. Бело-зеленое горло ритмично раздувалось, когтистые лапы готовились к прыжку. Я с бешенством стукнул его в брюхо. Муслин москитной сетки был так тонок, что в любой момент мог порваться под тяжестью животного. Саламандра кое-как выбралась из ямки и презрительно сплюнула под себя. Я снова заснул вопреки всем законам физиологии. Тьма и тишина были так всеобъемлющи, что легкий сон спасовал перед их могуществом.
CLXVI. На следующее утро наша группа еще увеличилась. На военном самолете прилетели Леонид и двое болгар. Кажется, только на один день. Вечером самолет должен доставить их обратно. Ночевать в Пномпене невозможно, абсолютно невозможно.
Мы четверо, грязные, небритые, невыспавшиеся, слушали эти заверения с иронической улыбкой. Нас объединяла иррациональная связь ветеранов, чуть ли не фронтовиков с передовой. Мы непременно должны были продемонстрировать прибывшим наше безмерное превосходство. Интересно, откуда в человеке столько позерства, нелепого стремления возвыситься над другими при первом подавшемся случае?
CLXVII. Выяснилось, что наша охрана провела ночь в павильоне для гостиничной прислуги, который находился в ста пятидесяти метрах от главного здания. Мы не были уж настолько одиноки и заброшены, как казалось вечером. Правда, вход в отель охранял действительно один часовой. В случае нападения прошло бы не меньше пяти минут, пока взвод охраны пришел бы на помощь. Впрочем, в главное здание можно было беспрепятственно пробраться по ветвям камфарных лавров, которые росли вокруг низкой стены, окружавшей сад отеля.
От солдат я получил в подарок два баллона японского газа для зажигалок.
CLXVIII. После завтрака мы поехали осматривать широко известный лицей «Туолсленг». Известный, поскольку кадры, снятые в этом лицее передовой группой кхмерских кинематографистов в день освобождения столицы, обошли все телеэкраны мира. Что ни говори такие кадры даже в нынешнем столетии нечасты.
Лицей «Туолсленг» расположен в южной части города, приблизительно в трех километрах от центра Это современное, довольно красивое здание в форме двух составленных вместе букв L. Оно окружено четырьмя рядами проволочных заграждений и высокой двухметровой стеной. Через несколько дней после вступления в город «красных кхмеров» отсюда вывезли все оборудование и превратили школу в центральную тюрьму для наиболее опасных политических заключенных.
Кинокадры, о которых шла речь, были сняты 7 января 1979 года около трех часов дня в западном крыле здания. Классы на третьем и четвертом этажах, превращенные в камеры, были уже пусты. Классы на первом этаже, бывшая учительская и помещение для сторожей были превращены в камеры пыток. В одной из них и был обнаружен тот мужчина, которого я видел еще живым в госпитале «Прачкет Миалеа». Еще четырнадцать заключенных были уже мертвы. Истерзанные, скорчившиеся в конвульсиях трупы были все еще прикованы цепями к железным кроватям. По окоченевшим рукам и раздувшимся животам бродили куры, выклевывая червей из гноящихся ран.
Этих людей, о которых буквально ничего не известно, быстро похоронили на школьном дворе, засыпав тонким слоем щебня, оставшимся, надо полагать, от существовавшего здесь когда-то теннисного корта. Запах гниющих тел все еще не прошел: он пропитал школьные стены. Посреди двора стоят два железобетонных столба по четыре метра высотой, с огромными крючьями. Каждый из них служил виселицей; иногда использовались оба сразу, чтобы устроить так называемые качели. К одному столбу заключенного подвешивали за связанные руки, к другому – за ноги. Расстояние между столбами равнялось примерно тремстам тридцати сантиметрам, и тело узника изгибалось в дугу под действием собственной тяжести. Те, кто запроектировал это устройство, неплохо, должно быть, знали анатомию. На стальном крюке одного из столбов еще остался обрывок пеньковой веревки в два пальца толщиной.
Камеры пыток выглядели как в день освобождения. Не было только трупов. В школьных классах стояли железные кровати странной конструкций, по-видимому изготовленные для нужд тюрьмы, ибо никогда раньше я ничего подобного не видел. В сварной раме из углового железа были укреплены четыре толстых, прямоугольных, заостренных кверху бруса. На раму натягивалась сетка из очень толстой проволоки, пожалуй, даже из прутьев. В изголовье виднелась стальная крестовина. Она служила, вероятно, для того, чтобы держать в неподвижности голову узника. Ко всем кроватям прикованы запирающиеся на замок кандалы.
Пол в классах был покрыт лужами засохшей вишнево-коричневой крови и клочьями волос. В одиннадцати классах еще валялись орудия пыток. Это были главным образом складные саперные лопаты, состоящие на снаряжении американской армии. Они весят около двух килограммов. Их можно установить вертикально, и тогда они напоминают обычный заступ с короткой рукоятью. Но можно укрепить лезвие перпендикулярно рукояти, и тогда они напоминают мотыгу с необычно широким острием.
На всех лопатах – следы крови. Из-под оковки торчали человеческие волосы. Кроме лопат, я увидел восемь деревянных палок с толстыми стальными наконечниками и, по-видимому, со свинцом внутри, а также две плети из буйволовой кожи, три пары клещей, два поясных ремня с металлическими заклепками и два ножа для рубки тростника. Камеры были совершенно пусты, если не считать стоящих посередине железных кроватей. Только в предпоследней из комнат был столик, на котором стояла разбитая и помятая пишущая машинка с латинским шрифтом. В окнах не было решеток. Сетку из колючей проволоки можно было легко отодвинуть.
Тюрьма «Туолсленг» с особенной строгостью охранялась и была тщательно засекречена. Вряд ли тут велась какая-либо документация, иначе от нее остались бы хоть какие-нибудь следы. Полпотовцы покидали Пномпень в крайней спешке и не имели времени, чтобы уничтожить бумаги, если они были, или забрать их с собой. Поэтому об узниках, которые погибли здесь в страшных мучениях, ничего, в сущности, не известно[70]70
Впоследствии документация тюрьмы была найдена и представлена на судебном процессе по обвинению Пол Пота и Иенг Сари в преступлении геноцида (август 1979 г.). Сохранились фотоснимки и списки тысяч людей, замученных палачами «Туолсленга».
[Закрыть]. Полагают, что это были кадровые работники «красных кхмеров», схваченные при попытке дезертировать или организовать заговор. Остальных, кого и так ждало выселение, не было смысла столь изощренно пытать: хватило бы мотыг карателей в «коммуне».
Быть может, «Туолсленг» использовался и как следственная тюрьма, но главная цель тюремщиков по-видимому, состояла в том, чтобы умерщвлять людей как можно медленнее. Об этом говорит и способ которым приковывали заключенных – так, чтобы они совершенно не могли двигаться, – и употребление лопат, которые наносили глубокие, но с ограниченной площадью раны. У заключенных, которых нашли тут мертвыми в день освобождения, были переломаны почти все кости, изуродованы лица, имелись огромные кровоподтеки, но на голове не было чрезмерно глубоких ран. Били, вероятно, по нескольку часов в сутки, пока узник не терял сознания. Неизвестно, давали ли жертвам какую-нибудь еду и воду для питья. В отличие от застенка в Прейвенге, где стояло больше десятка мисок, здесь я не видел в камерах никакой посуды.
Невообразимая боль вместе с мучительной жаждой и невозможностью приблизить желанную смерть; очевидная бесцельность страданий и отсутствие всякой, даже малейшей надежды на спасение; миллионы москитов, влетающих по ночам сквозь незастекленные окна; большие кусачие муравьи, снующие по телу в поисках гноя или свежей крови; вид брошенной рядом саперной лопаты, которая через несколько часов снова будет рвать набухшие ткани и ломать уцелевшие кости. Достаточно все это осознать, мысленно занять место этих узников, чтобы на мгновение усомниться во всем. Во всей человеческой истории, во всех законах, идеях и нормах.
CLXIX. В подземельях западного крыла лицея есть небольшое темное помещение площадью пять квадратных метров. Когда-то это был, вероятно, склад школьных пособий. На полках еще стоят разбитые колбы и мензурки, виднеются запыленные щиты гальванометров и заржавевшие рукоятки школьных динамо-машин.
В этом помещении совершались самые страшные пытки.
Посреди камеры стоит крепкое деревянное кресло, сиденье которого оковано латунным листом, а вдоль спинки идут два плоских медных электрода. К подлокотникам прикреплены два толстых кожаных ремня, которыми заключенного привязывали к креслу.
В полуметре стоит американский трансформатор фирмы «Дженерал электрик», который позволяет постепенно увеличивать напряжение от нуля до ста семнадцати вольт. Должно быть, он порядочной мощности, так как концы обмотки сделаны из толстых, тщательно изолированных сплетений. Амперметр, вольтметр и рубильник соединены системой кабелей с электродами и металлической обивкой кресла. По-видимому, сквозь узника пропускали ток небольшого напряжения, но большой силы. Применялся, вероятно, и другой способ обжигания тканей и поражения нервной системы. Рядом с креслом лежат два толстых медных стержня с зажимами в виде щипцов. Быть может, их подключали непосредственно к автотрансформатору, который ставился на самое высокое напряжение, или к двум большим танковым аккумуляторам, установленным друг на друга и последовательно соединенным. Около ножки валяется электрический паяльник мощностью в двести или триста ватт. Его наконечник покрыт пятнами крови и опаленной кожей с волосами.
В помещении стоит горько-сладкий запах паленого, старой меди и электролита. Ни одно из устройств уже не работает. В Пномпене нет электричества.
CLXX. При выходе из коридора мы наткнулись на рулон бумаги недурного качества. Это был типографский плакат, единственный, который я видел в этой стране. Над большой картой Индокитайского полуострова склонились две карикатурные фигуры; президент Хо Ши Мин и президент США Линдон Джонсон. Сердечно обнимаясь, они одновременно протягивали руки с растопыренными пальцами к южной части карты. У обоих из глаз текли крупные слезы, на устах играла одинаковая улыбка. Указательные пальцы двух политиков встречались в том месте карты, где обозначена Кампучия.
Ничего нельзя было понять из этого плаката. Кто и зачем мог его отпечатать? Джонсон сошел с американской политической сцены в 1968 году, в период наибольшего обострения интервенции во Вьетнаме, ожесточенных боев на юге страны, особенно во время наступления «тэт». Мысль о том, что Вьетнам и Соединенные Штаты способны с какой-то целью вступить в тайный сговор, могла прийти в голову только людям с больной психикой. Но пациенты психиатрических клиник не печатают плакатов. Если даже плакат придумал или нарисовал лично Сианук, то смысл плаката противоречил его тогдашнему политическому курсу, ибо, видя угрозу со стороны «голубых кхмеров», Сианук несколько «смягчал» свои прежние антиимпериалистические взгляды, временами весьма крайние. Трудно также считать этот плакат китайским творчеством: Пекин занимал в ту пору позицию, враждебную по отношению к Соединенным Штатам, и продолжал, хотя и в меньшей степени, поддерживать борьбу вьетнамского народа.
Нам не удалось решить загадку. В этой стране очень немногое можно выяснить до конца.








