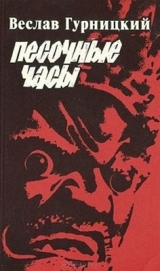
Текст книги "Песочные часы"
Автор книги: Веслав Гурницкий
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 21 страниц)
Лишь это чрезвычайное стечение обстоятельств привело группу Пол Пота к власти; если бы не оно, эти люди наверняка пропали бы без вести в каких-нибудь неизвестных тюрьмах или джунглях.
18 марта 1970 года в Пномпене произошел вооруженный государственный переворот, который целиком подготовило и финансировало ЦРУ Соединенных Штатов Америки. Некий Чанг Хенг, фигура настолько мелкая, что о нем никогда Не слышали даже аккредитованные в Пномпене американские журналисты, объявил себя временным президентом. Вскоре, однако, обременительная маскировка была отброшена и полнота власти перешла к генералу Лон Нолу. Он тут же произвел себя в маршалы и объявил бессрочную отмену всех политических прав и свобод. Лон Нол был дюжинным американским наемником, и не более того. За ним не стояла даже патриотически настроенная часть офицерского корпуса. Не имел он поддержки и у средней национальной буржуазии. Сианук был сперва лишен власти, а затем и трона. В течение нескольких недель были заполнены тюрьмы и концентрационные лагеря. Кампучия перестала быть нейтральной страной. С согласия Лон Нола американская авиация предприняла ежедневные, необычайно интенсивные бомбардировки пограничной полосы, чтобы «раз и навсегда» перерезать «тропу Хо Ши Мина».
Международная ситуация обострилась до такой степени, что социалистические страны удвоили, а затем утроили свою помощь Вьетнаму. Конкретно речь идет прежде всего о поставках советского оружия и – в гораздо меньшей степени – китайских боеприпасов. Теперь Вьетнам, впервые располагавший более многочисленным и современным вооружением, смог наконец оказать какую-то помощь кхмерским партизанам, тем более что «красные кхмеры» контролировали к этому времени несколько освобожденных пограничных зон, куда боялась заглядывать армия Лон Нола. Задача заключалась в том, чтобы расширить эти зоны и по возможности связать американские войска также и в Кампучии.
Пол Пот за один год добился положения признанного революционного руководителя. Партия, которую он возглавлял, была признана почти всеми коммунистическими и рабочими партиями единственной представительницей борющегося кхмерского народа.
И в эти годы в поведении Пол Пота трудно обнаружить симптомы будущего сумасшествия. За 1971 год он трижды посетил Ханой и каждый раз благодарил вьетнамский народ и его партию за братскую помощь. Иенг Сари делал это еще чаще и более красноречиво. Во время своего визита в Пекин Пол Пот декларировал, правда, свое преклонение перед председателем Мао, но в речи, которую он публично произнес, не было ни слова, которое можно было бы рассматривать как выпад против СССР и европейских социалистических стран.
Следующий визит Пол Пота в Пекин длился целые три недели. Можно предполагать, что именно тогда, в середине 1972 года, окончательно определились его взгляды. Неизвестно, были ли его неоднократные беседы с Кан Шэном чем-то большим, нежели обмен разведывательной информацией. Но не подлежит сомнению, что именно тогда, между 1971 и 1973 годами, группа Пол Пота непреложно решила осуществить революцию в Кампучии по образцу китайской «культурной революции».
Доказательства этому есть. Именно в данный период на территории освобожденных зон состоялись первые казни богатых крестьян, чего Пол Пот ранее избегал, были созданы «коммуны» по образцу самых крайних вариантов китайских «народных коммун». Проведена была первая чистка среди кадров «красных кхмеров», и среди обновленных кадров была начата пропаганда лозунга, выдвинутого Линь Бяо и подхваченного летом 1966 года хунвэйбинами: сперва надо разрушить, чтобы начать строить заново.
Не военно-агентурная зависимость от Китая, не маоизм тридцатых-сороковых годов, не холодный расчет на то, чтобы снискать расположение и получить помощь огромной страны, а безграничное самоотождествление с философией «культурной революции» в ее наиболее крайних формах явилось, на мой взгляд, исходным пунктом всех действий «Ангки» начиная с того дня, когда она захватила власть в Кампучии.
CXXV. Quod erat demonstrandum[54]54
Что и требовалось доказать (лат.).
[Закрыть]. На этом месте можно было бы закончить рассуждения.
CXXVI. О «великой пролетарской культурной революции» принято говорить с ужасом. Это понятно: она причинила Китаю неописуемые бедствия. Ее ход был во многих случаях недостоин цивилизованного народа и изобиловал нелепостями, которых не объяснить никакой китайской спецификой. Почти шестилетний период безумия привел к общему регрессу во всех сферах жизни. Эту оценку разделяет сегодня даже китайское руководство.
Но ведь не так уж далеки времена, когда об этой самой «культурной революции» в мире говорили весьма одобрительно, и не только в Китае. Сегодня трудно воссоздать то состояние полной завороженности, в которое привела «культурная революция» тысячи, а может быть, и сотни тысяч молодых людей на Западе. Внезапный устойчивый спрос на «красную книжечку». Китайские значки с изображением председателя Мао, которые носили в Гамбурге, Падуе и Тулузе. Стихийно образовывавшиеся группы по изучению маоизма в американских и западногерманских университетах. Ошеломляющего характера лозунги, заимствованные непосредственно от хунвэйбинов и плывущие над экзальтированной толпой во время майских событий 1968 года во Франции. В странах Черной Африки существовали тогда правительства, которые в сочинениях председателя Мао отыскали вдруг лекарство от собственных болячек. Философы, которые написали к статьям Линь Бяо целые километры ученых комментариев. Лидеры молодежных движений, с чувством облегчения ухватившиеся за набор лозунгов, которые стоят того, чтобы быть побитым полицией. Как «длинное жаркое лето» негритянских волнений в США, так и первая крупная волна терроризма на Западе генетически были связаны с психологическим аспектом китайской «культурной революции».
Конечно, было в этом много от преходящей моды, мальчишеского упрямства и бунта ради бунта. Но в тогдашних триумфах «позднего маоизма» было, наверное, и нечто большее, нежели мода. «Культурная революция», наблюдаемая издали, известная только по сообщениям печати, не могла оставить равнодушным никого, кто сохранил юношескую потребность в братстве и справедливости или по крайней мере сознавал, что буржуазная интерпретация смысла жизни полностью обанкротилась.
То, что предлагала тогдашняя действительность молодым людям на всю оставшуюся Жизнь, было прежде всего скучно. Ведь даже европейское толкование коммунизма, в распространенном его понимании, сводилось к тому, что после завоевания власти надо добросовестно трудиться, старательно приумножать созданное и заботиться о сохранении личных и гражданских добродетелей. Зато «культурная революция» обещала вечное, никогда не кончающееся приключение, призывала разрушать и расчищать поле, отвергала существующее понимание зла и добра. Если китайские студенты смогли опрокинуть прогнившую систему обучения, почему того же самого не удастся добиться французским или американским студентам? Если такая большая страна смогла ввести у себя, как тогда думали, благородное и полное равенство в точном смысле этого слова, почему, собственно говоря, надо оставлять безнаказанным буржуйское чванство в Чикаго или Амстердаме? «Учиться у китайцев» – одно это было примечательным фактом из истории социальной психологии; а ведь два и уж тем более три поколения тому назад считали очевидным, что учить надо «желтых» и «диких».
Такая повсеместная увлеченность китайским примером порождена была в первую очередь коренящейся в психике каждого нового поколения потребностью в «чистом и светлом» мифе. Тоской по утопии, без которой человеческие сердца заплывают жиром, а мозги костенеют.
В этой тоске не было ничего, что само по себе Заслуживало бы осуждения с моральной или интеллектуальной точки зрения. Оплевывание зарубежных дипломатов, поджог британского посольства в Пекине, разрушение древних статуй – все это можно было спокойно признать издержками, неизбежными в ходе всякого большого революционного движения. Тот момент, когда молодой человек отвергает общепринятое социальное зрение и начинает воспринимать мир глазами отверженных, – это одновременно и момент, когда принимается новая система ценностей. В прошлом это случалось неоднократно и, вероятно, произойдет еще не раз.
СХХVII. Шведский журналист Ханс Гранквист описывает в своей книге «The Red Guard»[55]55
«Красная гвардия» (англ.).
[Закрыть] первый день «культурной революции» в Шанхае.
23 августа на рассвете главная улица города, которая во времена концессий называлась Нанкин-роуд, а в этот день была переименована в Антиимпериалистический проспект, заполнилась десятками тысяч людей, самым старшим из которых было по двадцать с небольшим лет. Они несли множество красных флажков, портретов председателя Мао и транспарантов, на которых чаще всего встречалась такая надпись: «Мы критики старого мира и строители нового!»
Хунвэйбины вторглись сперва в два универмага, еще частично остававшихся собственностью капиталистов, где продавали предметы роскоши, товары, ввозимые из Гонконга. Все было сброшено с полок, радиоприемники разбиты, фарфор растоптан. На стене универмага «Вин Он» был вывешен плакат такого содержания: «Пока капиталистический «Вин Он» находится среди нас, до тех пор у рабочих не будет достаточного количества металла, чтобы преодолеть горы и реки. Этот универмаг должен немедленно перейти в собственность народа. Отныне он переименовывается в «Хунвэй» – „Красная гвардия“».
С частных и кооперативных магазинов по всему Антиимпериалистическому проспекту были сорваны все вывески, надписи и рекламные объявления, взамен которых были водружены транспаранты с лозунгом: «Да здравствует председатель Мао!» С особенной яростью разбивали магазины косметики и кожаной обуви; товары швыряли на улицу, кое-где даже сжигали. Был вывешен наскоро сочиненный плакат, которым осуждался сам факт ношения кожаных ботинок. Разгромлены были лучшие парикмахерские. На улице начали задерживать тех, кто был одет в «костюмы из Гонконга», то есть в одежду западного покроя, и сдирать или рвать ее, как явное доказательство преклонения перед капиталистическим образом жизни. После каждой очередной победы над пережитками капитализма раздавались пронзительные звуки свистулек и грохот бубнов.
Ночью были закрыты все без исключения католические и протестантские церкви, буддийские пагоды, конфуцианские святилища. Часть храмовых помещений была разбита, литургические сосуды выброшены на улицу, у статуэток Будды отбивали животы и головы. С постаментов сбрасывали бронзовых львов, охранявших в прошлом иностранные банки и корпорации, срывали надписи с латинским шрифтом, а знаменитые куранты на башне таможни, которые вот уже шестьдесят лет являлись символом Шанхая, были поставлены на службу «культурной революции»: нашли механика, который, переделал нежные звоночки курантов, чтобы с башни отныне раздавалась боевая песня хунвэйбинов «Алеет восток».
Созданы были специальные патрули, преимущественно из студентов, которые занялись поисками и уничтожением книг. Правда, не всех: гнев хунвэйбинов распространялся или на дореволюционные издания, в том числе древнейшие памятники печатного искусства, или на книги, изданные после 1949 года, но вышедшие из-под пера лиц, попавших впоследствии в черный список. Сожжены были почти все экземпляры книги Лю Шаоци «Как стать хорошим коммунистом», которая в течение четверти века считалась в китайском революционном движении одной из самых оригинальных и важных теоретических работ. Сожгли многотомные сочинения виднейшего китайского поэта Го Можо, который, впрочем, сам этого потребовал.
Хунвэйбины овладели городом за 48 часов. Население города составляло около десяти миллионов. Численность штурмовых отрядов хунвэйбинов по самым тщательным подсчетам зарубежных корреспондентов не могла превышать ста тысяч человек, включая в это число и детей, которые, вне себя от счастья, сопровождали колонны хунвэйбинов, разжигали костры и били зеркала. К тому же шанхайское движение хунвэйбинов, на месяц запоздавшее по сравнению с крупными северными городами, не имело никакой поддержки среди местных партийных органов и местного армейского гарнизона.
И все-таки «культурная революция» в Шанхае увенчалась полным успехом. Выводы, которые сделал из этого Пол Пот, оказались достаточно красноречивы.
СХХVIII. Поражает сходство между этим описанием и рассказами о первом дне власти «красных кхмеров» в Пномпене. Весьма сходная или идентичная мотивировка борьбы с «пережитками капитализма». Народный гнев, направленный против косметики, обуви, электронной аппаратуры, модной одежды. Физическое насилие над «лицами, идущими по капиталистическому пути», причем без какой бы то ни было судебной процедуры или чего-либо похожего на суд. Безграничная ненависть ко всему импортному, иностранному, заимствованному, неизвестному простым людям. Отчаянная решимость уничтожить блага старой, а следовательно, вредоносной культуры. Неистовство разрушения, выглядящее как некий искупительный акт, ибо в хунвэйбинах с первого момента живет сознание, что уничтожение свершается ради того, чтобы потом строить. И наконец, одинаковая, абсолютная, лишенная каких бы то ни было внутренних сдерживающих начал диктатура безликой толпы. Толпы, которая не занимается грабежом. Толпы, чей жестокий гнев чист, как огонь, ибо никто в ней не стремится улучшить лишь собственную, личную судьбу, ибо каждый стремится ко всеобщему благу и всеобщему равенству. Такая толпа – это не чернь, мечтающая о разграблении шикарных магазинов, это не пьяный, никчемный сброд, которому не раз удавалось повернуть на многие годы вспять течение истории. Такая толпа, если ее разумно направить и вовремя подсунуть ей соответствующие лозунги, может в какой-то миг восприниматься как истинный глас народа. Глас народа никогда не бывает так громок, если нет для этого повода.
Сходство между событиями в Китае и в Кампучии заходит так далеко, что можно говорить об идентичности. С той лишь разницей, что китайская «культурная революция» остановилась на полпути, а в Кампучии была доведена до логического конца.
Историческая возможность, которой располагал Пол Пот, выразилась в том, что в результате совершенно исключительного стечения обстоятельств он получил в свою власть целый народ и осуществил над ним социальный эксперимент в не имеющем прецедентов масштабе. Никому, никогда и нигде, по крайней мере в новое время, это в такой степени не удавалось из-за разного рода причин внутреннего и внешнего порядка. Но зачатки подобных концепций можно обнаружить в прошлом, даже не столь отдаленном, так как любое «окончательное решение» выглядит намного привлекательнее, чем медленная езда на ослином хребте истории. Нет доказательств, что предпосылки таких умозаключений отброшены раз и навсегда.
Через пятьдесят лет про черепа в Прейвенге забудут. Масштаб событий в Кампучии скоро сузится – в сопоставлении с событиями прошлого, которые имеют больший резонанс и более удачливых летописцев, или в сопоставлении с событиями, которые впереди и которых никто не может предвидеть. Отсюда важность Greuelgeschichte, ибо они приходят на помощь профессиональным историкам, фиксируя момент, который ими никогда пережит не будет. Однако есть вещи и поважнее. Например, весьма существенный вопрос: может ли Кампучия повториться?
CXXIX. «Характерной чертой привилегий и каждого вообще привилегированного положения является разрушение человеческих сердец и умов. Человек, привилегированный в политическом или экономическом отношении, – это человек, развращенный интеллектуально и морально. Это социальный закон, из которого нет никаких исключений, закон, относящийся к целым нациям, классам и социальным группам, а также ко всем личностям. Это закон равенства, высшее условие свободы и человечности» (Михаил Бакунин. «Кнутогерманская империя и социальная революция». Цитируется по английскому переводу).
СХХХ. Доктрина «культурной революции» (во всяком случае, в варианте, предназначенном на экспорт) имела четыре важных, хоть и редко выделяемых элемента, без понимания которых нельзя объяснить ни столь широкого увлечения ею, ни такой массы книг, которая посвящена этому довольно кратковременному и в конце концов бесславному эпизоду китайской истории.
Считается, во-первых, что она была логическим продолжением так называемого «китайского пути», реакцией на бессильный пессимизм, вызывавшийся азиатской действительностью. Она как бы возродила надежды, характерные для левонастроенной молодежи пятидесятых годов, а потом развеявшиеся под напором фактов и сомнений. Ее сочли возвращением к истокам, к простым и чистым истинам «Великого похода», к вере в то, что нет такой нищеты и таких бедствий, которых нельзя быстро ограничить, а лет за двадцать и полностью преодолеть. Китай опять предстал перед миром как «иная» страна, которая последовательно руководствуется легко понятными в Азии лозунгами и стоит вне подозрений в имперских и соглашательских махинациях, страна, на свой лад бесстрашная и удивительная. Разрядка, улучшение отношений между Востоком и Западом, ядерные соглашения – все это лишь в Европе представляется необходимым и очевидным. Для многих жителей Азии, причем не только склонных к левизне, эти понятия зачастую означают совсем иное. Выступая против «сговора сверхдержав», Китай мог тогда рассчитывать на сочувственный отклик даже и за пределами Азии. Весь этот реквизит, иногда забавный, вроде тысячи «серьезных предупреждений» в адрес Соединенных Штатов, иногда поэтичный, как метафора председателя Мао насчет «восточного ветра», иногда вызывающий недоумение, как, например, понятие «бумажного тигра», включенное в принципы государственной политики, – все это, казалось, возрождало китайскую легенду первого Десятилетия.
Во-вторых, «культурная революция» заново провозгласила абсолютное равенство, толкуемое буквально и не допускающее исключений: начиная с одинаковых полувоенных курток, всеобщего рационирования продовольствия и дефицитных тканей, кончая равными правами рядового и маршала. Лишь спустя годы обнаружилось, что сама «императрица» Цзян Цин отнюдь не злоупотребляла аскетизмом, а часть средних кадров КПК, даже те, кто поддержал новые идеи председателя, по-прежнему пользовалась привилегиями, о которых тогдашние хунвэйбины ничего или почти ничего не знали. Но выявилось это значительно позже. В начальной фазе «культурной революции» лозунг полного эгалитаризма занимал в ее программе главное место.
С моральной точки зрения это неуязвимый лозунг, если принять тот специфический взгляд на мир, о котором сказано выше. Этот лозунг неизменно притягателен для наиболее достойной части молодого поколения в странах очень бедных или очень богатых, так как в первых островки богатства, а во вторых островки нищеты одинаково бросаются в глаза.
К тому же абсолютное равенство служит исходным понятием для более широких умозаключений. Оно дает возможность осознать, что, предоставленный самому себе, человек чуть ли не сразу начинает обрастать вещами, вырабатывает собственнический инстинкт, подсознательно, стремится к тысяче неравенств, которые вскоре обратятся против его же интересов, против того же собственнического инстинкта. Вековая трагикомедия мелкого буржуа, ненасытность его желаний давно известны ученым и литераторам. Бакунин подметил это целых сто лет назад. В отчаяние приходил из-за этого Дюркгейм, полемизировавший с Сен-Симоном. Выхода тщетно искали, в сущности, все представители раннего этапа радикальной общественной мысли, от Сореля до Лабриолы, от Спенсера до Макса Штирнера[56]56
Эмиль Дюркгейм (1858–1917) – французский буржуазный социолог, позитивист.
Артуро Лабриола (1873–1959) – итальянский политический деятель и экономист, один из лидеров синдикализма.
Герберт Спенсер (1820–1903) – английский философ и социолог, один из родоначальников позитивизма.
[Закрыть]. Суть спора можно было бы свести к двум формулам: первая гласит, что сперва надо разрушить, чтобы затем строить заново, согласно второй – надо взять дело в свои руки и строить дальше уже на правильных основах. Это относится и к материальным явлениям, и к нематериальным, то есть к нормам, законам, традициям и формам общественной жизни. Спор этот, в сущности, до сих пор не угас, а ход истории придает ему все новые и новые масштабы.
Сочинения Мао Цзэдуна, не говоря уже о примитивных рассуждениях Линь Бяо, не соотносятся с историей этого направления в европейской мысли. Но как раз в данном случае это не так важно. Для решения дилеммы равенство – неравенство массам подчас достаточно, одного четкого лозунга и собственного инстинкта, о природе и действенности которого Не должен судить никто, кто с ним не сталкивался.
В-третьих, лозунги «культурной революции» были ударом по одному из самых застарелых, почти нерушимых принципов привычной для Азии этики – всевластию стариков. Культ зрелого возраста и особенно седовласой старости выступает здесь как явление, которое в Европе не имело аналогий даже в эпоху полного патриархата. Любой склеротический бред автоматически обретает черты мудрости и морального императива, если исходит из уст старика; неизменность, длительность и поддержание преемственности равнозначны единственно допустимому моральному порядку. Беспрекословное послушание тем, кто старше возрастом, распространяющееся даже на старших родственников, является мерой человеческой ценности.
Теперь молодые и гневные бунтари могли стать наконец правы. Могли дать волю негодованию по поводу несправедливости в мире и в собственной стране, безнаказанно обвинять стариков в отходе от революционных идеалов и многочисленных компромиссах. Более того, они, молодые, не обросшие барахлом, должны были стать силой, преобразующей мир. Значение такой силы, для которой сам факт биологической молодости важнее, чем образование, характер или взгляды на дальнейший ход истории, неплохо понимал, например, гитлеровский рейхсюгендлейтер Бальдур фон Ширах. Его речи конца тридцатых годов, собранные в томе «Революция в воспитании», – это непревзойденный до сих пор образец мифологического культа молодости. Фон Ширах издавал даже специальный журнал «Воля и мощь», в подзаголовке именовавшийся «неустрашимым изданием». Девиз его гласил, что в журнале «обретают голос творческие силы молодости».
Этот всеобъемлющий призыв к молодости как таковой везде, а особенно в Азии, не может не вызвать непредвиденных последствий. Те, кто решился на этот шаг, должны были хорошо знать, что молодое море зальет гораздо больше островов, чем предусматривалось планами. Но зато этим людям были обеспечены стихийная поддержка и даже, пусть на короткое время, чье-то полное самоотождествление с идеями «культурной революции», даже в таких странах, где культ стариков не был самой обременительной проблемой.
В-четвертых, и это главное, «культурная революция» обещала, как казалось, долгосрочное решение проблемы, с которой на протяжении четырех поколений не могли сладить левые мыслители, – проблемы власти. Последняя должна была отныне иметь источником непосредственный наказ народных масс, без «парламентского мошенничества», и вместе с тем исключить атрибуты чьей бы то ни было, кроме, разумеется, председателя, персональной несменяемости. Вечный и бдительный надзор революционного народа должен был уберечь власть от чиновничьих навыков, косности, непотизма, коррупции, недостатка воображения. Никакие заслуги не могли отныне стать иммунитетом, ни одна ступень власти не могла отгородиться от вопросов, которые ставит непосредственно народ, минуя созданные ранее механизмы.
Существует точка зрения (высказываемая, впрочем, лишь западноевропейскими исследователями), согласно которой у Мао не было другого выхода и пришлось привести в движение страшную разрушительную силу, чтобы разбить окостеневшие структуры власти на местах, призвать к порядку новых, заплывших жиром мандаринов. Более того, «культурная революция» должна была стать постоянным, если не вечным явлением, во всяком случае, периодически повторяющимся, чтобы впредь власть не становилась самостоятельным институтом и не возникал разрыв между ее структурами и волей народа.
Эта точка зрения не могла не импонировать троцкистам, которые вот уже полвека кричат о необходимости «перманентной революции» и предают анафеме само существование социалистического государства. А также анархистам, среди которых не все стоят на умственном уровне батьки Махно.
«Культурная революция» – как ее восприняли на Западе – была по всем данным первой за много лет новой интеллектуальной и моральной инициативой. Она соединяла элементы всех больших и малых ересей последнего полувека, возводила в высокий ранг второплановые явления в радикальных революционных течениях, давно уже названные неосуществимой утопией или того хуже. Она позволяла пересмотреть генезис всех ходовых понятий, обратиться к истокам, выдвинуть вечные вопросы о границах общественного порядка и месте личности в непрерывном потоке истории. О форме социальной утопии, без которой жизнь народа превращается в пекло.








