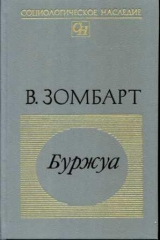
Текст книги "Буржуа"
Автор книги: Вернер Зомбарт
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 33 страниц)
Отчетность
Так как крупную часть капиталистического хозяйства составляет заключение договоров о расцениваемых на деньги действиях и вознаграждении (покупка средств производства, продажа готовых продуктов, покупка рабочей силы и т. д.) и так как начало всякого капиталистического хозяйственного акта, так же как и окончание его, есть денежная сумма, то важную составную часть капиталистического духа образует, как это очень хорошо понимали еще в начальной стадии капиталистического хозяйства, то, что я уже раньше назвал отчетностью. Под последней надлежит разуметь склонность, обыкновение, но также и способность разлагать мир на числа и составлять эти числа в искусную систему прихода и расхода. Числа, само собой разумеется, суть всегда выражение величины ценности, и система этих величин ценности должна служить для того, чтобы привести, отрицательные и положительные ценности в такое соотношение друг к другу, чтобы можно было заключить из него, принесло ли предприятие прибыль или убыток. Обе стороны «отчетности» проявляются следовательно, в том, что ныне составляет две дисциплины учения о частном хозяйстве: в «коммерческой арифметике», с одной стороны, в «бухгалтерии» – с другой.
Три пути открыты перед нами, чтобы проследить возникновение и дальнейшее развитие отчетности:
1) мы можем по состоянию технического аппарата симптоматически установить состояние отчетности;
2) мы можем по сохранившимся счетам и ведению книг непосредственно усмотреть, как считали в ту или иную эпоху;
3) мы можем использовать случайные отзывы современников в качестве свидетельств о состоянии отчетности в определенную эпоху или в определенной стране.
Еще в моем «Современном капитализме» я набросал ход развития отчетности со средних веков и ограничиваюсь поэтому некоторыми немногочисленными указаниями, которые ради связности изложения должны найти здесь место. Некоторые новые примеры дополнят то, что я излагал прежде (175).
Колыбелью коммерческой арифметики также является Италия, говоря точнее, Флоренция: сочинением «Liber Abbaci» Леонардо Лизано, вышедшим в 1202 г., закладываются основы правильной калькуляции. Но все же еще только основы. Точному счету пришлось еще только медленно обучаться. В XIII столетия только получают права гражданства в Италии арабские цифры со значением по месту, без которых мы с трудом можем представить себе быстрое и точное вычисление. Но еще в 1299 г. их употребление запрещается членам цеха Calimala! Как медленно даже в Италии делало успехи искусство счета, показывает еще рукопись «Introductorius liber qui et pulveris dicitur in mathematicam disciplinam» из второй половины XIV столетия, автор которой вперемежку употребляет арабские цифры со значением по месту, римские числовые знаки, счет по пальцам и по суставам.
С XIV столетия в Италии, с XV и особенно с XVI на севере искусство счета затем быстро развивается дальше. Укореняется цифровой счет и вытесняет постепенно неуклюжий счет по линейке, что означало большой прогресс: «Насколько лучше положение пешехода, идущего налегке и не нагруженного никакой ношей, против другого, отягощенного тяжелой ношей, настолько лучше также и положение искусного счетчика по цифрам сравнительно с другим, считающим по линиям», – правильно признавал уже счетный мастер Симон Якоб из Кобурга.
Уже до Тартальи, математического гения XVI столетия, который усовершенствовал коммерческую арифметику, среди итальянских купцов развился при товарных вычислениях вместо тройного правила новый род «заключительного счета», который под названием «романского способа» в начале XVI столетия распространяется из Италии по Франции и в Германии. На немецком языке романский способ впервые привел Генрих Гримматеус в своей счетной книге (1518 г.). В XV столетии были «изобретены» десятичные дроби, которые с 1585 г. Симоном Стевином вводятся в употребление. 1615 год – год рождения счетной машины.
Под влиянием счетных книг, число которых быстро увеличивается, учение коммерческой арифметики весьма упростилось. Общераспространенности счетного искусства содействовали школы арифметики, которые развиваются, особенно в торговых городах, с XIV столетия. В XIV столетии во Флоренции (снова Флоренция!) существует уже шесть таких школ, которые, как нам сообщает Виллани, регулярно посещались 1 200 мальчиками и в которых преподавались «абакус и элементы коммерческой арифметики». В Германии эти школы, кажется, раньше всего возникли в Любеке; в Гамбурге потребность в них появилось около 1400 г.
Начатки упорядоченной бухгалтерии существуют еще в XIII столетии; счетные выписи папы Николая III от 1279–1280 гг., расходные регистры общины Флоренции от 1303 г. свидетельствуют о том, что в то время простая бухгалтерия была почти что совершенной. Но и двойная бухгалтерия того же возраста, хотя сомнительно, чтобы она была в употреблении уже в XIII столетии. Документально установлено исследованиями Корнелю Дезимони, что, во всяком случае, уже в 1340 г. городское управление Генуи вело свои книги на основе Partita doppia60 с таким совершенством, которое позволяет заключить о значительном возрасте этой системы. Из XV столетия мы обладаем затем многочисленными свидетельствами ее распространения в общественном и частном счетоводстве. Наиболее поучительным и наиболее полным примером служат дошедшие до нас торговые книги братьев Соранцо в Венеции (1406 г.), обработка которых является заслугой Г. Зивекинга. Свое первое теоретическое освещение и изложение двойная бухгалтерия нашла затем у Фра Луки Пачиуоли, который в одиннадцатом трактате девятого отдела первой части своей «Summa arithmetica» развил этот предмет.
Совершенно или менее совершенно, во всяком случае, «считали» в эти века зарождающегося капитализма, особенно в Италии, уже весьма много; считали и вели бухгалтерские записи: счет и бухгалтерия сделались существенно важным занятием «мещанских» предпринимателей, которые вначале, несомненно, еще должны были делать сами многое, что впоследствии было перенесено на служащих-бухгалтеров.
Мессер Бенедетто Альберти говаривал: «Как это хорошо идет дельному коммерсанту, когда у него руки постоянно выпачканы в чернилах». Он объявил обязанностью всякого купца, так же как и всякого делового человека, имеющего дело со многими людьми, всегда все записывать, всякий договор, всякий приход и расход денег, все проверять так часто, чтобы он, в сущности, никогда не выпускал пера из рук… (176).
Предводительство в области коммерческого счета, которое вначале, без сомнения, принадлежало Италии, перешло затем в последующие столетия к Голландии. Голландия сделалась образцовой страной не только для всего того, что называлось мещанской добродетелью, но также и для точности в счете. Еще в XVIII столетии ощущается расстояние, разделявшее, например, американское и голландское коммерческое искусство. Франклин рассказывает (177) о вдове одного компаньона, урожденной голландке: как она впервые посылала ему регулярные и точные расчеты, к которым нельзя было побудить мужчину (американца): «Бухгалтерия, – добавляет он, – составляет в Голландии часть женского образования». Это относилось к 30-м годам XVIII столетия.
Затем Англия стала рядом с Нидерландами. В начале XIX столетия немецкие коммерсанты указывали на Англию и Голландию как на страны с самым развитым «коммерческим образованием», которое внутри Германии, в свою очередь, было в те времена, кажется, выше всего развито в Гамбурге. Об отношении этих стран друг к другу хороший знаток дела пишет в 30-х голах XIX столетия следующее:
«Таких свободных и ясных взглядов в коммерческих делах, как их имеет именно англичанин – этот коммерсант до мозга костей, – гамбуржец достигает очень редко и только поздно; той решительности, самостоятельности, которую проявляет тот, этому в большей или меньшей степени в указанном отношении совершенно недостает. Все же можно гамбургскую коммерческую аккуратность справедливо провозгласить как образец для остальной Германии; она почти равняется голландской по осмотрительности, но значительно либеральнее, чем взгляды боязливого мингеера» (178).
Но то, что в те времена отчетность даже и в менее развитых странах составляла железный остов капиталистического духа, – разумеется само собой.
Этими последними замечаниями, равно как и некоторыми более ранними, об истории мещанских добродетелей, я уже указывал на национальные различия, наблюдаемые нами в постепенном развитии капиталистического духа. На эту проблему мы еще несколько больше внимания обратим в следующем отделе.
Отдел третийНациональный расцвет капиталистического духа
Различные возможности его проявления
Возникновение и развитие капиталистического духа есть общее явление для всех европейских и американских народов, составляющих историю Нового времени. Мы имели достаточно свидетельств этому: примеры, на которых я в предыдущем изложении пытался изобразить генезис этого духа, заимствовались из истории всех стран. И пролегающий на глазах у всех ход событий подтверждает ведь эту всеобщность развития.
Существуют, конечно, все-таки различия в ходе расцвета современного хозяйственного образа мыслей; различия прежде всего по разным эпохам капиталистического развития. Здесь будут прежде всего прослежены национальные различия, и сперва мы именно представим себе, в чем эти различия могут заключаться:
1) различным может быть момент времени, в который нация (народ или как-нибудь иначе отграниченная группа; характер отграничения здесь значения не имеет, ибо я в последующем буду разграничивать главным образом великие исторические нации как группы, подлежащие в отдельности рассмотрению) бывает захвачена потоком капиталистического развития, момент, в который начинается генезис буржуа;
2) различной может быть продолжительность времени, в течение которого капиталистический дух владеет нацией; таким образом, получается различие в продолжительности времени капиталистического развития;
3) различной может быть степень интенсивности капиталистического духа: мера напряжения предпринимательского духа и инстинкта наживы, мера мещанской добродетели и отчетности;
4) различной может быть экстенсивность капиталистического духа: распространение его по различным социальным слоям народа;
5) различным может быть соотношение и сочетание отдельных составных частей капиталистического духа (предпринимательский дух – мещанский дух – различные формы проявления предпринимательского духа и т. д.);
6) различной может быть сила развития и продолжительность развития этих отдельных составных частей; развитие может у всех иметь равномерный ход или у каждой составной части особенный.
Легко можно сообразить, какое чрезвычайное разнообразие может проявить общее развитие буржуазной природы в отдельных странах при наличии бесчисленных комбинаций перечисленных возможностей. Важнейшее различие национального развития, однако, следующее: сильно или слабо развит капитализм в данной стране; доходят ли все составные части или отдельные – и какие – до полного расцвета; начинается ли развитие рано или поздно; является ли оно преходящим, перемежающимся или длительным.
Как эти различные возможности стали теперь в отдельных странах действительностью, какое своеобразие проявляет в них вследствие этого история капиталистического духа, это должен показать последующий (и, несомненно, весьма несовершенный) эскиз.
Развитие в отдельных странах
1. Италия
Италия, пожалуй, та страна, где капиталистический дух расцветает раньше всего. Он находит, начиная с XIII столетия, в верхнеитальянских торговых республиках такое распространение, которое уже в XIV столетии делает его массовым явлением. Несомненно, однако, что в течение средних веков он достиг там уже такой высоты интенсивного развития, как нигде более. Я ведь имел возможность черпать свидетельства для этого раннего времени в чрезвычайном изобилии из итальянских источников.
Особенно те душевные черты, которые я в совокупности назвал мещанским духом, мы находим раньше всего развитыми в итальянских городах, и опять-таки сильнее всего в тосканских.
О различном направлении развития предпринимательского духа в этих и других итальянских городах, в особенности в обоих крупных приморских городах – Венеции и Генуе, я тоже уже говорил. Я хотел бы, однако, еще раз сильно подчеркнуть, что сильнейший толчок к развитию буржуазной природы прежде всего дала Флоренция: здесь уже в XVI столетии, как мы могли установить, господствовало лихорадочное (является искушение сказать: американское) стремление к наживе; здесь все круги общества одушевляла доведенная до любви привязанность к делу. Флоренция – это «то самое государство, к которому умирающие отцы обращались в завещаниях с просьбой оштрафовать их сыновей на 1000 золотых гульденов, если они не будут заниматься никаким регулярным промыслом» (179); здесь специфически коммерческое деловое поведение, как мы также смогли установить, нашло свое первое основательное развитие; здесь впервые проповедовались и культивировались мещанские добродетели такими людьми, как Альберта; здесь впервые развилась до полного расцвета отчетность в изложении Фибоначчио и Пачиуоли: здесь впервые, чтобы упомянуть еще и об этом, достиг богатейшего развития статистический подход к вещам: Буркгардт сравнивает статистическую запись одного флорентийца от 1442 г. с одной венецианской статистической, происходящей почти от того же времени, и полагает: эта последняя показывает, конечно, гораздо большие владения, наживу и сферу действий; «однако кто не признает во флорентийской записи более высокого духа?». Он говорит в связи с этим «о прирожденном таланте флорентийцев к учету всей внешней природы».
Этому капиталистическому великолепию наступает, однако, довольно быстрый конец. Правда, счетный дух и дух экономии остаются теми же самыми; больше того, они в течение XVI и XVII столетий, как мы это могли усмотреть у писателей того времени, еще далее развиваются. Но предпринимательский дух ослабает. Мы совершенно ясно можем проследить, как в Южной Италии уже с конца XV столетия, а в остальных частях страны с XVI столетия радость от наживы и деловое трудолюбие уступают место спокойному, полусеньориальному, полурантьерскому образу жизни.
В одном южноитальянском городке (Ла-Кава) жалуются еще до 1500 г.: богатство города вошло в поговорку, пока там жили только каменщики и суконщики; теперь же, когда вместо принадлежностей каменщиков и ткацких станков видишь только шпоры, стремена и золоченые пояса, когда каждый стремится стать доктором прав или медицины, нотариусом, офицером или рыцарем, пришла горькая нищета (180).
Во Флоренции подобное же развитие в направлении феодализации, или, как это называли, «гиспанизации», жизни, «основными элементами которой были презрение к работе и жажда дворянских титулов», начинается при Козимо, первом великом герцоге: его благодарили за то, что он привлекает молодых людей, которые презирали теперь торговлю и промыслы, к рыцарству в свой орден св. Стефана. Как раз во Флоренции проявляется всеобщее стремление богатых к рыцарскому достоинству, которого жаждали прежде всего потому, что оно одно давало право на участие в турнирах. А турниры переживали как раз снова во Флоренции сильный, хотя и запоздалый расцвет. Приспособили себе – чисто по-мещански – менее опасную форму турнира, которой и предавались со страстью, не отдавая себе отчета, какую карикатуру представляло это смешение мещанства и феодализма. Уже первые Медичи принимаются за турниры «с истинной страстью, точно желая показать, они не дворяне, частные люди, но окружающее их приятное общество стоит наравне с любым двором» (181).
И в остальных верхнеитальянских городах, начиная с XVI столетия, возникает подобное же развитие. Если идеалом разбогатевшего буржуа становился рыцарь, то люди среднего достатка стремились к спокойной жизни рантье, если возможно, то в вилле: «una vita temperata», «uno stato pacifico»61 восхвалялись как истинные ценности. Это тон, на который, например, настроены все те многочисленные сочинения по сельскому хозяйству, с некоторыми выдержками (182) из которых мы уже ознакомились.
2. Пиренейский полуостров
В некоторых городах Пиренейского полуострова капитализм также представляется рано расцветшим. То, что нас известно из средних веков о Барселоне, ее торговом и морском праве (а известно очень немногое), позволяет вывести заключение, что здесь по крайней мере уже в XIV столетии имело место сильное проникновение в деловой мир капиталистического духа. Наше внимание обращается затем снова к событиям в Португалии и Испании, когда в XV столетии учащаются путешествия с целью открытий, приводящие в конце концов к обоим великим географическим открытиям к конце XV столетия. Нет сомнения, что тогда широкие круги населения в приморских городах Пиренейского полуострова одушевляла ненасытная жажда золота, но также и смелый предпринимательский дух, и оба эти фактора в течение XVI столетия в завоевательных походах в Америку и в колонизации новой части света достигают большой силы и созидательной способности. Но этими завоевательными походами и колонизационными предприятиями капиталистический дух испанцев и португальцев отнюдь не исчерпывался: мы видим, что лиссабонские купцы ведут торговлю со вновь открытыми и приближенными областями Запада и Востока – торговлю, которая по объему, во всяком случае, далеко превосходила итальянскую; мы видим, что севильцы нагружают привозящие серебро корабли в обратный путь товарами. Мы встречаем, однако, в XVI столетии в различных местах широко распространенную промышленность, которая позволяет сделает заключение о достаточно значительном развитии капиталистического духа. В Севилье стучало 16 000 ткацких станков, которые давали работу 130 000 людей (183); Толедо перерабатывал 430 000 фунтов шелка, причем 38 484 человека находили себе занятие; значительные шелковые и шерстяные мануфактуры мы находим в Сеговии (184) и т. д.
А потом в XVII столетии наступает полное оцепенение, о котором так часто рассказывалось. Предпринимательский дух ослабевает, деловые интересы угасают: дух нации отчуждается от всего хозяйственного и обращается к церковным и придворным или рыцарским делам. Как на земледелии, так и на торговле тяготело теперь пятно занятия, не подобающего человеку хорошего рода. Это было то, что казалось иностранному наблюдателю – итальянцу, нидерландцу, французу, англичанину – таким непонятным, что они обозначили это испанской ленью. «У всех, – говорит Гвиччиардини, – в голове дворянское самомнение. В 1523 г. кортесы принесли просьбу королю, чтобы каждый испанец мог носить шпагу; два года спустя они произносят великое слово, что гийосдальго лучшей природы, чем плательщики податей» (185). Гийосдальго рассматривались как истинное зерно нации: государственные должности предоставлялись им; города были недовольны, если кто-нибудь, занимавшийся промыслами, делался у них коррегидором; кортесы Арагоны не потерпели бы в своей среде никого, кто когда-нибудь занимался куплей-продажей; коротко говоря, благоволение общественного мнения было обращено на сословие гийосдальго. Каждый желал вести свою жизнь, как они, в высокой чести и без тягостного труда. Бесчисленное множество людей предъявляли справедливые и вымышленные притязания на привилегии гидальквии; об этом шло столько споров, что в каждом суде всегда для них была предоставлена суббота; она использовалась целиком, и все же ее часто не хватало. Естественно, что впоследствии образовалось вообще известное отвращение против ремесла и торгового занятия, против промышленности и трудолюбия. (Ранке, у которого я заимствую эти строки (186), продолжает затем, что нас, однако, уже совершенно не касается: «Разве это уже так безусловно прекрасно и похвально – посвятить свои дни занятиям, которые, будучи сами по себе незначительными, все же заставляют посвящать всю жизнь на то, чтобы наживать деньги от других? Лишь бы только вообще заниматься благородным и хорошим делом!») «С материальными интересами дело обстоит так же, как и с другими людскими делами. Что не пустит живых корней в духе нации, не может достичь истинного расцвета. Испанцы жили и творили в идее католического культа и иерархического мировоззрения; использовать его как можно шире они считали своим призванием; их гордость состояла в том, чтобы удержать то положении, которое делало их к тому способными; впрочем, они стремились наслаждаться жизнью в веселом времяпрепровождении, без тягот. К трудолюбию и наживе путем прилежного труда они не питали никакой склонности» (187).
Доказательства совершенно чуждого капиталистическому духу стиля их жизни я приводил уже раньше: см. выше с. 107. И в колониях, где поселились испанцы и португальцы, стал скоро господствовать тот же дух (188).
3. Франция
Франция во все времена была богата крупными и гениальными предпринимателями преимущественно спекулятивного духа: быстрыми, всеобъемлющими в своих планах, решительно действующими, полными фантазии, немного хвастливыми, преисполненными увлечения и подъема, что достаточно часто ставит их в опасность потерпеть крушение или даже кончить тюрьмою, если они раньше еще не ослабли или не были сломлены физически. Таким типом был Жак Кёр, живший в XV столетии, – тот человек, который силой своей гениальной личности на короткое время привел в состояние блестящего расцвета французскую крупную торговлю. Он владеет семью галерами, дает работу 300 факторам и поддерживает сношения со всеми большими приморскими городами мира. «Милость, которою он пользовался у короля (он был казначеем Карла VII), приносила пользу его коммерческим предприятиям в такой мере, что никакой другой французский купец не мог с ним конкурировать. Более того, контора этого одного человека представляла собою мировую торговую силу, которая соперничала с венецианцами, генуэзцами и каталонцами». Суммы, которые он собирал в этой торговле, а также и путем некоторых не совсем безукоризненных финансовых операций, он употреблял на то, чтобы сделать весь двор своим «должником» и тем самым, в конце концов, своим врагом, Конец его известен: обвиненный в государственной измене, в подделке монеты и т. д., он арестован, лишается своего имущества и подвергается изгнанию.
Вполне родственное явление представляет в эпоху Людовика XIV великий Фукэ и эти авантюристы-спекулянты весьма крупного калибра, рядом с которыми многочисленные мелкие ведут свое дело в подобном же духе, остались до наших дней – до Лессепсов и Бонкуров, Рошфоров, Эмберов и Депердюссенов – особенностью Франции! Саккары!
Немножко жестоко, но в основе метко охарактеризовал этот несколько «ветреный» характер предпринимательства своих соотечественников уже Монтень, сказав о них однажды: «Я боюсь, что глаза наши больше нашего желудка; и у нас (при завладении новой страной) больше любопытства, чем постоянства: мы обнимаем все, но в наших руках ничего не остается, кроме ветра» (189).
Здесь нет противоречия, если мы в то же время во Франции со времени Кольбера до сегодняшнего дня слышим трогательные жалобы о «недостатке предпринимательского духа» у французского коммерсанта. Эти жалобы, очевидно, относятся, к большой массе средних купцов и промышленников и к «солидным», хотя и обладающим более далекой перспективой предприятиям. «У наших купцов, – жалуется Кольбер, – нет никакой инициативы, чтобы браться за вещи, которые им не знакомы» (190). Какой труд затрачивал этот в самом истинном смысле «предприимчивый» государственный человек, чтобы преодолеть косность своих соотечественников, когда дело шло, например, об основании заморской компании, как «Compagnie des Indes Orientates»! Тут устраиваются заседания за заседаниями (с 21 по 26 мая 1664 г. – три), в которых богатых и влиятельных купцов и промышленников обрабатывают, чтобы они решились подписаться на акции (191) (то же и ныне, когда «Научная академия» или «Восточное общество» должны быть основаны на добровольные взносы богатых людей).
Прочтите книги Сайу, Блонделя и других основательных знатоков французской хозяйственной жизни, и вы увидите, что они настроены на тот же тон, что и заявления Кольбера.
Косным, даже ленивым слыл французский коммерсант – прежнего времени. «Патриотический купец», с которым мы уже частенько встречались на нашем пути (192), жалуется в середине XVIII столетия на то, что во французских предприятиях так мало работают; он бы хотел, чтобы его сын работал «день и ночь», «вместо двух (!) часов в день, как это обычно во Франции». Впрочем, книга сама служит доказательством, что дух Франклина во Франции того времени далеко не у всех купцов пустил корни: она полна романических идей, полна увлечения, полна рыцарских склонностей – несмотря на ее тоску по американскому укладу жизни.
Этому слабо развитому капиталистическому духу соответствуют (и соответствовали: дух французской нации в этом отношении в течение последних столетий остался поразительно неизменным) положительные идеалы французского народа. Тут мы встречаем (по крайней мере еще в XVIII столетии), с одной стороны, сильно выраженные сеньориальные склонности. Мы снова читаем, как наш свидетель, патриотический купец, горько жалуется на эту роковую склонность своих соотечественников к расточительной жизни; на то, что они, вместо того чтобы вложить свое богатство в капиталистические предприятия, употребляют его на ненужные расходы для роскоши – и это причина, почему во Франции за ссужаемый капитал в торговле и промышленности приходится платить 5–6%, тогда как в Голландии и Англии его можно получить за 2,5–3%. Он полагает, что ссуды деловому миру за 3% гораздо выгоднее и разумнее, чем «покупка этих прекрасных на вид имений, которые не приносят ничего» (193).
С другой стороны, красной нитью проходит через всю французскую хозяйственную историю задержка развития капитализма вследствие другой особенности или, как говорят враждебно настроенные к капитализму судьи, дурной привычки французского народа – его предпочтения обеспеченного (и уважаемого) положения чиновника. Эта «язва погони за должностями» («la plaie du fonctionnarisme»), как ее называет один рассудительный историограф французской торговли (194), французское чиновничье безумие («la folie frangaise des offices»), как определяет другой, не менее богатый показаниями автор (195), с которым соединено презрение к промышленным и коммерческим профессиями («le dedain des carrieres industrielles et commerciales»), начинается с XVI столетия и не исчезла еще и сегодня. Она показывает незначительную силу, которую имел во Франции капиталистический дух с давних пор: кто только мог, удалялся от деловой жизни или избегал в нее вступать и употреблял свое имущество, чтобы купить себе должность (что вплоть до XVIII столетия было повсюду возможно). История Франции – доказательство распространения этого обычная на все свои населения.
В тесной связи с такого рода склонностями стоит – что можно с одинаковым правом рассматривать как причину и как следствие – то слабое уважение, с которым во Франции относились к торговле и промышленности, можно уверенно сказать, до июльской монархии. Я не имею при этом в виду ни того, что богатые стремились к дворянству, ни того, что дворянство до конца XVIII столетия рассматривалось также и как социально привилегированное сословие, ни даже законодательного предписания, которым купеческое состояние лишалось прав дворянства («deroger») (такое представление было обычным и в Англии и, в сущности, ведь еще не совсем исчезло и ныне). Нет, я разумею ту оскорбительно низкую оценку торговой и коммерческой деятельности, те оскорбительно пренебрежительные отзывы о ее социальной ценности, которые мы в такой ярко выраженной форме вплоть до XVIII столетия встречаем (кроме Испании), пожалуй, только во Франции.
Если хороший знаток характеризует настроение верхних общественных слоев Франции в XVI столетии словами: «Если есть на свете презрение, то оно относится к купцу» («s'il a mepris au monde, il est sur ie marchand» (196), то это уже не было бы применимо относительно Англии того времени (в то время как для Германии, как мы еще увидим, это могло бы иметь применение); заявление же, подобное заявлению Монтескье (и оно не является единичным), в середине XVIII столетия было бы немыслимо даже в Германии того времени: «Все погибнет, если выгодная профессия финансиста обещает стать еще и уважаемой профессией. Тогда отвращение охватит все другие сословия, честь потеряет все свое значение, медленные и естественные способы выдвинуться не будут применимы и правительство будет потрясено в своих коренных основах» (197).
4. Германия
Что в Германии капиталистических дух начал развиваться и распространяться в эпоху Фуггеров (а может быть, кое-где уже и раньше), это мы не можем подвергнуть сомнению. Главным образом мы наблюдаем здесь отважное предпринимательство, которое наряду с осторожной купеческой торговлей и «закладничеством» составляет характерную черту того времени.
Но я хотел бы предостеречь от переоценки, хотел бы совершенно прогнать представление, будто капиталистический дух в Германии даже в XVI столетии достиг такой высокой степени и широты развития, которая бы допускала хотя бы отдаленнейшее сравнение со степенью развития капитализма, например, в итальянских городах уже в XIV столетии.
То, в чем мы должны отдать себе отчет, чтобы правильно судить о состоянии капиталистического духа в Германии, скажем, в XVI столетии (когда, по общему признанию, его развитие достигло зенита), – это главным образом следующее.
1. Всегда могли существовать совершенно единичные случаи, в которых проявлялась капиталистическая природа. «Общественное мнение», интеллигенция, передовые умы в своих суждениях согласно и притом категорически отвергают всякое проявление нового духа. То, как Лютер отзывается о «фуггерстве»62, доказывает это так же, как и заявления таких людей, как Ульрих фон Гуттен и Эразм Роттердамский (198). Но эти воззрения вовсе не ограничиваются кругом дворянства и ученых. Они были вполне народными. Себастьян Франк перевел сочинение Эразма (199), и перевод имел большой успех. Трактар Цицерона «Об обязанностях», в котором он делает известные заявления о низкой ценности «торговли» (в смысле барышничества), стал в этом столетии родом настольной книги благодаря огромному распространению многочисленных его переводов (200). Все это позволяет заключить о том, что капиталистическое мышление и оценка оставались еще только на поверхности немецкой народной души.








